Текст книги "Ковчег"
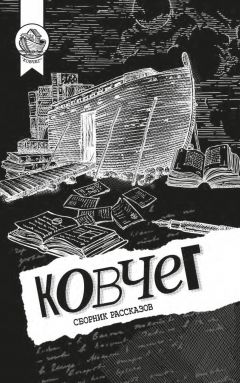
Автор книги: Коллектив авторов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 17 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Что могло случиться в этот раз, начальник не знал, и только хотел пригласить дамочку в кабинет, чтобы обязательно разобраться (а как иначе), принять меры к защите прав и свобод, разрешить заявления, удовлетворить просьбы, как женщина шавкой кинулась на полковника, угодив ему краем внушительной сумки куда-то в область груди.
«Что вы себе позволяете?» – хотел крикнуть начальник, но дамочка опередила и задала тот же вопрос.
– Вы хоть представляете, что теперь с вами будет? – продолжала она. – С вами, со всеми?! Да вы просто не знаете, кто я такая! Я вам устрою!
Полковник внимательно слушал и ждал, когда же она заключит и выдаст наконец ключевую правду. Но женщина, как и прежде, не договорила, ничего не устроив, ничего не показав, а зашагала важно к выходу, ругаясь и звеня.
Напуганный не меньше, чем первые заявители, дежурный встал по стойке смирно и, приметив кивок начальника, дал ноге слабину и продолжил стоять.
– Товарищ полковник (даже как-то «таа-рищ палковн…»), – заикаясь и пыхтя, проронил дежурный, – я пытался…
– Мы все пытались, – подтвердили опера.
– Мы хотели, но… – задали участковые.
– Мы не смогли, товарищ полковник, – подытожили пепеэсники.
Сотрудники ждали прописного грохота, но полковник пожал каждому руку и, выдохнув, подтвердил:
– Благодарю за службу, ребята.
Прижавшись к стенке родной конуры, лежала собака, потупив огромные, полные человечьих слез, глаза. Вытянув длинную белесую морду и спрятав под себя непослушный хвост, наблюдала, как приближается к ней начальник. Съежившись в жесткий комок, она почти вросла в голую землю, сжав здоровую пасть, не зная, как еще убедить полковника, что станет отныне молчать, что не позволит нарушить своим присутствием сложившийся полицейский устой. Быть может, она поняла даже, что ради хорошей службы можно и нужно чем-то пожертвовать.
Но полковник не знал, о чем думала бедная Ла-пуля.
Почесав ей где-то за ухом, лишь пообещал: «Мы обязательно что-нибудь придумаем. Все будет хорошо».

Юлия Алехина
Коляска
Вот, наконец – активистка в мохеровой шапочке движется вдоль очереди, выкрикивает номера. У меня на ладони, аккурат на бугре Юпитера, синей шариковой ручкой написано: 635. Четыре года я гадаю… Ну, в общем, я гадаю на всем. Белейшие финские листы испещрены черточками наравне с дряхлыми бумажными огрызками, которые месяцами пылятся на виду у всех, неся на себе неизвестно чьи телефоны. Техника тут не сложная: стараясь не считать в уме, быстро чертишь штрихи – сколько получится. Потом зачеркиваешь их – по два. «Любит – не любит, любит – не любит…» И если штрихов было четное количество, у вас получится «не любит». Поэтому все нечетные числа я уже воспринимаю как «хорошие». Мозги работают, словно счеты: щелк-щелк – номера машин; телефоны; часы и минуты на электронном циферблате… Часами простаиваю в черной августовской ночи, таращусь на небо, они так и сыплются из области Персея, но я вечно опаздываю с единственным своим желанием. При каждой возможности втискиваюсь между двумя Лешками или двумя Машками, тихо радуюсь, если вижу «счастливый» номер на автомобиле, вроде 39-61, в сумме сто, можно загадывать, но, когда до этого доходит дело, у меня не получается ничего, кроме «чтобы все были здоровы», дурацкое подсознание. Выходя из вагона метро, замечаю на табло: 19:19:05. Подождем немного: я торможу, а идущие сзади спотыкаются и наступают мне на пятки. 19:19:19! Чтобы все были здоровы!
И хорошо еще, когда хоть что-то трактуется однозначно. Потому что недавно произошла незадача с ромашкой, один лепесток был какой-то дефективный, усохший, и я пропустила его, методично обрывая остальные. «Любит – не любит – плюнет – поцелует – к сердцу прижмет – к черту пошлет…» В результате этот дефективный остался на желтой серединке, и без него получалось – «любит», а с ним – сами понимаете; и непонятно было, считается он или нет; опять проклятая неизвестность.
Господи! Верни мне дни, потраченные на рисование штрихов! – Шестьсот тридцать второй!
– Ерофеева!
– Шестьсот тридцать третий!
– Шустова!
– Шестьсот тридцать четвертый!
– Шестьсот тридцать четвертый! Вычеркиваю… Шестьсот тридцать пятый!
– Жильцова…
Число шестьсот тридцать три мне симпатично. Нечетное и в то же время округлое, завершенное. Таращусь в коричневую драповую спину. Шестьсот тридцать третья почувствовала – оборачивается. Ой! Сестра-близнец тетеньки из нашей Сберкассы. Ну очень похожа… Только не надо ничего говорить! Поздно…
– Девушка, вы не видели, какого они цвета? Нам бы синенькую. Внучок у меня, вчера дочку из роддома забрали… вот повезло, что колясочки выбросили.
– Не знаю я, правда. Да какая разница…
– Не скажите. Все путем должно быть. Мальчикам – синенькое, девочкам – красненькое…
Это я – Ирина Жильцова. Стою в очереди за немецкой детской коляской. Очередь, похоже, на целый день. А может, и не на один день. Мне бы надо на работу позвонить. И Пашке…
Мой Паша всегда занят, у него полно дел. И мне это так нравится, я терпеть не могу, когда мужик бездельничает, он давно бы уже защитил докторскую, но бесконечно пашет «на дядю», вечный соавтор институтского начальства, исполняющий обязанности всех, кого только можно, какой уже год без отпуска… «Что за тебя, который делом занят, не умереть хочу, а умирать…»
Шестьсот тридцать третий номер искательно поглядывает на меня.
– Девушка! А вы не уйдете? Я бы отошла пеленки посмотреть!
– Нет, я постою.
– На полчасика… А вы заметили, в очереди одни женщины… Ну, хоть бы один мужик затесался. Ваш-то где?
– На работе.
– Н-да. А мой зятек третий день не просыхает. Ну, так я отойду на полчасика.
У меня располагающий вид. На улице не удается преодолеть и ста метров без того, чтобы кто-нибудь не спросил дорогу. Рекорд был зафиксирован, когда некая бесстрашная гражданка бежала через оживленную магистраль, уворачиваясь от автомобилей, чтобы обратиться ко мне с простым вопросом: «Девушка! Не подскажете, как пройти к Диагностическому центру?..» На противоположной стороне было вполне достаточно прохожих, да и к Диагностическому центру ей пришлось бежать обратным курсом, через ту же магистраль.
Теперь перед моими глазами маячит дубленка шестьсот тридцать второго номера. Механически отмечаю: трижды два будет шесть. Только не оборачивайся! Нет, уже обернулась и заглядывает в глаза.
– А мне подружка рассказывала, у ней сестра в Лондоне за дипломатом замужем, так вот, ихняя английская статистика убедительно показывает, что холостые мужчины живут меньше женатых, зато замужние женщины умирают раньше, чем одинокие. Буквально, отдаем им свои годы. В браке.
Я говорю что-то вроде «Уммм?» и поднимаю брови. Она понимает это как готовность к диалогу.
– Вы-то давно замужем?
– Я? Недавно.
Зачем было врать этой тетке? Я не замужем, и с тех пор, как я познакомилась с Пашей, замужество представляется чем-то все менее вероятным. Мне остается только вытатуировать его имя на внутренней стороне бедра или художественно выстричь на лобке – пусть любуется. Все равно – больше никого не предвидится. Я отравлена напрочь.
Четыре года назад поехали на шашлыки всей лабораторией. На вокзале, у электрички, Светка говорит: «А это – мой муж Паша». Я отвечаю: «Ира». Она поправляет: «Ириша».
У него глаза прозрачные, ясные. Ни пятнышка.
При этом умом я понимала и понимаю, что просто напялил мужик голубую рубашку, да к тому же солнце было яркое. Всем известный эффект. А при чем здесь ум… Уммм…
Вернулся коричневый драп.
– Что-то мы не двигаемся совсем… Я за пеленками очередь заняла. Вам не надо?
– Нет, спасибо.
Вступает шестьсот тридцать вторая:
– У нас-то есть уже коляска, отечественная, от старшей дочки осталась, от сынка ее. Ну, что сказать… Вроде на танковом заводе их делают, из отходов брони и стали. Тяжелые и в лифт не помещаются… А эти – такая прелесть. Легонькие, корзиночка вынимается… Немецкие. Моя Люба все мечтала: мама, вот бы такую колясочку. Уж я постою для нее. А вам – для девочки, для мальчика?
– А? Для… для девочки…
– Нуу… Вам надо красненькую.
Они сговорились… Общайтесь друг с другом – у вас должно получиться…
Говорю коллегам – дубленке и драпу:
– Я отойду позвонить…
И отхожу. Звоню на работу, сообщаю Маринке:
– Тут очередь на весь день… Я не приеду сегодня, похоже.
А она мне в ответ:
– Слушай, Ир, сейчас облавы по магазинам устраивают. На всех, кто в рабочее время по очередям.
Я отвечаю:
– Ну и что ты предлагаешь?
А она говорит:
– Да это я так… Молодец ты. Позвони вечером, что и как…
Я возвращаюсь в очередь. Там оживление. Коляски оказались голубыми, причем в цветочек, ручка фиксируется в трех положениях, верх непромокаемый. Те, у кого мальчики, ликуют, а те, у кого девочки, ищут утешения в наличии цветочков. Кроме того, пришла шестьсот тридцать четвертый номер и жалобно просит, чтобы ей позволили встать на свое место. Бедная девочка, наверно, студентка, в куртке какой-то детской, прошитой квадратиками, с сиротским воротничком из искусственного меха. Моим тетенькам «по барабану», они-то впереди стоят. А сзади раздается ропот в смысле:
– Больно умная, ты встань-ка в пять утра…
– Да я была здесь, – оправдывается девочка, – мне ребенка не с кем оставить…
Тихонько отодвигаюсь от Шустовой в драпе, и эта студентка аккуратно вписывается между нами. И говорит мне:
– Спасибо. – И продолжает: – Андрюша с утра на молочную кухню бегал, потом у него был зачет, а меня соседка обещала отпустить и не пришла…
Я думаю: это просто сюрреализм… Кто такой Андрюша? Мы с Пашей живем близко – десять минут пешком.
Шла я по улице и слышу – окликает кто-то: «Ира!» Поворачиваюсь – батюшки, муж Светкин, сынка придерживает за руку. «Что это вы к нам не приходите никогда. Мне Света говорила, что вы подруги. Зашли бы как-нибудь. Я все вспоминаю, как мы с вами у костра песни пели…» Да, верно, удивительно совпал репертуар, сели рядышком и запели – будто всю жизнь этим только и занимались. Светка смеялась: «Глядите, они спелись!»
Он сказал: «Зашли бы как-нибудь…» Я заходила и заходила. В одну прекрасную летнюю субботу, зная, что Света с ребенком на даче, набрала их номер, послушала Пашин голос и осторожно положила трубку, говорить-то мне было нечего. А ровно через десять минут он звонил у моего порога.
Тот, самый первый раз, двадцать минут в миссионерской позиции. Неплохо, нежно, ласково. Крепко вдавив меня в одеяло, брошенное на пол, Паша шептал мне на ухо что-то вроде «давай-давай» и, кажется, был страшно доволен.
А на следующий день явился снова – столбить территорию. Я встретила его в джинсах.
«Подожди. Ко мне сейчас соседка зайдет за ключами», – говорила я, уклоняясь от нетерпеливых рук. «А ты пока надень юбочку. И сними трусики. Я тебя потрогаю. У тебя есть юбочка?»
Через полчаса я протягивала через порог ключи соседке, молча и строго глядя на нее, а на самом деле пытаясь сфокусироваться на ее лице, смутно маячащем сквозь марево моего желания. «Вот, пжалста». Возможно, я оставляла на полу мокрые следы… Он широко улыбался, поднимаясь с дивана, торжественно нес свои руки в ванную.
Это же пошлость, просто-напросто пошлость, такой вот летний роман в отсутствие супруги; через неделю, встретив дружное семейство на улице, я подумала, что немедленно умру, провалюсь под асфальт. А позже выяснилось, что и с этим жить можно; и вот уже четыре года я живу, не умираю.
Вначале Паша дарил мне цветы и книги; сейчас – новомодный электрический чайник, кофемолку и деньги. Зимой он бранит меня за то, что я слишком легко одеваюсь; летом – режет персики ломтиками и кормит меня с кончиков пальцев; а я выкладываю на блюдо крупную желтую черешню, обрамляя ее красной клубникой.
А Света звонит ему с работы по нескольку раз в день: «Смотри не задерживайся. И хлеба не забудь». Все у меня внутри сжимается, руки дрожат, отказываются провести ровную линию. Хоть бы никто со мной не заговаривал. Потому что я и с голосом, скорее всего, не справлюсь. Она рассказывает: «Пашка мне из Свердловска сапоги привез. Все-таки у них там, на заводах, хоть какое-то снабжение. Ириша, ты слышишь?»
У меня полная сумка успокоительных – съесть таблетку тазепама мне так же просто и привычно, как выпить чашку чаю. Бравирую перед Пашей: вот до чего ты довел меня, я глотаю их, словно витаминки, по ночам не сплю, днем клюю носом, ха – смотри, ведь я гибну. У него на это есть ответ: «Это не я тебя довел, это ты сама, прекрати себя накручивать, зачем только ты пьешь эту гадость, травишь себя, вот от этого крыша и съезжает. Выпей лучше чайку зеленого и спать ложись». И еще: «Зайка, у меня с женой давно ничего нет. Только ради ребенка и живу там… Да если хочешь знать, мы с ней уже полгода спим в разных комнатах». А у меня сомнения, я ведь бывала в их доме; и по всему выходит, что негде там спать в разных комнатах. Если только он раскладушку на ночь ставит…
Света говорит: «Отправили Ванюшку на недельку к маме. Жара такая в квартире – мы просто голые ходим, в чем мать родила. Пашка как с цепи сорвался – такой шалун. Я прямо удивляюсь, восемь лет женаты».
Можно взять да и поверить в то, во что хочется верить. Из поступающей противоречивой информации мозг услужливо отберет нужные кусочки. Можно мучиться, перебирая аргументы «за» и «против». А можно просто, встряхнув головой, посмотреть в лицо правде – ведь на самом деле мы всегда знаем правду.
Я отключаю телефон, потом включаю; тяжело молчу, зло упрекаю, а под конец – плачу и жалуюсь. В ответ слышу: «Не бери в голову…» И это последняя капля. «Ах, в голову?.. Не бери в голову?.. Это ты мне говоришь?.. При чем тут голова? Я взяла тебя в сердце…»
Я притворяюсь перед самой собой, что не люблю Пашу, иногда мне удается сохранить это ощущение добрых минут десять. Если бы существовал способ поместить в зеркало отражение горящей свечи, ничего другого не осталось бы, кроме как самой свечке материализоваться перед зеркалом, в противном случае законы мироздания полетят в тартарары. Кое в чем я уже преуспела, однажды за день до зарплаты усиленно вызывала перед собственным внутренним взором образ мятой десятки, завалившейся за подкладку в сумке, и действительно – она оказались там, где я наивно и доверчиво ожидала увидеть ее. Работаем дальше.
Студентка переступает с ноги на ногу. Нет у нее пока спасительного навыка – впадать в очереди в сонное отупение. Вытаскивает из пакета тетрадку, видимо, конспект, и утыкается в нее с деловым видом. Мне нужно размяться. Ничего интересного, кроме витрины с детскими книжками, в поле зрения не наблюдается. Я беру с прилавка и рассеянно перелистываю бледно изданный «Животный мир». Книга открывается на статье «Перелетные птицы». «Перелетные птицы должны быть выносливы. Ласточки без остановки пролетают до двух с половиной тысяч километров, летя на зимовку из Европы в Северную Африку, белокрылые ржанки – четыре тысячи, не имея возможности сделать остановку на пути с Аляски на Гавайи; а полярные крачки – двадцать тысяч километров от Северного Ледовитого океана до ледовой кромки Антарктиды и обратно, но в пути они делают привалы…»
Так, с ласточками и ржанками все более-менее ясно, на зимовку – в теплые края. Но полярные крачки… Если они до такой степени любят холод, какого черта мотаются туда-сюда, с полюса на полюс, через тропики, субтропики и экватор? К чему все эти мучения? Сидели бы уже, что ли, на ледовой кромке Антарктиды. Там вроде всегда погода одинаковая. Безмозглые птицы. Мне становится весело, не одна я такая.
– Четыреста семьдесят первый!
– Ерофеева!
– Четыреста семьдесят второй!
– Шустова!
– Четыреста семьдесят третий!
– Либерман!
– Четыреста семьдесят четвертый!
– Жильцова…
Студентка Либерман улыбается, показывая крупноватые передние зубы, и сообщает:
– Мне на химпрактикум через час, пропускать не разрешают, если пропустишь – потом отработка. Меня Андрюша подменит. А вы меня выкликнете, если что?
– Выкликну, – говорю.
– А вы не уйдете? Вместо вас муж не придет?
– Не придет…
В постели я склоняюсь над Пашкой, обнимаю его левой рукой за шею, а правую – сильную, рабочую, упираю ему в плечо. Я нагибаюсь поцеловать его. Наши поцелуи, бесконечные, полностью слившиеся дыханием, заставляют меня путать – где я, а где он. Сладкая изнанка щек, влажное нёбо, бугорки… Называются аль-ве-о-лы. Если провести по ним языком, делается щекотно. А тебе щекотно? Мне – нежно. Выпрямляюсь и вижу, как Паша самозабвенно тянется ко мне. И лицо у него детское. Чудесным образом разгладились морщины и складки. Я не могу больше выносить расстояния в тридцать сантиметров, разделяющего нас, прижимаюсь, обхватываю его обеими руками. Широкоплечий мужчина начинает казаться мне легким мальчиком, еще минута – и мы оторвемся от простыни и подушек; я взлечу, унося его в объятиях; улетим, вот сейчас улетим отсюда…
«Сколько времени?» – «Полчасика поспать можно». Я кладу голову ему на грудь и засыпаю, как классический шутейный мужик после полового акта. Просыпаюсь от шепота: «Лапочка, мне пора…» – «А? Мы спали? Долго?» – «Ну, один-то из нас спал».
Паша поправляет на мне одежду, кладет подбородок на мою макушку и тихо произносит: «На жизнь тебя хочу… С самого утра…» Я утыкаюсь лицом ему в плечо, я сжимаю зубы, я молча стискиваю руки у него за спиной.
А на работе Света говорит: «Ну что ты все одна да одна… Конечно, хорошего мужика найти непросто. Вот Паша, когда мы поженились, так любил меня, так заботился, не позволял мне до помойного ведра даже дотрагиваться. Сейчас уже не то, конечно. Но, знаешь, лучше него у меня никого не было. Он сказочный любовник».
Я выхожу из очереди и нетвердой походкой направляюсь к телефону-автомату, нащупывая в кармане двушку…
– Павла Леонидовича пожалуйста… Это я, Ира.
– Ну, как дела, лапочка?
– Наверное, сегодня не достоюсь. Так медленно движемся.
– Бедненькая. Спасибо тебе, зайка… Что бы я без тебя делал… У меня народ, извини. Ты можешь перезвонить?
Бреду на свое место; рядом со студенткой Либерман стоит мальчик, по виду типичный «ботаник»; мне никогда такие не нравились.
– Вот, Андрюша меня сменить приехал.
Драп и дубленка пялятся на него, как две натуралистки в поисках новых биологических видов, он ежится. Супруги Либерман стеснительно, мимолетно, прижимаются щеками, она уходит; у них любовь и малыш; у него – зачет; у нее – химпрактикум. Наверное, жена рассказала Андрею, что это я помогла ей вернуться в очередь, он участливо смотрит на меня и говорит:
– У вас случилось что-нибудь? Пожалуйста, не плачьте… Вы погуляйте, а я вас выкликну. Вы с самого утра здесь?
– Да…
– Устали?
Добрый мальчик пытается незаметно оглядеть мою фигуру. Эх, милый, ничего ты не поймешь, такое у меня пальтишко; не зря же шутят, что весной беременных женщин на улицах становится больше. Я улыбаюсь ему: все нормально.
Пашка говорил мне: «Пойми. Мы давно уже чужие люди, просто родители общего ребенка, больше нас ничего не связывает. Моя женщина – ты».
Я спросила Свету за чаем: «Свет, а вы куда в отпуск поедете?» Я стараюсь поддерживать контакт – для конспирации, и – как ни смешно – мне нравится Света. И еще: мне важно было, что она скажет… По Пашиной версии выходило, что ребенка отправят к бабушке, а он, Паша, все лето будет подрабатывать… и следовали туманные намеки на возможные перемены в жизни. А перемены требуют денег. Света промямлила: «Да ты знаешь, пока неизвестно еще, поедем ли мы куда… У нас обстоятельства меняются…» Обстоятельства. Я вздрогнула, уронила ложечку и расплескала чай.
А она мечтательно протянула: «Ой, девчонки, все-таки в настоящей семье должно быть два ребенка. Так хочется девочку. Сыновья – они вырастают и уходят, а дочка – подружка на всю жизнь».
«Ну-ка, ну-ка, колись давай, – сказала Маринка, – то-то, я гляжу, ты с работы отпрашиваешься через день…» – «Три месяца уже, – покраснев, ответила Света, – я боялась сглазить…»
Андрей Либерман трясет меня за плечи, четко и раздельно выговаривает:
– Вам плохо… У Ани тоже такое было. Давайте выйдем на воздух.
А я отвечаю:
– Со мной все в порядке, я не для себя… Я для… подруги коляску покупаю. Она только родила, а Паша, ее муж… он очень занят, он в очередь записался, а стоять ему некогда. А мы с ней… работаем вместе… Я постою. Тем более, сейчас перекличка будет.
– Триста девяносто второй!
– Ерофеева!
– Триста девяносто третий!
– Шустова!
– Триста девяносто четвертый!
– Либерман.
– Триста девяносто пятый!
– Жильцова…
Это я, жалкая Ириша Жильцова, стою в очереди за немецкой коляской, голубой в цветочек, с непромокаемым верхом. Новая активистка в оренбургском платке говорит:
– Давайте номерочки перепишем.
И выводит у меня на ладони, аккурат на бугре Юпитера – триста девяносто пять. Если поделить на шесть, получится шестьдесят пять, и еще пять в остатке. «Любит – не любит – плюнет – поцелует – к сердцу прижмет…»
Лишь бы никому не было больно.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































