Текст книги "Ковчег"
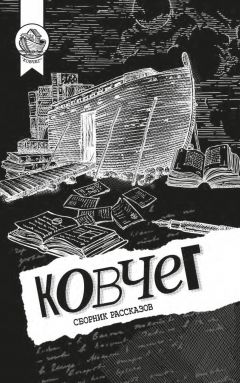
Автор книги: Коллектив авторов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 17 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Лекарство от любви, или Изыди, присуха стылая
Эта мысль приходит мне в голову все чаще и чаще. Дал бы мне кто-нибудь таблетку. Такую, чтобы проглотить, и – раз! – все прошло. Успехи медицины поразительны: придумали лекарства от множества болезней, ранее считавшихся неизлечимыми. Изобрели вакцины от разнообразной заразы. Обнаружены ген старения и вирус, вызывающий усталость.
То, что происходит со мной, я расцениваю как болезнь. Значит, должно быть и лекарство. Помогите мне, люди в белых халатах. Я затрудняюсь с выбором специалиста: кардиолог? сексопатолог? невропатолог?
Вот! «В нашем Диагностическом центре ведет прием врач-нейропсихоневролог Приходько К. О. Кандидат медицинских наук. Диагностика и лечение навязчивых состояний. Консультация – 300 руб.»
Мне кажется, такой специалист должен врачевать горе от ума. Не мой случай. Но попытаться можно.
В кабинете меня встречает крупный лысый мужчина с усталым, но неприветливым лицом бывшего борца. Я протягиваю корешок квитанции.
– Садитесь, женщина, – бурчит он и начинает заполнять карту. – Ну, и с чем вы пришли, женщина? – спрашивает он, хотя только что записал мое имя.
– Вот, у меня… любовь… – докладываю я, робея. Слишком сильная. Мне больно все время. Сделайте что-нибудь.
– Больно? А где конкретно больно?
Я молча показываю на сердце.
– Еще что беспокоит?
– Есть не могу, – говорю я и уже начинаю плакать. – Пища застревает в горле. Особенно в последнее время. За две недели похудела на шесть килограммов.
– Ну, об этом как раз многие мечтают. Еще есть жалобы?
– Спать не могу. Лежу и трясусь. Замерзаю.
– Второе одеяло возьмите, женщина, – говорит он назидательно. – И давно это у вас?
– Третий год уже. Сейчас стало совсем плохо.
– Ну хорошо, женщина. – Он выписывает рецепт. – Попринимайте вот эти таблетки. Три раза в день после еды. Через две недели ко мне.
* * *
Через две недели я сижу напротив него. Прозрачная до святости.
– Я принимала ваши таблетки, – говорю я, шмыгая носом. – Спать хотелось все время. Потом таблетки кончились, и вот – мне стало еще хуже. Гораздо, доктор. Мне еще больнее.
– Ну, понятно, женщина. Таблетки лечат, конечно, не причину, а только следствие. Давайте подождем, я думаю, скоро все само пройдет.
– Что вы, доктор, – шепчу я в ужасе. – Оно само не проходит. Мне все хуже и хуже.
– Ну, а от меня конкретно вы что хотите, женщина?
– Я видела в фильме «Полет над гнездом кукушки», – говорю я, волнуясь. – Там герою сделали операцию. Лоботомию. Электрошок.
– Да вы что, женщина! – орет он, багровея. – Хотите, чтобы я из вас, здоровой, больную сделал?
– Какая же я здоровая, – рыдаю я. – Меня с работы скоро выгонят, шеф косо смотрит. Ребенок весь в двойках. Я хочу снова жить нормально. Как все.
Он мрачно шелестит амбулаторными картами, и я понимаю, что ловить здесь мне нечего.
* * *
«Кодирую по Довженко. Алкоголизм, наркомания, табакокурение, другие вредные привычки. Дипломированный специалист, врач-нарколог, кандидат наук Осипов Е. Д.» Интересуюсь по телефону ценой. Первичный прием – шестьсот рублей.
– Здравствуйте. – Молодой стройный красавец со смуглой кожей странного оливкового оттенка встречает меня прямо у дверей. Провожает к своему столу и весь обращается в слух.
– Евгений Дмитриевич, закодируйте меня от любви. У Карнеги я читала, что, если обращаться к человеку по имени, вероятность успеха при контакте возрастает многократно. Евгений Дмитриевич роняет ручку. Кажется, он решил, что я его тайная поклонница.
– Вот так сразу и закодировать? А что, любовь так мешает вам жить?
– Мешает страшно, – говорю я и опять начинаю сморкаться. Затягиваю свое привычное: «Есть не могу, спать не могу, работать не могу, ребенка запустила…»
Вспоминаю при этом почему-то Колобка: «Я от дедушки ушел, я от бабушки ушел».
– Это точно болезнь, доктор. Это ненормально. Со мной такого никогда еще не было.
– Так-так, – бормочет он. – А лет вам сколько?
– Тридцать семь.
– О, – говорит он восхищенно. – Вам столько ни за что не дашь. Вы выглядите как девочка.
– Если это продлится еще месяц-другой, – угрожаю я, – меня мама родная не узнает.
– Да, вы бледненькая…
– А вы – зеленый, – сообщаю я, демонстрируя свою неадекватность.
– Ну, это у меня всегда… Но вы действительно бледноваты. Гемоглобин, вероятно… А ваш, гм… объект, он что же, не отвечает вам взаимностью?
– Не знаю. Кажется, нет. Это уже не важно. Я правда больна, доктор.
Сквозь навернувшиеся слезы я вижу, как гаснет в его глазах начавшая было разгораться искра мужского интереса. Нечего и думать понравиться кому-то в подобном состоянии.
– Вам, моя дорогая, надо к психоаналитику, – сочувственно говорит он. – А мне такие состояния кодировать не приходилось. Да и опасно это, мало ли какие осложнения могут быть. У вас психика хрупкая.
– Никогда она не была хрупкой. Просто это болезнь.
Он пожимает плечами, и я понимаю, что пора и честь знать. За дверью его ждут привычные сизоносые пациенты, бережно поддерживаемые женами, и юноши со стеклянными глазами. Что за дискриминация?! Я не понимаю, чем я хуже тех же алкоголиков. Я тоже не могу самостоятельно справиться со своей слабостью, снова и снова возвращаясь в растительное состояние. Причем мне для этого даже пить не надо.
* * *
Возможно, проблема частично заключается в том, что врач-мужчина не в состоянии понять меня. Через подружку я выхожу на психоаналитика Наталью Александровну, которая «уже многим помогла». Тридцать долларов сеанс.
Наталья Александровна – милая девушка в очках. Мне становится заметно легче уже от одной ее улыбки. Я ложусь на мягкую белую кушетку. Она садится рядом и молча смотрит на меня. Я физически жажду, чтобы она положила мне руку на лоб. Она начинает расспрашивать меня о подробностях моего романа. Она говорит мне:
– Вы просто сгусток боли. С вами рядом даже мне нелегко находиться. Все ваше существо молит о помощи. Но надо ли вам избавляться от вашего чувства? Я знаю десятки женщин, которые дорого заплатили бы, чтобы научиться чувствовать так, как вы. Это редкий дар. Мне кажется, вам просто нужно изменить свое отношение к ситуации. Я готова помочь вам в этом.
Я жалобно скулю, встаю с кушетки, чтобы продемонстрировать ей мешочек, образовавшийся на моих брюках сзади в результате прокалывания третьей за последний месяц дырочки на ремне. Это сильный ход. Мешочек производит впечатление.
– Да, похоже, вам пора задуматься о смене гардероба. Я в красках рассказываю, а затем и демонстрирую, как кусок застревает у меня в горле. Судя по тому, как она меняется в лице, у нее тоже начинаются спазмы. Она настойчиво укладывает меня назад, на кушетку.
– Ну, хорошо, хорошо, – успокаивает она меня. – Я буду с вами работать. Сначала мы должны как следует познакомиться.
Она расспрашивает меня о детстве, о юности, о замужестве.
Приходит к неожиданному выводу:
– Вы запрограммированы на несчастную любовь. Вы сами себе не позволяете стать счастливой. Вероятно, это родовой сценарий, унаследованный вами от кого-то из родителей. Это поправимо. Но знакомство нам предстоит долгое. Такие программы сдаются непросто.
– Наталья Александровна, – шепчу я, – с удовольствием. Мне с вами очень приятно общаться. А через сколько мне станет легче?
– Я думаю, что через полгода вы себя не узнаете. Внутри наступит мир, и жизнь наладится.
Я не выдержу полгода. Она назначает встречу на следующий вторник и провожает меня к двери, обнимая за плечи.
* * *
Сретение. Праздничная литургия в храме. Проповедник-златоуст отец Артемий. Глотая слезы, я слушаю о старце Симеоне и пророчице Анне, об их духовной чистоте и беспредельной кротости. Отец Артемий клеймит с амвона погрязшие в страстях ничтожные души. Меня пробирает до костей. Я не исповедуюсь, не иду к причастию. Тихонько выбираюсь на улицу. Свежий февральский снежок поскрипывает под моими грешными ногами.
* * *
«Православная целительница Бабушка Дарья соединяет судьбы неверных супругов. 100 % безгрешный приворот. Отворот».
Наконец я понимаю, что мне нужно. Отворот! Спрашиваю по телефону, за сколько сеансов он действует. Оказывается, за один. Сто долларов. К Бабушке Дарье запись на неделю вперед. Однако как много неверных супругов! Все равно это быстрее, чем полгода изживать семейный сценарий с Натальей Александровной.
Через неделю, поддерживая руками юбку и шаркая, чтобы не потерять сапоги, являюсь к Бабушке Дарье. Горят свечи, строго смотрят иконы. Благообразные тетеньки в платочках под руки ведут меня к Бабушке. На вид ей можно дать лет сорок пять, и у нее неожиданно цыганистый вид. Она спрашивает нараспев:
– Чего тебе, дочка?
– Отворот, – лепечу я.
– Хорошо, сердечко мое, – соглашается она. – Фотографию принесла?
– У меня нет.
– Ну ладно. – Она покладиста. – Без фотки сделаем. Что, сильно замучил?
– В каком смысле? Кто замучил?
– Ну, мужик этот. Которому отворот.
Я плачу. Потом справляюсь с собой. Да нет, говорю, это не он замучил. Это я его люблю и мучаюсь. Помогите.
– Так здесь не отворот, здесь приворот нужен. Вон ты кака у нас красавица. Щас он у нас мигом приползет.
– Ой, не надо, – пугаюсь я. – Пожалуйста, не надо. Я хочу только одного: чтобы прошла эта боль, чтобы все кончилось. Только этого.
Она во мне разочарована. Видно, что я кажусь ей недостаточно боевой.
– Ладно, – говорит, – есть способ. Щас подруг позову. Будем тебя отчитывать. Только это не отворот. Это остуда называется.
Честно говоря, мне все равно, как это называется.
Прибегают тетеньки в платочках, окружают меня плотным кольцом, начинают водить хоровод, читая молитвы и временами сбиваясь на нестройное пение. Движения их делаются все резвее, все быстрее мелькают их ноги в тапочках, и танец вызывает у меня неуместную ассоциацию с сиртаки.
Затем вступает Бабушка Дарья. Она речитативом читает странную мантру, в которой я отчетливо разбираю только три первых слова: «Изыди, присуха стылая…» В руках она держит толстенную горящую свечу. Закончив декламацию, она выливает жидкий воск в подставленную ассистентками миску с холодной водой. Воск причудливо застывает.
На прощанье вручает мне бумажку, на которой я вижу уже знакомые слова «Изыди, присуха стылая…», и подробно инструктирует, что делать дальше.
* * *
Придя домой, я трижды коленопреклоненно читаю «Присуху», сжигаю бумажку на свечке, так чтобы весь пепел падал на блюдечко. Размешиваю пепел в стакане молока, каковой выпиваю, продолжая повторять про себя крепко прицепившуюся «Присуху». Ложусь спать с надеждой.
Просыпаюсь ночью от страшной боли в желудке. Бабушка Дарья наверняка сказала бы, что это от безверья. Теперь мне действительно не до любви.
* * *
По дороге на работу нервно твержу «Присуху». Похоже, она будет со мной всегда. Других изменений в своем состоянии я не замечаю. Приходя, узнаю, что шеф наполовину срезал мне зарплату за фактический срыв квартального проекта. Все. Денег на врачей больше нет. Я машинально включаю компьютер, невидящими глазами уставляюсь в монитор. Руки сами ложатся на клавиатуру. Левая – на ФЫВА, правая – на ОЛДЖ. Поехали. Пальцы торопливо скачут. Правый средний, левый указательный вверх, левый указательный вверх влево, левый указательный, правый указательный влево, правый средний вниз, правый указательный вниз влево. Л-е-к-а-р-с-т-в-о о-т л-ю-б-в-и. Боль уходит, капля за каплей.

Валерий Петков
Саид
Вставал с кроватки.
Садился на коврик.
Вздыхал, закрывал глаза. Возникала пустыня.
Из любимого всеми фильма про бесстрашного красноармейца.
Согревал ладошками игрушку, желтую гуттаперчу выпуклых боков, шершавую гриву, крупитчатую, песчаную на ощупь, гладил осторожно по изогнутой длинной шее. Старался повторить все изгибы, неровности.
Прикасался к поводьям.
Говорил тихо, чтобы никто не узнал тайну.
Укладывал между горбов большие, деревянные прищепки, перевязанные бечевкой.
Поклажа.
– «Саид»! Мы обязательно спасемся! – шепотом.
Верблюд оживал, не был пустотелым. Косил на него глазом в ответ на человечье имя.
Их подстерегали страшные разбойники.
Они прятались в зарослях саксаула, в тени бархана. Острые, кривые ножи, длинноствольные ружья.
Халаты грязные, вата торчит неряшливо. Лица злые, черные от грязи, копоти костра, небритые. Длинные бороды спутались клоками.
Верблюд отлично бегает. Может обогнать скорый поезд. Надежный.
Трудно удержаться между подвижных горбов. Они опасно подкидывают тело, словно горячий уголек в ладонях. Дыхание спирает от стремительного бега, летучая погоня медленно, но верно отстает. Вопли остаются позади, стихают, только в животе верблюда что-то екает.
Потом верблюд переходит на рысь, скорый шаг, успокаивается и вот уже неторопливо, вперевалку вышагивает по песку.
Мальчик заполняет гуттаперчу любовью, как сосуд жидкостью – для жизни. Включает верблюда в круг самых близких, доверенных. Тех, кто наверняка придет на помощь в минуту смертельной опасности.
Мальчик худ и бледен. Плохо спал.
Ставит любимца на пол.
Так начинается утро.
Смотрит сверху и чуть-чуть со стороны.
Большой верблюд высокомерно косит на него карим глазом, плавно опускает бесцветный веер ресниц, и он, маленький бедуин, храбро вышагивает рядом, через раскаленную пустыню. Колючий песчаный ураган, засады разбойников, убийственное солнце, ночная стужа, змеи, скорпионы – врагов не сосчитать.
Ему душно, он прикрывает глаза.
Понимает, почему в замечательном верблюде все так устроено. Оно придумано с одной лишь целью – не погибнуть вдалеке от воды и людей.
Спастись самому и спасти еще хотя бы одну жизнь – человека.
Зимой мальчик заболел. Сидел на подоконнике, закутанный в теплое, с перевязанным горлом. Кашлял сухо и надсадно.
В другом углу подоконника – герань в горшке. Прикоснешься – пахнет лимоном. Окно по краям заплыло влажным, льдистым налетом. Сочилось в тепле. Пахло свежестью.
Прижимал к груди хрупкую гуттаперчу, проминал осторожно пальцами.
Увидел сразу. Так в фотографию проема окна, движением в кадре, вдруг входит реальность, и начинают проявляться темные предметы уличного пространства.
Длинный караван.
Беззвучно дышат верблюды, клубятся белым паром. Везут поклажу в ложбинах меж горбов – коробки, тюки.
Заиндевелые ноздри, белые крутые бока. Горбы колышутся в такт неспешных, размеренных шагов.
Рядом погонщики в валенках. Низкорослые, будто подростки. Белые овчинные тулупы до пят, взметают подолом, едва приметно, снег. Воротники высоченные. Рыжие треухи на головах. Редкие усики в легкой побелке инея.
Азиатские лица похожи на сжатый, темный кулачок. Понукают гортанно, что-то приказывают верблюдам, выпускают на волю белые клубы слов, но что говорят – не разобрать.
– Они шли из пустыни и заблудились?
– Монголы, – тихо говорит мама, – братская помощь. Мясо, масло, шкуры.
Печь на кухне негромко гудит, малиновые круги конфорок темнеют по краям бордовыми ободками. Он чувствует спиной легкое, уютное тепло, прислушивается к звукам из печного нутра.
Снаружи горлу горячо от плотного бинта, шерстяного шарфа. Внутри больно сглатывать. Холод от окна.
Он понял, что верблюды пришли со стороны грузовой станции.
Он рад им и волнуется.
Он все знает про них. Они пришли на выручку.
Большие верблюды.
Мама отнесла его в кровать. Накрыла одеялом. Поцеловала в щеку.
Он уснул в обнимку с «Саидом». Холмики горбов погрызены. Он ощущает их колкость кончиками пальцев. Шершавые, как губы, искусанные во время сильного жара.
Мальчик рос, взрослел, но еще не понимал, что же с ним происходит, и необъяснимо страдал от этого.
Болезнь убыстряет время, делает выпуклым все вокруг, потом сводит в одну точку, как большое увеличительное стекло на определенном расстоянии. Зыбкое, подвижное. В миражах высокой температуры караван уплывал в искаженную реальность, перетекал в неверность очертаний, переменял цвета от оранжевого до черного.
Местами кадры сильно обесцвечены, и кажется, что какие-то фрагменты утрачены совсем. Черное осыпалось невозвратно. Остался белый снег воспоминаний.
За ними, в глубине, что-то сместилось неявно, какие-то видения мгновенно меняются, нетерпеливые, как бенгальский огонь, но он старается успеть за ними взглядом, чтобы запомнить.
Ничего не получается.
Они растворяются друг в друге, эти странные видения, вспучиваясь бесшумной, обильной пеной, быстро видоизменяясь: формы, цвета, размеры.
Проснулся. Звон в ушах. Запах лекарств, болезни.
Остро чувствует запахи. Потраченного меха, лежалой одежды. Будто он в норе старого крота и где-то рядом спит ласточка.
Понял – так пахнет влажная от пота подушка.
Ночью выла вьюга. Мальчик метался беспокойно, скидывал одеяло. Ему казалось – волки догоняют караван в снежной круговерти. Все ближе, ближе. Вот сейчас вожак стаи сожмется серой пружиной, прыгнет на спину отстающему верблюду. Когтями – в горбы, переползет к горлу, вцепится.
Смертельно.
Мальчик выздоравливает.
Мучительно, пугаясь сильной слабости, пьет вкусный бульон, клюквенный морс. Проталкивает через больное горло.
Проголодался, но кушать боится. Боль терзает тело, в горле она не прошла совсем.
Самая красивая девочка в классе – умерла.
Слова – «эпидемия», «карантин» – запомнил навсегда. Борта грузовика откинуты. Яркий ковер, затейливая восточная пестрота, витиеватые письмена, арабская вязь перетекающих букв, присыпанная ломкой, слюдяной пылью редких снежинок.
Лицо девочки – белым парафином. На ресницы невесомо ложится снежная пыльца, искрится. Не тает. Кажется, она улыбается одними лишь уголками губ, сейчас откроет глаза.
Трудно в это поверить, но ужасно хочется, поэтому невозможно оторвать взгляд.
Напряженное ожидание – а вдруг…
Отец – военный летчик. Поперек маленького гробика дочери, с непокрытой головой.
Серая шинель.
Вскрикнул коротко, срывая голос. Затих, стараясь сдержаться.
Не получилось. Заскулил, тонко, ничего не видя кроме гроба, кроме дочери.
Он сейчас один в целом мире.
Военный летчик. Мужчина. Мальчик его не осуждает.
Он понял его горе.
Гроб подняли со школьных табуреток, принесенных из столовой. Четверо мужчин, непокрытые головы, в темных одеждах, как вороны на снегу.
Красные повязки.
Коричневые, растопыренные ножки табуреток, исчирканные черными отметинами многих подошв.
Венки в изножье гроба. Спиной к кабине – отец и мама девочки, в светлой шубке.
Машина медленно тронулась. Поплыла вправо, вниз, вывернула на шоссе. В сторону от поселка.
Маленькое, кукольное личико в белом орнаменте вспененного тюля слегка повернулось к толпе.
Спящая принцесса.
Страшный крик.
Мама девочки рухнула безвольно. Не успели подхватить. Приподняли.
Снег на рукаве, полах шубы, осыпался.
Умерла?
Замешкались.
Нет – показалось. Обморок.
Отец помогал загрузить носилки. Слезы на лице.
Увезли на «скорой».
Сирена долго не утихала, стучалась противно сквозь вату зимней шапки, лезла в уши звуковой волной.
Сидел рядом с гробом. Один. И смотрел, смотрел не отрываясь в неправдоподобно белое лицо дочери.
Воздух искрится мельчайшими, слюдяными искорками. Поварихи прильнули к окнам столовой, утирают глаза подолами фартуков. На фоне пара, жарких плит, больших алюминиевых баков с коричневыми иероглифами корявой кириллицы, огромных, плюющихся жиром сковородок.
Сами – большие, рыхлые, лица красные, словно фарш в эмалированном тазу. Неопрятно белые туловища в халатах.
Много людей – военные, родители учеников, начальство, педагоги.
Люди зловеще-темные на белом.
Венки из бумаги, цветного поролона, на каркасе из проволоки. Ленты перекручены, надписи плохо читаются.
Мальчик складывает буквы, пытается понять, что написано, хотя смысл понятен и так.
Отменили вторую смену. Привели весь класс – проститься. Стояли молча на взгорке, безутешно мерзли. Оркестр грянул в литавры. Оглушил звоном меди.
Внутри застыли колючие льдинки, и тело от этого могло взорваться в любую минуту, разлететься на тысячи мелких кристалликов.
Мальчик долго не мог согреться, растопить в себе стылый, бесформенный ком. И потом, много позже, что-то мешало это сделать.
Страшно.
Кто-то не выдержал, отрывисто всхлипнул, будто долго не дышал, испугался, что задохнется, и – вскрикнул от напряжения.
Тогда стали плакать еще, еще – многие. Теперь уже открыто.
Мама возмущалась вечером, рассказывала отцу:
– Кто это придумал? Взрослым – страшно. А тут – дети! Мальчик закрывал глаза, ему улыбалась живая девочка. Смотрела пристально.
Он видел ее лицо – близко, в пушистом венчике аккуратных косичек тугого плетения, с пробором посередине круглой головы. Красные ленточки, бантики из-за спины. И в свете от окна – отдельные волоски, ореолом.
Только лицо. Она что-то спросила, засмеялась беззвучно, лишь проявились ямочки на щеках.
Смотрел под ноги, краснел. Они сидели за одной партой. Он долго боялся темноты, одиночества.
Прижимал к груди «Саида». Первая игрушка на его памяти.
Мальчик проснулся. Резкий запах рыбьего жира. Манная каша, чай.
Его плотно укутали в теплую одежду. Пуховый платок завязали за спиной крест-накрест. Варежки на резинке через шею, под воротником зимнего пальто.
Неуклюжий. Он стеснялся женского пухового платка. Вышел на улицу. Долго стоял, привыкал к стеклянному царапанью морозного воздуха. Дышал в серый пух платка, наблюдал, как снаружи волоски становятся белыми, приметными.
Редкие, как у верблюда на нижней губе.
Неповоротливый водолаз в костюме для выживания на дне прозрачной плотности догорающего дня. Он стоял на морозе и хотел вернуться. Уйти из пустыни зимы.
Поселок, застывшие дома, выбеленные кристалликами инея, дым из труб – серыми столбами в небо.
К сильным морозам – так говорили дома.
Деревья, остолбеневшие, надолго замершие на холоде. Большие сугробы уменьшили улицу, сузили до тропинки. Канава сровнялась опасной коркой льда с дорогой.
Прошлым летом он сделал из тонкой резинки рогатку. Она надевалась на два пальца в виде буквы «V». Надо было срочно испытать. В канаве плавала утка с выводком утят.
Утка громко закрякала. Выводок суетливо кинулся за ней.
Один утенок замешкался. Мальчик прицелился и пулькой из гнутой алюминиевой проволоки попал ему точно в голову.
Утенок погиб. Мгновенно. Молча запрокинулся кверху лапками.
Мальчик кинулся в канаву, завяз в грязной жиже дна, в ужасе, забыв обо всем и ничего не видя вокруг, кроме блестящей поверхности воды.
Острый приступ горя. Настоящее потрясение.
Выловил утенка. Пока нес за сараи, ощущал остывающий комок, страдал, что ничего не может изменить.
Утенка не вернуть.
Вырыл ямку, закопал тельце. Сверху приспособил неуклюжий крестик из кленовых веток.
И плакал, плакал.
Хотел умереть здесь же. Верил, что умрет.
Это была его тайна. Мама не могла взять в толк, отчего он вдруг заболел, когда на улице тепло и солнечно.
Тайна преследовала его. Он несколько раз хотел рассказать отцу об этом случае, но все никак не мог собраться с духом.
Сейчас он опять вспомнил об этом, глядя на замерзшую канаву.
Ему стало тошно и жарко. И как тогда – безутешно.
Он посмотрел по сторонам.
На стене дома табличка, синяя эмаль. «Переулок Нагорный».
Почему «Нагорный»? Вокруг сплошная степь!
Все вокруг вмерзло в ледяное оцепенение.
Знал, что мама смотрит сейчас в окно.
Влага из глаз. Ресницы соприкоснулись, склеились. Мир вокруг, искаженный хрусталиками льда, смазался в неясную, влажную акварель.
Вдруг понял – он один. На всем видимом пространстве вокруг – никого. Как тогда – военный летчик в кузове с откинутыми бортами.
Вспотел. Смотрел по сторонам, не поворачивая головы. Где-то недалеко резко вскрикнул тепловоз. Громко лязгнули сцепки вагонов, гулко отозвался звук железа в морозном напряжении воздуха.
Мальчик вздрогнул.
Потом гудок повторился, долгим, протяжным переливом. Эхо откликнулось на несколько голосов, распалось на невидимые доли. Умчалось вглубь зимы.
Безлюдный виадук. Стылый, некрасивый, скользким, опасным горбом над железной дорогой.
Умирающий вдалеке перестук вагонных колес.
Стало пусто и неинтересно.
Он подумал, что после смерти девочки не женится, потому что сам умрет. Теперь уже скоро.
«Верблюдов не было видно, ушли в Монголию!» – решил он. По льду большой реки, в степь и дальше, через горы. Пустыня – их родина.
Дома, над его столом, географическая карта. По краям – желтые разводы холмов, отрогов, темно-коричневые к середине.
Это значит – горы высокие. Опасные.
Он вернулся домой.
«Саид» исчез. Необъяснимо.
Родители перерыли весь дом. Ничего не понимали, тревожились.
Ходили, молча, виновато перешептывались. Старались отвлечь и успокоить.
Он долго не мог уснуть. Злился на «Саида», потому что это несправедливо – бросить его одного.
Неслышно вошла в детскую мама. Поправила одеяло. Легко прикоснулась губами к щеке.
Прядь волос дотронулась до виска. Щекотно.
Он прислушался. Затаил дыхание. Ждал, когда она уйдет. Потом беззвучно заплакал. А хотелось – зареветь во весь голос от досады:
«Среди погонщиков скрывался волшебник. Он расколдовал “Саида”. Где теперь “Саид”?»
Он понял, что из пустыни возвращаются не все.

Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































