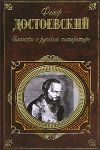Автор книги: Коллектив авторов
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 22 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Но в этом мире существует также Рахметов, «особенный человек», который живет для других, его действия связаны не с личной, а исключительно с общественной пользой. По той же самой логике, которую заметила И. Паперно, Чернышевский приписывает новому человеку не меньшую, а бóльшую приверженность гражданскому долгу, чем это было у старой дворянской элиты, к которой Рахметов и принадлежит по рождению. Согласно этой же логике, долг «особенного человека» проистекает не из нехватки (когда человек вынужден отдать то, что ему не принадлежит), а от избытка. Он должен только потому, что может. Любопытно, что Рахметов употребляет слова «должно» и «нужно» как синонимы, приравнивая долг и необходимость, но при этом необходимость вытекает не из нужды, а из возможности.
В этом смысле интересна также мотивировка «аскетизма» Рахметова. Он не ест то, чего не ест простой народ, но не в качестве некоего послушания или подражания народным страданиям, а, во-первых, потому, что не нужно есть то, без чего можно обойтись, а во-вторых, «для того, чтобы… чувствовать, насколько стеснена»309309
Чернышевский Н. Г. Что делать? С. 206.
[Закрыть] жизнь простых людей по сравнению с его жизнью. По той же причине он занимается наращиванием мышц и телесной дисциплиной, спит на гвоздях. Он делает это для испытания и расширения своих физических возможностей, а не для умерщвления плоти. Рахметов, целиком отдающий свое состояние и себя делу, представляет собой своего рода гибрид аскета и богатыря. Но Чернышевский показывает, что этот «аскетизм» кажущийся, потому что аскетизм – это пусть и благое, но все-таки отрицание, а отрицанию в его мире места нет. В этом смысле мне трудно согласиться с мыслью Уффельманна, что герои романа оспаривают аскетизм и жертвенность лишь на уровне идеологии, а в конкретных обстоятельствах то и дело прибегают к этим категориям, из‐за чего в романе создается атмосфера «жертвенной истерии»310310
Uffelmann D. Černysevskijs Opfer-Hysterie. S. 359.
[Закрыть]. По-моему, двойственность взгляда на аскетизм и жертвенность продиктована не лукавством Чернышевского, секуляризирующего религиозные категории и желающего выставить новых людей «святыми» прогресса и революции, а необходимостью пересмотра самих этих категорий как принадлежности «старого мира»: то, что в старой религиозной оптике кажется жертвой, оказывается выгодным предприятием. Это лишь внешне может напоминать христианскую логику посмертного воздаяния, поскольку последняя обязательно включает в себя негативность – реальное, а не иллюзорное переживание лишений и потерь (в противном случае жертва не имела бы ценности).
Мне кажется, что нет оснований не доверять Лопухову, который последовательно открещивается от того, что ему пришлось пожертвовать своей карьерой ради неотложного брака с Верой Павловной. Жертвенную логику он вообще считает заблуждением:
Вот и будет сокрушаться: «ах, какую он для меня принес жертву!» И не думал жертвовать. Не был до сих пор так глуп, чтобы приносить жертвы, – надеюсь, и никогда не буду. Как для меня лучше, так и сделал. Не такой человек, чтобы приносить жертвы. Да их и не бывает, никто и не приносит; это фальшивое понятие: жертва – сапоги всмятку. Как приятнее, так и поступаешь311311
Чернышевский Н. Г. Что делать? С. 98.
[Закрыть].
Тут мы видим характерную для романа двойственность оптики. Фраза «не такой человек, чтобы приносить жертвы» намекает на введенное в романе различие между «людьми обыкновенными» и «людьми особенными». И действительно, кажется, что «особенный человек» Рахметов (в отличие от Лопухова) и вправду жертвует личным счастьем, отказываясь от брака со спасенной им безымянной девятнадцатилетней вдовой. Между личной и общественной пользой как бы намечается конфликт. Но, во-первых, последствия этой «жертвы» для богатыря-аскета не так тяжелы, хотя, как свидетельствует автор, «месяца полтора или два, а может быть, и больше, Рахметов был мрачноватее обыкновенного»312312
Там же. С. 213.
[Закрыть]. А во-вторых, в результате и героиня, его возлюбленная, становится «особенным человеком». То есть и здесь у Чернышевского мы видим, во-первых, иллюзорность негативного эффекта жертвы, а во-вторых, сверхкомпенсацию: вместо одного «особенного человека» мы получаем двух. Таким образом, новые люди жертвуют собой, поскольку могут себе это позволить, а не потому, что должны это делать – не от нехватки, а от избытка. Тем самым роман Чернышевского стремится преодолеть складывающиеся в это время представления о связи дефицитарности и нигилистической направленности культуры нового поколения313313
Живов В. М. Разыскания в области истории и предыстории русской культуры. М.: Языки славянской культуры, 2002. С. 698–699.
[Закрыть].
Впоследствии параллелизм между этикой и экономикой не раз становился продуктивной повествовательной матрицей как для оппонентов романа, так и для тех, кто развивал его внутреннюю логику. Такие авторы, как Лесков, Достоевский, Гончаров, Тургенев, использовали сюжет «Что делать?» или его отдельные элементы для построения своих критических или идеальных моделей нравственной экономики новой эпохи.
Например, в целом ряде текстов Достоевского 1860–1870‐х годов мы находим пародийные и полемические эпизоды, отсылающие к роману Чернышевского. Достаточно назвать хрестоматийные примеры вроде «Записок из подполья», где этика личной пользы и «разумного эгоизма» вырождается в мрачный ресентимент, или «Преступление и наказание», где поэтика сновидений отсылает к снам Веры Павловны, главной антитеорией становится дифференциация людей на обыкновенных и необыкновенных, а благонамеренному «разумному эгоисту» Лужину Раскольников доказывает, что, согласно его утилитарной этике, «людей можно резать»314314
Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Т. 6. Л.: Наука, 1978. С. 118.
[Закрыть]. Достоевский акцентирует внимание именно на том, что упорно нивелирует Чернышевский, – на роли отрицания в порождении новых форм жизни, в частности в этической экономике новых людей. Но если это, так сказать, плоды ближайшей полемики середины 1860‐х годов, то не менее очевидно, что связь вопросов капиталистического накопления с этическими принципами продолжает осмысляться Достоевским и в 1870‐х годах, например в «Подростке». Кроме того, если верить Джеймсу Дрисколлу, Достоевский в романе «Идиот» выстраивает альтернативную этическую экономику, основанную на логике дара315315
Дрисколл Дж. Человек без интереса: экономика дарения в романе Ф. М. Достоевского «Идиот» // Новое литературное обозрение. 2002. № 58. С. 55–73.
[Закрыть].
Другими примерами разработки этико-экономической модели могут служить «Обрыв» Гончарова и тургеневская «Новь». Интрига первого из этих романов полностью построена на взаимном переплетении вопросов собственности и социальной ответственности с драматическими обстоятельствами любви и личных отношений. Татьяна Марковна Бережкова воплощает в себе старый сословный принцип владения (хотя сама ничем не владеет), при котором, например, имение принадлежит роду, семье и не должно отчуждаться по личному произволу владельца. Борис Райский, будучи современным индивидуалистом, оппонирует ей в том смысле, что частный собственник волен распоряжаться своим имуществом, как ему заблагорассудится. Он готов подарить свое имение, раздать земли крестьянам и дворовым, но в конечном счете дарит все кузинам Вере и Марфиньке. Тем самым собственность остается в семье, хотя структурно уже включает в себя свободную волю индивидуального владельца.
По тому же самому гибридному принципу строится любовная экономика в романе. Вера любит нигилиста Марка Волохова, но они не сходятся в воззрениях на брак, верность и супружеский долг. В сцене их знакомства и далее на протяжении всей истории сталкиваются три концепции любви.
Волохов основывается на максиме Прудона, что собственность есть кража, следовательно, влюбленные не могут принадлежать друг другу и не имеют друг перед другом никаких обязательств. При этом Гончаров предельно вульгаризирует принцип общественной собственности, подчеркивая, что последний подразумевает чисто потребительское и по существу аморальное отношение к общему благу и другим людям. Волохов, ворующий яблоки в саду Бережковой, как бы развивая Прудона, желает присвоить также и Веру: «Вот если б это яблоко украсть!»316316
Гончаров И. А. Полн. собр. соч. и писем: В 20 т. Т. 7. СПб.: Наука, 2004. С. 521.
[Закрыть]
Вера выступает против этого подхода, выдвигая теорию эквивалентного обмена, согласно которой за любовь и свободу друг друга влюбленные платят взаимной верностью. Отсюда следует вполне современная буржуазная общественная мораль с характерной риторикой долга: «Долг за отданные друг другу лучшие годы счастья платить взаимно остальную жизнь…»317317
Там же. С. 607.
[Закрыть]
Интересно, что любовный конфликт романа варьирует историю Рахметова и девятнадцатилетней вдовы. Когда Рахметов говорит возлюбленной, что не может жениться на ней, так как полностью отдает себя революции, она отвечает: «Да, это правда… вы не можете жениться. Но пока вам придется бросить меня, до тех пор любите меня»318318
Чернышевский Н. Г. Что делать? С. 213.
[Закрыть]. Полемика Веры и Волохова у Гончарова представляет собой палимпсест этого эпизода. Именно такой свободы добивается от Веры Волохов, намекая на свою занятость в каких-то таинственных революционных предприятиях. Но в ее системе ценностей этот сценарий является сугубо негативным, так как подразумевает отсутствие верности и ответственности.
Третья версия, как уже было сказано, ассоциируется с сословной этикой брака и представлена в романе фигурой бабушки. Она признается в целом устаревшей, но вполне жизнеспособной с учетом того, что будет помножена на этику индивидуальной свободы, которой, как выясняется, Бережкова в полной мере обладала уже в молодости, так же как и Вера, бросаясь в пучину страсти.
Таким образом, в позитивной части этического спектра экономика современного буржуазного индивидуализма способна комбинироваться с традиционными дворянскими ценностями. Семантика фамилии бабушки (Бережкова – одновременно означает «берег», а значит, отчасти и «обрыв», и, с другой стороны, «беречь», «сберегать») сочетает в себе личную свободу, потенциально разрушительную при условии ее абсолютизации, и идею родовой преемственности. Будущее связывается с фигурой помещика и лесопромышленника Ивана Тушина, который олицетворяет приверженность консервативному кодексу чести и технологическому прогрессу в одно и то же время.
Другой вариант ответа Чернышевскому – тургеневская «Новь». Здесь проблематика этической экономики нигилизма актуализируется в совсем иное время – в эпоху «хождения в народ» и революционного народничества (роман вышел в 1876 году).
Прежде всего, Тургенев создает новую версию нигилистического любовного треугольника, несомненно отсылающую к «Что делать?»: Марианна Синецкая, сперва полюбившая Алексея Нежданова, после его смерти становится женой Василия Соломина. Эта история также сопряжена с фиктивным браком и спасением девушки от произвола родственников (в данном случае – с вызволением Марианны из семейства дяди Сипягина).
Но важна не эта внешняя интертекстуальная связь, а своеобразный диалог Тургенева с утилитарной этикой Чернышевского. Сергей Маркелов – аналог и антипод Рахметова. Он жертвует собой, занимаясь революционной пропагандой, терпит крах и отправляется под суд. Но важно то, что, в отличие от Рахметова, его жертва целиком мотивирована не избытком сил, а нехваткой жизненной удачи (он постоянно именуется «неудачником»). Его самоотверженность, безусловно симпатичная Тургеневу, объясняется тем, что ему нечего терять: накануне своей революционной акции он терпит последний крах – ему отказывает Марианна. Понятно, что такое самопожертвование не только неэффективно (крестьяне, которых Маркелов планировал поднять на восстание, выдают его полиции), но и не имеет символической ценности. По существу, оно равносильно чисто негативному акту – самоубийству Нежданова, который по своему неверию в дело предвосхищает людей 1880‐х годов и декадентов 1890–1910‐х годов с их фатальным бессилием, разочарованием и суицидальными склонностями. Долг в романе, как и у Чернышевского, рассматривается как необходимость, но не свободная необходимость богатырской потенции, а вынужденная трагическая необходимость неудачников. Тургенев пишет о Маркелове: «Самолюбие этого человека не могло не быть оскорбленным, он должен был страдать, его надежды на личное счастье рушились – и однако, как он себя забывал, как отдавался тому, что признавал за истину»319319
Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. Сочинения: В 12 т. Т. 9. СПб.: Наука, 1982. С. 198. Курсив автора.
[Закрыть].
Всему этому декадансу противостоит «постепеновец снизу»320320
Там же. С. 254.
[Закрыть] Соломин, который представляет собой тургеневскую – демократическую – версию гончаровского Тушина. И так же, как «работник» Тушин противопоставляется «мученикам» нигилизма и являет собой истинную «партию действия», «крепкий, серый» и «хитрый» «народный человек» Соломин противопоставляется радикалам 1870‐х годов и воплощает «настоящую, исконную нашу дорогу»321321
Там же. С. 388.
[Закрыть], надежду России.
Так или иначе, можно утверждать, что этико-экономическая модель объяснения и проектирования нового человека становится одним из важнейших инструментов художественно-политической полемики 1860–1870‐х годов. Впоследствии в русской литературе рубежа веков и первых десятилетий XX века этическая экономика долга, жертвы, свободы, оправданного и неоправданного насилия будет неизменно строиться с оглядкой на роман «нигилистической» эпохи.
АСКЕТИЗМ КАК ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНАЯ ФОРМА ЗАБОТЫ О СЕБЕ У К. Н. ЛЕОНТЬЕВА
Райнер Гольдт
Сфера Подвига – антропологическая лаборатория.
С. С. Хоружий. К феноменологии аскезы
Покаяние есть корабль, а страх его кормчий.
Св. Исаак Сирин (VII век)
В последней главе «Шума времени» О. Э. Мандельштам описывает метель на Васильевском острове. Его спутник (как скоро окажется – В. В. Гиппиус) выкрикивает извозчика, и внезапно как бы обыденная ночная сцена перерастает в одно из тех ассоциативных полей, которые превращают мемуарные фрагменты Мандельштама в окна мифологического петербургского пространства и времени: в физиономии его визави проступает другое, далекое, более глубинное лицо:
Ночь. Злится литератор-разночинец в не по чину барственной шубе. Ба! Да это старый знакомец! Под пленкой вощеной бумаги к сочинениям Леонтьева приложен портрет, в меховой шапке-митре – колючий зверь, первосвященник мороза и государства. Теория скрипит на морозе полозьями извозчичьих санок. Холодно тебе, Византия?322322
Мандельштам О. Э. Шум времени // Мандельштам О. Э. Собр. соч.: В 4 т. М.: Терра, 1991. Т. 2. С. 102. Значение Леонтьева для становления эстетики Мандельштама исследует Арьев: Арьев А. Ю. Русская переимчивость как художественный прием (Осип Мандельштам и Константин Леонтьев) // Звезда. 2009. № 7. Статья перепечатана в сборнике: Арьев А. Ю. За медленным и золотым орлом: О петербургской поэзии. СПб.: Изд-во Пушкинского Дома; Нестор-История, 2018. С. 109–133.
[Закрыть]
Мандельштам в этом миниатюрном экфрасисе как никто другой чувствует всю несоразмерность не только шубы (кстати, знаковой вещи-символа и его собственного автобиографического письма) и чина, но и всю нецелостность самой личности мыслителя. В образе шапки-митры, вдохновленном известной фотографией Леонтьева 1880‐х годов, для повествователя проявляется вся доходящая до противоречивости многогранность этого первосвященника «подмораживания» России: «И в этот зимний период русской истории литература в целом и в общем представляется мне, как нечто барственное, смущающее меня: с трепетом приподнимаю пленку вощенной бумаги над зимней шапкой писателя»323323
Мандельштам О. Э. Шум времени. С. 108. Как ни странно, эта «барственная шуба» имеет и сугубо символическое значение для понимания личности Леонтьева: будучи уже много лет совершенно обедневшим, он купил подержанную шубу в рассрочку у своего «ученика» Г. И. Замараева, выходца из бедной семьи (ср.: Фетисенко О. Л. Гептастилисты. Константин Леонтьев, его собеседники и ученики. СПб.: Пушкинский дом, 2012. С. 569). Эта шуба стала в каком-то смысле знаковой; в ней изображает Леонтьева и Ю. И. Селиверстов в своей знаменитой серии портретов великих русских мыслителей.
[Закрыть]. Однако именно эта кажущаяся нецелостность с ее резкими мировоззренческими сдвигами и делает Леонтьева современником кризисных и переломных эпох отнюдь не только в России324324
Уже год выхода единственной по сей день немецкоязычной монографии о жизни и творчестве Леонтьева – 1948 – говорит сам за себя (von Kologriwof I. Von Hellas zum Mönchtum. Leben und Denken Konstantin Leontjews. Regensburg: Gregorius-Verlag, 1948). Иван Николаевич Кологривов (1890–1955) в 1918 году перешел в католицизм и после эмиграции поступил в орден иезуитов. Единственная книга Леонтьева, переведенная на немецкий язык, – неоконченная работа «Средний европеец как идеал и орудие всемирного разрушения» (1872–1884, опубл. посмертно в 1912) – вышла в свет в 2001 году, как бы предвещая трещины европейского самосознания в XXI веке (Leontjew K. Der Durchschnittseuropäer. Ideal und Werkzeug universeller Zerstörung. Wien/Leipzig: Karolinger, 2001). Вдохновителем уничижительного представления о «среднем европейце» был, как неоднократно утверждал сам Леонтьев, Александр Герцен (ср., напр., его письмо И. И. Фуделю от 6 июля 1888 года: Леонтьев К. Н. Избранные письма 1854–1891. СПб.: Пушкинский фонд, 1993. С. 380–382).
[Закрыть]. Оставаясь при жизни мало кем замеченным наблюдателем325325
Печальнее и, наверно, правдивее всех Г. В. Иванов писал, что о Леонтьеве можно было бы сказать: «…умер всеми забытый, если было бы кому о нем забывать. Но таких, в сущности, почти и не было» (Иванов Г. Страх перед жизнью. Константин Леонтьев и современность // К. Н. Леонтьев: Pro et contra. Личность и творчество Константина Леонтьева в оценке русских мыслителей и исследователей после 1917 г.: Антология. Кн. 2. СПб.: Изд-во Русского Христианского гуманитарного ин-та, 1995. С. 189.
[Закрыть], он представляет собой генеалогическое звено между первым и вторым поколениями русских религиозных неофитов, между Киреевским и Н. А. Бердяевым, С. Н. Булгаковым и П. А. Флоренским. После распада советской империи угасший с середины 1930‐х годов интерес к нему снова вспыхнул, порождая целую вереницу прежде всего политических последователей в постсоветской России326326
Ср.: Андреев Г. Романтики реакции: Константин Леонтьев и его нынешние последователи // Еврейская газета. 2014. № 1 (137).
[Закрыть]. Прошедши долгий и тернистый путь от либерала, эстета и эпикурейца до монаха, Леонтьев напоминает Ф. Листа, который после бурных успехов во всей Европе принял малый постриг.
Творчество Леонтьева может послужить доказательством тому, что нахождение в эпицентре землетрясения не обязательно для надежного анализа. В последние годы своей отшельнической жизни в Оптиной пустыни Леонтьев одним из первых ощутил тот религиозный подъем, который к концу века потеснит господство материалистических воззрений в русской интеллигенции – не в духе, как он его называл, «розового» христианства Толстого и Достоевского, а путем «страшного аскетизма» Афона327327
«Афон показал мне примеры высокого и даже страшного аскетизма» (Леонтьев К. Н. Моя исповедь // Леонтьев К. Н. Полн. собр. соч. и писем: В 12 т. СПб.: Владимир Даль, 2003. Т. 6 (1). С. 232). В другом месте Леонтьев вспоминает: «Непостижимый для непривычного, хотя бы даже и верующего человека, аскетизм большинства греческих и русских обителей на Святой Горе в течение Великого поста доходит до того, что становится в иные минуты страшно о нем и подумать!» (Леонтьев К. Н. Пасха на Афонской горе // Там же. С. 373). Совершенно справедливо поэтому суждение В. Котельникова о том, что в «оптинской аскетике искал он твердые, правильные и праведные формы для своей рвущейся к гибельному краю натуры» (Котельников В. А. Константин Леонтьев. СПб.: Наука, 2017. С. 40).
[Закрыть]. Поэтому Леонтьев при всем уважении к публицисту и моралисту Достоевскому не мог разделить его ставшую как бы завещанием писателя систему духовных ценностей, олицетворенную в «Братьях Карамазовых» в старце Зосиме, с одной стороны, и в суровом аскете отце Ферапонте – с другой:
Какое же именно христианство спасет будущую Россию: первое, неопределенно-евангельское, которое непременно будет искать форм, – или второе, с определенными формами <…>? Отшельник и строгий постник, Ферапонт, мало до людей касающийся, почему-то изображен неблагоприятно и насмешливо… От тела скончавшегося старца Зосимы для чего-то исходит тлетворный дух, и это смущает иноков, считавших его святым328328
Леонтьев К. Н. О всемирной любви: Речь Ф. М. Достоевского на Пушкинском празднике // Властитель дум. Ф. М. Достоевский в русской критике конца XIX – начала XX века. СПб.: Худож. лит., 1997. С. 87, выделения в оригинале. Показательно, что эта веская реплика на легендарную речь Достоевского была перепечатана И. Ашимбаевой в указанном сборнике впервые с 1911 г. Полемику освещает Müller L. Dostojewskij und Leontjew. Leontjews Aufsätze über Dostojewskijs Puschkin-Rede // Deutsche Dostojewskij-Gesellschaft. Jahrbuch 2003. Frankfurt а. M. et al.: Lang, 2003. S. 56–102 (включая переводы на немецкий и обширный комментарий).
[Закрыть].
Внимательно следя за подспудными течениями общества, Леонтьев незадолго до своей смерти приветствовал молодых свидетелей «того религиозного обновления, которое становится у нас все заметнее и заметнее за последние годы»329329
Леонтьев К. Н. Записки отшельника. Добрые вести // Леонтьев К. Н. Избранное. М.: Рарогъ; Моск. рабочий, 1993. С. 263.
[Закрыть]. При этом он отдавал себе отчет в том, что это могло быть только отсрочкой от того судьбоносного упадка, которому, по его мнению, были подвержены Европа и аморфная без идейного стержня византизма Россия, – в этом скептическом отношении к народу он существенно отличается от славянофилов. Культурфилософская программа Леонтьева основана, помимо подхваченной Мандельштамом метафоры «подмораживания», на таких словах, как «задержание» (также «удерживать», «сдерживать») и «замедление» неизбежного «уравнения» в смысле нивелирования культурных и социальных различий. Это представление о некоем удерживающем начале помимо своих православных традиций во многом предвосхищает и понимание катехона у К. Шмитта. Но Леонтьев был воинственнее Шпенглера, несмотря на то что он безоговорочно согласился бы со шпенглеровским аперсю, что оптимизм – трусость. И, как Шмитт, он осознал, что возврата к прошлому быть не может: «Быть просто консерватором в наше время было бы трудом напрасным. Можно любить прошлое, но нельзя верить в его даже приблизительное возрождение»330330
Леонтьев К. Н. Чем и как либерализм наш вреден? // Леонтьев К. Н. Избранное. С. 179.
[Закрыть]. Из этого для его времени – и не только – следует непреклонное «или – или». Крайне заостренно он облекает этот закон исключенного третьего в разговор двадцатилетней давности – то есть поздних 1860‐х годов – на дунайском корабле, когда он спросил неверующего моряка: «<…> на которую из этих двух жестоких вещей вы бы согласились, если бы третьего пути не было: убить человека, на поединке, на войне ли или просто из личного гнева, или взять чашу с святыми дарами, положим, вылить на землю и растоптать ногами?» Ответ своего собеседника («Ну конечно, убил бы человека») Леонтьев отмечает с удовлетворением старейшины гор – только не Афона, а крепости Масьяфа331331
Леонтьев К. Н. Записки отшельника. Добрые вести // Там же. С. 272. После Октябрьской революции И. С. Шмелев задаст этот же вопрос, только в несколько ином ракурсе. В рассказе «Чортов балаган» (1926) некий капитан М. вспоминает встречу во время Гражданской войны с профессором, везущим с собой богатый багаж, книги и бюст Данте. М., не назвав своего имени, узнает в нем своего бывшего бездарного доцента, заводит разговор о культуре и неожиданно ставит путешественника перед выбором: «„Г. профессор! Способны вы умереть за Данте или продадите его за глоток повидла?“ Профессор стоял столбом. – „Плюньте ему в лицо!.. Не мо-жете?! Плюнули же в лицо… России?! на все святое?! Почему не плюнуть на… этого?!“» (Шмелев И. Чортов балаган // Шмелев И. Избранные рассказы. Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1955. С. 195, выделение в оригинале). Конечно, профессор слушается, плюет, кидает бюст в обрыв. Выбор у Шмелева менее фундаменталистский, чем леонтьевский, – решение нацелено на самого действующего, не на постороннюю жертву, но при этом не менее жестоко.
[Закрыть].
Особенность эстетики Леонтьева состоит в том, что она проистекает из двух взаимообусловленных концепций. Первая из них, проявляющаяся уже в раннем творчестве, базируется на романтизме; в ней уже улавливаются черты декаданса наступающего столетия. Вторая концепция связана с православной системой ценностей, то есть в некотором смысле морально обезврежена, так сказать приручена к религии, но лишь внешне и поверхностно. Обе концепции имеют своей основой убеждение Леонтьева, бывшее опорной точкой в течение всей его жизни: убеждение, что Красота лежит в основе всего вещественного и невещественного творения. Более того: он возводит ее, пользуясь терминологией схоластики, в универсалии наравне с Благим и Истинным, в сферу трансценденталий.
О том, что самодисциплинирование давалось Леонтьеву с трудом и что оно так и осталось незавершенным проектом, свидетельствует одно обращенное к Василию Розанову замечание, представляющее добровольное уединение в монастыре едва ли не как направленный против самого себя акт насилия. 13 августа 1891 года, то есть за пять дней до тайного пострига в монашество в Предтечевом скиту Оптиной пустыни, Леонтьев доверяет своему корреспонденту по существу крамольную не только для монаха мысль: «Я считаю эстетику мерилом наилучшим для истории и жизни, ибо оно приложимо ко всем векам и ко всем местностям», и дальше, к концу письма, под странной, как бы продиктованной совестью оговоркой, что он в заключение дерзнет прибавить несколько «безумных» своих афоризмов: «<…> и христианская проповедь, и прогресс европейский совокупными усилиями стремятся убить эстетику жизни на земле, т. е. самую жизнь»332332
Леонтьев К. Н. Письмо В. В. Розанову от 13–14 августа 1891 г. // Леонтьев К. Н. Избранные письма. С. 584, 586.
[Закрыть]. Из своих бесед с иеромонахом Климентом (в миру Карл Густав Адольф Зедергольм) Леонтьев вспоминает весьма характерный в этом отношении эпизод. Сын евангелического пастора, перешедший в православие и приобретший славу как письмоводитель старца Амвросия и переводчик святоотеческих книг, оказал неоценимое влияние на Леонтьева, впоследствии выбравшего свое монашеское имя в честь Зедергольма, но тот все-таки не сумел разубедить собеседника в его эстетических началах. На увещевания Зедергольма, что надо «чувствовать духовное омерзение ко всему, что не Православие», Леонтьев возразил: «– Нет! Для меня это невозможно. Я Коран читаю с удовольствием… – Коран – мерзость! – сказал Климент, отвращаясь. – Что делать! А для меня это прекрасная лирическая поэма»333333
Леонтьев К. Н. Отец Климент Зедергольм, иеромонах Оптиной Пустыни // Леонтьев К. Н. Полн. собр. соч. Т. 6 (1). С. 331.
[Закрыть].
Несмотря на судьбоносную, воспринимаемую самим Леонтьевым как водораздел его жизни болезнь, на предсмертный ужас, чудо спасения и религиозный переворот, можно наблюдать удивительную последовательность его мышления и, для некоторых исследователей, всего жизненного пути334334
«Уход в монастырь – не отказ от Возрождения и эстетизма, а закономерный итог жизни человека возрожденческого пафоса» (Бессчетнова Е. Владимир Соловьев и Константин Леонтьев: в предчувствии катастрофы. М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2018. С. 67).
[Закрыть]. Свои воспоминания о капитуляции российских войск в Керчи в 1855 году он опубликовал лишь в 1887‐м, но в искренность изложенных им много лет спустя переживаний все же можно верить: «как ни легкомысленно» он, по его собственным словам, тогда смотрел на жизнь, «глубоко и несокрушимо было <уже> в то время в сердце моем убеждение, что важнее всего поэзия… (то есть не стихи, конечно, а та реальная поэзия жизни, та восхитительная действительность, которую стоит выражать хорошими стихами)»335335
Леонтьев К. Н. Сдача Керчи в 55 году. Воспоминания военного врача // Собр. соч. К. Леонтьева. Т. IX: Воспоминания (1831–1868 гг.). СПб.: Деятель, б. г. С. 198.
[Закрыть]. Это убеждение остается незыблемым до конца его дней. В письме священнику И. И. Фуделю, позже ставшему первым редактором его собрания сочинений, от 6 июля 1888 года Леонтьев сам нарисовал схему иерархии составляющих мироздания: фундамент «для всего» образуют физика, понятая как совокупность всех областей естественной науки, и на равных с ней правах эстетика. Над ними зиждется «для всего органического мира» физиология (физиология человека, животных и растений). Третью часть пирамиды составляют предназначенные только для человека этика и политика. Наконец, надстройку всего образует мистика, «особенно положительная религия», но с существенной и на первый взгляд неожиданной оговоркой, что этот критерий годится только для единоверцев, «ибо нельзя судить и ценить христианина по-мусульмански и наоборот». Значит, Леонтьев не верит в исключительную истину христианства, а рассматривает религии, так же как Данилевский, в духе культурно-исторических типов, как независимо друг от друга существующие культурные деятельности, – и все это на фундаменте законов физики и эстетики336336
Ср. упомянутое выше письмо И. И. Фуделю от 6 июля 1888 года: Леонтьев К. Н. Избранные письма. С. 386.
[Закрыть].
При всем внешнем созвучии с европейским декадансом, олицетворенным герцогом дес Эссентом в знаковом романе Ж. К. Гюисманса «Наоборот»337337
Huysmans J.-K. À rebours. Paris: Charpentier, 1884. Роман, кстати, вновь занимает умы современников. Так, герой нашумевшей повести М. Уэльбека «Покорность» («Soumission», 2015) начал свою академическую карьеру кандидатской работой о Гюисмансе, что является одним из лейтмотивов романа. Лишь в молодые годы леонтьевский эстетицизм носит порой и нарциссические черты (тогда и сравнение с Алкивиадом его ничуть не смущало). Он сам признался в том, что считал себя, «улыбаясь всем снисходительно, чем-то вроде Олимпийского Бога, сошедшего временно на землю» (Леонтьев К. Н. Моя литературная судьба // Леонтьев К. Н. Полн. собр. соч. Т. 6 (1). С. 64; ср.: Там же. С. 60, 66, 107).
[Закрыть], Леонтьев не склонен заменить жизнь искусством. В то время как дес Эссент считает природу второстепенной в отношении к искусству, Леонтьев рассматривает Красоту основой космоса, присущей даже неорганической природе. Отсюда вытекает первенство жизни и переживания перед искусством и созерцанием. Кроме того, Леонтьев остается верным переплетению религии и эстетики, как явствует из следующего воспоминания:
После 20-и лет я стал сочинять повести и романы <…> И тотчас же мне представлялось, что мой герой видит свою молодую мать после причастия в зале за фортепиано и непременно в кисейном белом платье с голубыми горошинками <…> хорошо, чтобы в детских воспоминаниях религиозное соединялось с изящным. Чувство будет сильнее, полнее. Приятнее будет вспоминать338338
Леонтьев К. Н. Мое обращение и жизнь на св. Афонской горе // Леонтьев К. Н. Полн. собр. соч. Т. 6 (1). С. 798.
[Закрыть].
Сочетание изящества и молодого материнства, музыки и причащения, мистически отразившись на лице матери, рисует картину, напоминающую сферические женские портреты Нестерова339339
Имеется, однако, метафизическая точка соприкосновения с европейским декадансом, а именно с Ш. Бодлером, с которым Леонтьев разделяет убеждение в сущности Зла, олицетворенного в дьяволе. В «Великодушном игроке» («Le joueur généreux»), входящем в цикл «Парижский сплин» (1857–1866), приводятся слова проницательного проповедника, предупреждающего о том, что самая лучшая из всех выдумок Сатаны – убедить людей в том, что его не существует. 22 апреля 1888 г. Леонтьев пишет И. И. Фуделю, как бы вторя неизвестному ему Бодлеру: «Его <дьявола. – Р. Г.> действия утонченны, и он пользуется тем, что в его личное существование нынче и многие признающие Христа не хотят верить. „В Бога я верую, ну а в дьявола ни за что не поверю!“ Какие же это христиане? Без дьявола зачем же воплощение, распятие, крестная смерть и т. д.? Дьяволу это очень удобно, что люди не хотят признать его догматического значения» (Леонтьев К. Н. Избранные письма. С. 355).
[Закрыть].
Связующее звено, внушающее опрометчивое отождествление концепций европейского эстетизма и леонтьевской эстетики, – перспектива, ракурс, находящиеся, говоря словами Ницше, «по ту сторону морали». Нужно отдать должное Леонтьеву – он всегда впереди, даже в дендизме. Здесь ему созвучны и запоздалые представители эстетицизма, увлекшиеся философией жизни, как, например, ранний Э. Юнгер, с которым его объединяет раннее увлечение войной и естественными науками. В леонтьевских воспоминаниях военного врача о сдаче Керчи в 1855 году есть сцена, где по-барски расположившийся на балконе отеля молодой врач наслаждается надвигающейся катастрофой, как современный кинозритель, расположившийся в удобном кресле:
Пока от времени до времени мчались мимо меня по улице куда-то пролетки, тянулись телеги, скакали изредка казаки, я продолжал не спеша пить мой кофе и курить, мечтая даже о том, как бы это было хорошо, если бы сейчас начали падать около гостиницы этой гранаты, бомбы и ядра, а я бы имел право, как частный человек и художник, смотреть с балкона на весь этот трагизм <…> Бомбы летят, а я смотрю! Сижу и думаю – философ! Не боюсь – стоик! Курю – эпикуреец!340340
Леонтьев К. Н. Сдача Керчи в 55 году. Воспоминания военного врача. С. 204. Это отнюдь не единственная знаковая сцена взгляда с высоты горы, балкона или окна в творчестве Леонтьева, ср., напр.: Леонтьев К. Н. Египетский голубь. Дитя души. Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1954. С. 62, 85, 116.
[Закрыть]
Какое удивительное по духу и письму совпадение со знаменитой парижской сценой юнгеровских «Излучений» 27 мая 1944 года – ночь перед Троицей, праздником знамения огненных языков, замененных здесь огнем самолетов, – только с той разницей, что Леонтьев в 1855 году, естественно, не мог стать свидетелем налетов бомбардировочной авиации: тот же ракурс романтизма с высоты – Юнгер с крыши, Леонтьев с балкона; оба раза отель – символ непостоянства, в высшем смысле – бренности человеческого существования и метафорическая антитеза к монастырю. Нет у Леонтьева лишь довольно тривиальной эротической метафорики Юнгера:
Во время второго налета, при заходе солнца, я держал в руке бокал бургундского, в котором плавала клубника. Город со своими красными башнями и куполами был окутан чудным великолепием, подобно чашечке, для смертельного оплодотворения облепленной насекомыми. Все было спектаклем, явлением силы как таковой – утвержденной и возвышенной страданием341341
Юнгер Э. Излучения (февраль 1941 – апрель 1945) / Пер. с нем. Н. О. Гучинской, В. Г. Ноткиной. СПб.: Владимир Даль, 2002. С. 590. Подлинно исторического здесь нет ничего, хотя поза аморального денди оставалась незамеченной до 2004 г., когда Т. Вимбауер установил, что в Париже 27 мая 1944 г. последняя бомбардировка состоялась около 13:45 ч., так что весь эпизод явно вымышленный (Wimbauer T. Kelche sind Körper. Der Hintergrund der «Erdbeeren in Burgunder»-Szene // Wimbauer T. (Hg.). Anarch im Widerspruch. Neue Beiträge zu Werk und Leben der Gebrüder Jünger. Schnellroda: Antaios, 2004. S. 31).
[Закрыть].
Хотя и Л. Н. Толстой не был чужд эстетизации войны, можно согласиться с Юрием Иваском в том, что отношение «к военным событиям у них было совершенно разное: на войне Толстой искал правду, а Леонтьев – Красоту»342342
Иваск Ю. П. Константин Леонтьев: Жизнь и творчество. Bern/Frankfurt a. M.: Lang, 1974. С. 69. В этом заключается еще одна точка соприкосновения Леонтьева с Юнгером, написавшим эссе под названием «Война как внутреннее переживание». Однако прав и Николай Бердяев, который утверждает, что у Леонтьева в жизни не было «той притупленности чувств в отношении к человеческим радостям и страданиям, которая свойственна упадочному эстетизму» (Бердяев Н. А. Константин Леонтьев: Очерк из истории русской религиозной мысли. Париж: YMCA Press, 1926. С. 145).
[Закрыть].
Предвосхищение имморализма Ницше Леонтьевым замечено разными исследователями, но, в отличие от Ницше, леонтьевская позиция трансцендентальная, основанная на строгой дихотомии миров. В раннем, опубликованном в 1864 году романе «В своем краю» Леонтьев изображает себя в двух персонажах – докторе Рудневе и студенте-юристе Милькееве. Последний с жаром вдохновения размышляет о сокровенном:
Кровь? – повторил он, – кровь не мешает небесному добродушию… <…> Жан д’Арк проливала кровь, а она разве не была добра, как ангел? И что за односторонняя гуманность, доходящая до слезливости, и что такое одно физиологическое существование наше? Оно не стоит ни гроша! Одно столетнее, величественное дерево дороже двух десятков безличных людей; и я не срублю его, чтобы купить мужикам лекарство от холеры!343343
Леонтьев К. Н. В своем краю // Леонтьев К. Н. Полн. собр. соч. СПб.: Владимир Даль, 2000. Т. 2. С. 46. Значительное влияние Аполлона Григорьева на формирование леонтьевского представления о независимости эстетики от этики и от нивелирующего исторического прогресса справедливо отмечал уже Василий Розанов в статье «К. Леонтьев об Аполлоне Григорьеве. (Вновь найденный материал)» (В. В. Розанов и К. Н. Леонтьев. Материалы неизданной книги «Литературные изгнанники». СПб.: Росток, 2014. С. 1080–1091); ср. также: Иваск Ю. Константин Леонтьев. С. 82–86; вслед за ним: Волкогонова О. Д. Константин Леонтьев. М.: Молодая гвардия, 2013. С. 143–144. За более полувека до Евгения Замятина, с ужасом приметившего однообразные домики в английском Ньюкасле, ставшие первым импульсом для архитектуры его романа «Мы», Константин Леонтьев замечает уравнительную тенденцию в архитектуре Санкт-Петербурга. В разговоре с молодым сотрудником «Современника» И. А. Пиотровским он с огорчением высказал мысль о том, что ради прогресса всё порой пусть даже неуклюжее разнообразие «надо уничтожить и сравнять для того, чтобы везде были все маленькие, одинаковые домики, или вот – такие много-этажные <sic!> буржуазные казармы, которых так много на Невском» (Коноплянцев А. Жизнь К. Н. Леонтьева, в связи с развитием его миросозерцания // Памяти Константина Николаевича Леонтьева † 1891: Литературный сборник. СПб.: Сириус, 1911. С. 53–54). Здесь имеют свой корень и на первый взгляд провокационные тезисы Леонтьева, говорящие о том, что «правильная и глубокая эстетика всегда, хотя бы незримо и бессознательно, содержит в себе государственное или политическое чувство» (Леонтьев К. Н. Н. П. Игнатьев // Леонтьев К. Н. Полн. собр. соч. Т. 6 (1). С. 399–400).
[Закрыть]
Вспомнил ли Леонтьев об этом глумлении над христианской заповедью любви к ближнему в мае 1871 года, лежа на – как ему казалось – смертном одре, зараженный именно этой холерой? Вряд ли, но какая-то символика безусловно есть. Главный аршин – прекрасное, говорит тот же Леонтьев-Милькеев в романе, но еще интереснее, пожалуй, замечание местного предводителя Лихачева молодому человеку: «По твоей же эстетике, Красота есть единство в разнообразии, – Второе есть: надобно нам духовное единство»344344
Леонтьев К. Н. В своем краю. С. 158.
[Закрыть].
Неизвестно, сознательно ли Леонтьев здесь цитирует изречение Иоанна Скота Эриугены «Красота есть единство в разнообразии». По-видимому, молодой писатель был знаком со схоластикой и ее трансценденталиями, по крайней мере в общих чертах. К этим трансценденталиям он прибавляет еще и Красоту – не Красоту князя Мышкина, которая мир спасет, а Красоту как сущность бытия, непричастную к человеческим страданиям. Поэтому и религия, даже для мыслителя-отшельника, на грани смерти, без Красоты немыслима, более того: вера остается подвластной эстетике. Рассказывая о своем обращении и жизни на Святой Афонской горе, Леонтьев делает обезоруживающее признание: «Буду же верить в Евангелие <…> Как все ясно! И как это ничему не мешает: ни эстетике, ни патриотизму, ни философии»345345
Леонтьев К. Н. Мое обращение и жизнь на св. Афонской горе. С. 791.
[Закрыть]. Влечет к православию отнюдь не истина, а поэзия: «Поэзия религиозных впечатлений способствует сохранению в сердце любви к религии <…> Любя веру и ее поэзию, захочется опять верить»346346
Там же. С. 795.
[Закрыть]. Случайность или нет, но и Гюисманс в конце своего жизненного пути ушел из мира в монастырь. Обоих писателей эстетика привела к религии.
Опознав метафизическую непрочность эстетики, Леонтьев испытывает, словами Бердяева, «невыразимый ужас вечной гибели. В этом отношении он был средневековым человеком»347347
Бердяев Н. А. Константин Леонтьев. С. 222.
[Закрыть]. Нет второго русского мыслителя, у которого Страх с большой буквы занимал бы столь значительное место. Леонтьев как человек и мыслитель одинаково одержим страхом, ставшим одним из существенных философских и религиозных понятий в его творчестве и движущим началом его пути к аскезе.
Трепет перед смертью, Страшным судом и вечностью рождает другую центральную категорию в философской системе Леонтьева, а именно трансцендентный эгоизм – стремление не к общечеловеческому, даже не к братскому, а исключительно к личному спасению. Нет у публичного Леонтьева отличительной черты русской интеллигенции – утопии установления социальной справедливости, которая для него осуществима только в личностных взаимоотношениях. В августе 1891 года Леонтьев дает четкое определение взаимосвязи глубоко заложенного в человеке трансцендентного эгоизма и вытекающего из него страха перед непостижимостью и недостижимостью спасения: «Что же делать? Христианству мы должны помогать, даже и в ущерб любимой нами эстетики, из трансцендентного эгоизма, по страху загробного суда, для спасения наших собственных душ»348348
Леонтьев К. Н. Письмо В. В. Розанову от 13–14.8.1891 // Леонтьев К. Н. Избранные письма. С. 586.
[Закрыть]. Точка кристаллизации в жизни Леонтьева во многом напоминает обращения в веру святых, например апостола Павла или Августина. Речь идет об упомянутом выше загадочном заболевании 1871 года, когда Леонтьев, будучи консулом в Салониках, якобы заразился холерой (которую врач не мог обнаружить) и спасла его чудесным образом икона Божьей Матери. Спустя двадцать лет, всего лишь за три месяца до своей кончины, Леонтьев вспоминает:
Но в лето 1871 года, когда консулом в Салониках, лежа на диване в страхе неожиданной смерти <…>, я смотрел на образ Божией Матери (только что привезенный мне монахом с Афона), я <…> пришел в ужас просто от мысли о телесной смерти, и <…> вдруг, в одну минуту, поверил в существование и в могущество этой Божией Матери349349
Леонтьев К. Н. Письмо Василию Розанову от 13–14 августа 1891 г. // Леонтьев К. Н. Избранные письма. С. 587–588. М. П. Чижов называет это свидетельство покаяния «одно из самых искренных в мире признаний в глубоком духовном кризисе, охватившем человека», ведшего до тех пор, по словам самого Леонтьева, «развратную, утонченно грешную жизнь» (Чижов М. П. Константин Леонтьев. М.: Институт русской цивилизации, 2016. С. 266).
[Закрыть].
В более раннем источнике, программном «Письме студенту о вере, молитве, о немощах духовенства и о самом себе» Леонтьев в несколько ином ракурсе описывает этот переломный момент своей жизни, различая проходящий физический ужас – именно «ужас, а не просто страх» – и неизгладимый на всю жизнь отпечаток духовного потрясения: «Черта заветная была пройдена. Я стал бояться Бога и Церкви (как Его выражения). С течением времени физический страх опять прошел, духовный же остался и все вырастал»350350
Леонтьев К. Н. Письмо В. И. О. С. и Св. Д. А. (Студенту Московского университета), март 1888 // Леонтьев К. Н. Избранные письма. С. 346. О характере загадочного заболевания Леонтьева существует много догадок, установлено лишь то, что он не болел холерой. Большую ценность представляют собой воспоминания племянницы Марии Владимировны Леонтьевой об этих судьбоносных днях: «К. Н-ч был вне себя от ужаса смерти. Несколько дней он не выходил из комнаты, чтобы не знать, когда кончается день и начинается ночь, которой он особенно страшился <…> В первые же дни болезни, ожидая быстрого конца своего, К. Н-ч дал клятву перед образом Божией Матери <…> принять монашество, если он останется жив» (Леонтьева М. В. К. Леонтьев в Турции // Леонтьев К. Н. Полн. собр. соч. Т. 6 (2). С. 108). Отголоски этого глубокого потрясения еще звучат в прерванной несколькими словами издателя XX главе романа «Египетский голубь», в которой приводятся выписки из оставшихся бумаг повествователя (опять) по имени Ладнев: «И этот тесный гроб! И эти гвозди!.. и земля!.. и боль, и тоска последней борьбы… Кто: кроме святого человека, забывшего плоть, может помириться с холодным ужасом этого близкого и неизбежного конца?..» (Леонтьев К. Н. Египетский голубь. С. 232). Можно согласиться с мнением А. Королькова, что «<…> дело вовсе не в констатации степени тяжести заболевания, а в подготовленности всего характера и образа мыслей К. Леонтьева к духовному перерождению. Таким людям нужен лишь толчок, и если бы он не возник в форме заболевания, то все равно нашел бы себе повод, извне или изнутри – это частности» (Корольков А. Пророчества Константина Леонтьева. СПб.: Изд-во СПб ун-та, 1991. С. 97).
[Закрыть].
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?