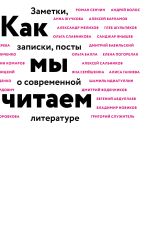
Автор книги: Коллектив авторов
Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 28 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Ольга Балла
О книге Линор Горалик «Все, способные дышать дыхание»
Роман Линор Горалик «Все, способные дышать дыхание» (2019), вышедший под самый конец минувшего года, уже не один критик, успевший с тех пор хоть что-то о нем сказать, отнес к «постапокалиптическому» тексту русской литературы, сравнив его, например, с «Островом Сахалин» Эдуарда Веркина. У Горалик описывается, напомню, состояние мира, преимущественно Израиля, после катастрофы. В числе ее последствий оказалось и обретение животными речи, а с нею, неминуемо, – и сознания, и собственного взгляда на дела человеческие, который, понятно, с человеческим взглядом может совершенно не совпадать.
Мне же кажется, что главное в романе Горалик – совсем не посткатастрофичность (она – всего лишь условие постановки вопросов принципиально более важных), а проблема иноустроенного сознания (включение которого во взаимодействие с человеком и ставит под вопрос в конечном счете всю сложившуюся систему этических принципов). Поэтому его хочется поставить в один ряд с другим романом, который в этом контексте, кажется, никто еще не назвал, – с «Днями Савелия» Григория Служителя (2018), с автобиографией мыслящего кота. Этот кот – кот-философ, наблюдающий человеческую жизнь извне, в ритмику и пластику его сознания Служитель вжился не хуже, чем Горалик, заговорившая в новом своем романе множеством до пугающего убедительных голосов самых разных существ от верблюдов до ящериц.
Совершенно различные едва ли не во всех мыслимых отношениях, занятые до противоположности разными, казалось бы, вопросами (Горалик – о возможности жизни в условиях, когда прежняя жизнь рухнула; Служитель – скорее, о тихом, терпеливом, внимательном наблюдении неизменного), два этих текста, по-моему, неспроста появились одновременно. Они наводят на мысль о своем родстве – а может быть, даже и об общих своих источниках, по крайней мере – формирующих импульсах, – не только потому, что оба они – романы вживания в чужое сознание, но и потому, что нежданно оказались об одном: о границах человеческого, о его проблематизации. О необходимости (по крайней мере, о возможностях) выхода за эти пределы. (Кот Савелий выходит за положенные нам пределы даже дважды: не только в том смысле, что он смотрит на людей извне, но и в том, что – как узнает читатель, добравшись до конца романа, – повествование его ведется из посмертия. И взгляд его скорее ностальгический – и, как свойственно ностальгическим взглядам, – принимающий и прощающий.)
Источники же обоих текстов, предположу, вот каковы: очень похоже на то, что человеческое уже утомило само себя. Оно уперлось в собственные тупики, ищет иных возможностей – существования ли, взгляда ли на себя (возможностей хотя бы и травмирующих, как в случае той линии, что намечена романом Горалик). По крайней мере, человек в его ныне действующем виде явно чувствует свою недостаточность.
Да, в отношении человеческой ограниченности нам представлены тут, пожалуй, две противоположных позиции. Савелий сам по себе и не мыслит проблематизировать человека, ломать его границы. Он даже не растягивает этих границ – он их мягко огибает, обходит по периметру, близко-близко. Он склонен скорее оправдывать человека и уж вовсе не расположен его судить (даже того маньяка, который едва не забил его до смерти, оставив без одного глаза и части хвоста. Мудрый Савелий не гневается и тут: он больше недоумевает). Заговорившие – и стремительно обретающие сознание – звери Горалик, причем совершенно невольно, только и делают, что проблематизируют своего, так сказать, староговорящего собрата, вынуждают его усомниться во всем, освоенном до сих пор, пересмотреть и растянуть собственные пределы.
Но происходит, по существу, одно и то же: человек обращается к звериному за новыми ресурсами себя – тем более настоящими, чем труднее они поддаются освоению и даже просто пониманию.
Олег Кудрин
О романе Ольгерда Бахаревича «Собаки Европы»
Книга Ольгерда Бахаревича «Собаки Европы» (2019, авторский перевод с белорусского), изданная во «Времени» и как-то вовремя, произвела оглушительное впечатление, какого давно испытывать не приходилось. Неожиданно, напористо, лихо. Просто какой-то метеорит… да нет, судя по объему, скорее астероид, залетевший из соседней Солнечной системы. Где, кстати, все вертится вокруг собственного Солнцеликого. Хотя это, в общем-то, не главное.
Но важное – политической сатиры в «Собаках» предостаточно. При этом автор безжалостен ко всем и всему, что видит. Тут вам и захваченная Беларусь (да и Киев тоже), и новый «железный занавес», отделяющий Российский Райх от остального мира. Но и Гейропа (так не названная, но такой по сути являющаяся), и крайне саркастичное изображение белорусских националистов, вплоть до крайне правых. И проклятия родному белорусскому языку, посылаемые одним из героев романа в первых же строках капиллярно живого и бьющегося в каждой строке авторского письма. (Герой этот, речевой демиург, так устал от проблем родного языка, что решил создать новый язык, названный им бальбутой…)
Спасибо спасительному многоточию: понимаю, что в пересказе это выглядит странно – не то геополитический фельетон, не то делирий обпившегося лингвиста. Да и пересказ структуры романа (одновременно являющейся его сюжетом) тоже мало что прояснит. Ну да, шесть больших новелл, с хронотопом от современности до 2050 года, на первый взгляд, сюжетно сшитых тяп-ляп, а в действительности – вполне тип-топ. Ну и таки да – магический реализм. Именно магический, поскольку завораживает, и именно реализм, поскольку достоверно и узнаваемо. При всей – часто – бредовости описываемого.
И особая сексуальность, к этой магии примыкающая. Естественная, раскованная, мудрая сексуальность панка (каковым был в молодости Бахаревич), ставшего философом. Социальным, пожалуй. В этом смысле автор щедр – просто до расточительности: разбрасывается сюжетами (прихотливыми, надо сказать) и фонтанирует темами.
Во второй половине ХХ века Василь Быков и Алесь Адамович приучили русского читателя постигать белорусскую прозу в авторских переводах. После них были попытки, и не единичные, сделать то же и на том же уровне. Бахаревич, кажется, первый, кому это удалось в полной мере. Впрочем, не с первого раза. Его «Белая муха, убийца мужчин» на русском (в отличие от белорусского) прошла практически незамеченной.
Кстати, на родине писатель не менее, чем романной прозой, известен сборником эссе «Гамбургский счет Бахаревича». Какая похвальная дерзость, а то и наглость (тоже, в общем-то, панковская, но на ином уровне интеллекта) – 35—36-летний автор перетряхивает белорусскую классику. Причем так, что от этого невозможно оторваться – ни в эфире (Белорусская служба RFE/RL), ни на бумаге (книга вышла в 2012-м).
На тему сравнения с Быковым и Адамовичем навел его я: изменилось ли что-то в «гамбургском счете» после опыта «Собак Европы». В ответе: «Я начал лучше их понимать. И как литераторов, и как амбициозных людей. Ведь за те месяцы, которые книжка существует по-русски, уже очень хорошо почувствовал, как расширились границы, в которых я живу как писатель… Переводить с близких языков и правда тяжело. А еще я сейчас осознал, насколько она жива – империя. «Собак» в России читают совсем не так, как в Беларуси. Наверное, я чувствую себя сейчас, как писатели из бывших британских колоний. Это новый опыт. Думаю, Быков и Адамович чувствовали то же самое».
Интересный поворот. Я-то считал естественным (до банальности) сравнение с Быковым-Адамовичем. А для Бахаревича естественно сравнение с выходцами из другой империи – теми, что спорят за нерусский «Букер». Причем естественно настолько, что он счел нужным продолжить вектор: «Если честно, я еще не совсем понял, что происходит. Но пытаюсь. Наверное, Рушди, когда писал первый роман, чувствовал что-то подобное».
Вот так, не меньше. Но если вдуматься, сравнение вправду скромное: Бахаревич сравнил себя с Рушди времен «Гримуса», а не «Детей полуночи» (хотя свой «Гримус» у него уже был). Тут самое время упомянуть эпиграф к роману – У. Х. Оден, «Памяти У. Б. Йейтса». И «dogs of Europe» как раз оттуда. Книга Ольгерда вообще показатель того, что понятия «ментальность», «европейскость» хоть и трудноопределяемы, но все же реальны. Вот, казалось бы, все на русском языке и по-русски, и так узнаваемо – обыгрывание кинокомедии «Белые Росы», «Путешествия Нильса с дикими гусями» (русского перевода и советского мультика). Однако роман при этом – нерусский (в том числе и в грубоватом армейско-сержантском смысле этого слова). Но тем ценней и интересней имеющаяся отстраненность, транскультурность.
Тем более что «Собаки Европы» – это не просто перевод «Сабак Эўропы», это, по словам автора: «Вправду новая книга. Русская версия белорусскоязычного романа. Она получилась лучше белорусской – потому что книга, над которой работаешь два года, всегда будет лучше книги, над которой работал год. В русской версии более четко прописан сюжет, прозрачней рассказанная история. Она стилистически более отточенная, отшлифованная». (Немудрено, что автор теперь захотел бы проделать обратную работу, вернуться к белорусскому варианту. Но уже захвачен новой книгой и потому бежит от своих «Собак».) «А еще: я не просто перевел, а переписал стихи из романа по-русски. Некоторые удачно, некоторые не очень. Например, для стихотворения „Собаколовы“ так и не смог найти правильный русский язык».
Да, а каков он со стороны – русский язык, правильный, неправильный? «Русский язык предлагает гораздо больше готовых языковых и литературных конструкций, а я всегда старался их избегать. Литературная традиция русского языка более развита. Здесь ты постоянно рискуешь кого-то повторить, а этого не хочется». После моей просьбы объяснить разницу метафорами автор продолжил: «Ну, возможно так: русский язык – как дом, в котором ничего нельзя переставлять, так как все уже имеет свои места; стоит что-то переставить, и все заскрипит, загремит, рухнет. Но переставлять хочется, хочется все переставить по-новому, так, как удобно и интересно тебе. Белорусский язык в этом смысле более свободен, здесь слова тоже прикручены к полу, но не так сильно… Вообще, да, русский язык – язык власти. Я имею в виду – язык приказов, канцелярий, пропаганды. Язык метрополии, язык империи. Это я почувствовал, мы все это чувствуем. Но это и язык действительно великой литературы. Язык Набокова – язык изгнания, язык Достоевского – язык боли… Так что империя – только одна проблема. Вторая – то, что по-русски было написано действительно много замечательных книг. И ты должен как автор чувствовать, кто за твоей спиной».
Так что Ольгерд прекрасно понимал все риски вызова. Но при том: «Перевод такой книги был для меня художественной задачей, решать которую страшно интересно. Интересно работать с русским языком (который, как выяснилось, я не забыл), интересно искать Язык для этого текста в другом пространстве. Ну, и, конечно, этот перевод: мое „расширение пространства борьбы“». В последних трех словах, как кажется, обыгрывается – с долей иронии – сама формула, но не имеется в виду суть одноименного дебютного романа Уэльбека – беспросветно пессимистическая экзистенция героя. Хотя с другой стороны – чего-чего, а пессимизма «Собакам Европы» тоже не занимать. И если уж речь зашла об этом, стоит вернуться к эпиграфу. Автор выбрал, кажется, самые мрачные строфы стихотворения (в русском переводе заметно смягченные; впрочем, жесткости оригинала, кажется, ни в каком из переводов достичь не удавалось), на нисходящей синусоиде – «Follow, poet, follow right / To the bottom of the night», урезав имеющееся у Одена следом возвышение.
При всем том мрачного, тяжелого осадка по прочтении «Собак Европы» не остается. Может, еще и потому, что заканчивается книга правилами (всего 10, как заповедей) и словарем (недлинным) бальбуты – языка свободы (в этом смысл правил), медитативного языка поэзии (все слова одной части речи имеют одинаковые окончания). В словаре этом, кстати, помечена только одна национальность – belarusuta и производное от нее определение – belarusoje. Естественное воздаяние за поношения в начале книги.
Деталь напоследок. С белорусскими друзьями мы общаемся так – я им на украинском, они мне по-белорусски. Это к тому, что ответственность за нюансы смыслов в переводе Бахаревича с belarusoje balbutima на русский в данном тексте несу я. Так что извините, если вслед за «Собаками Европы» тут найдутся «Блохи Европы».
Игорь Дуардович
О России в литературном номере «Esquire»
Раз в году «Esquire» (речь, конечно, о русской версии) делает литературный выпуск, публикуя все сливки, имена большие и малые. Литературный выпуск всегда привлекает внимание, а этим летом был какой-то особенный ажиотаж, пришлось охотиться за номером[34]34
Esquire. 2019. Август.
[Закрыть] в Подмосковье («искали, еле вырвали – нашли!»), так как в самой Москве журнал быстро разобрали (общий тираж 70 000). Интересно, почему? Потому ли, что в номере напечатался Глуховский, навечно автор «Метро», или нобелевский лауреат Исигуро, или сын Стивена Кинга, пишущий под именем Джо Хилл? Или потому, что приглашенным редактором выступила Галина Юзефович, которая теперь после Белинского? Так ее всюду представляют – как главного критика страны, а она поправляет – я просто читатель.
Зачем нужна литература сегодня – спрашивают Юзефович. «…Это, конечно, „для удовольствия“», – отвечает она, констатируя непростое положение литературы, которая впервые за всю историю, по словам главкритика, начала себя продавать. Но хочется спросить: а как же успешные «дельцы» Л. Толстой, Гюго, Дюма-отец и друзья Пушкина, здорово зарабатывавшие на продажах «Онегина»? И поспорить: продает себя не литература, продает себя печать, и раньше было гораздо сложнее напечататься – издатели не рисковали тратить деньги на то, что заведомо не окупится. Сегодня же они зарабатывают в обе стороны. Так что литературе думать о деньгах не впервой. Как и об удовольствии.
Про удовольствие от литературы говорилось еще в Античности, афоризм Юзефович не нов. Другое дело – то, что относится к химии этого удовольствия: слои, значения, второе-третье дно… И так как речь идет о потребителе, который без литературы легко обходится, сделана оговорка, тоже известная: «прелесть литературы, отчасти в самом деле оправдывающая ее особую позицию среди других искусств, состоит в многозначности и многослойности, заложенных в самой ее природе»[35]35
Г. Юзефович. Литературе сегодня непросто // Esquire. 2019. Август. С. 16.
[Закрыть].
В номере рассказы (он исключительно прозаический), но Юзефович обещает не просто «выложенные на поверхность увлекательные сюжеты»[36]36
Там же.
[Закрыть]. Тексты предваряют краткие справки об авторах с указанием, где и как здесь следует искать «удовольствие»: «Каждый текст Марии Галиной – это неоднозначность, недосказанность и мерцание <…> читателю каждый раз приходится конструировать развязку, выбирая один из намеченных автором вариантов»[37]37
Г. Юзефович о Марии Галиной // Esquire. 2019. Август. С. 18.
[Закрыть]. Но после прочтения той же Галиной, как и всего номера, остается легкое недоумение: обещали «второе (а иногда и третье, и четвертое)»[38]38
Г. Юзефович. Литературе сегодня непросто // Esquire. 2019. Август. С. 16.
[Закрыть], но иной раз не дали даже самого, казалось бы, простого первого – «крепкой, хорошо придуманной и убедительно рассказанной истории»[39]39
Там же.
[Закрыть]. В случае с Галиной рассказ напоминает раздавшееся во всю ширь или раскатанное, как блин, стихотворение, по типу тех, что Галина писала и пишет, – такой нескончаемый «новый эпос», о котором уже начали забывать. И как бы в доказательство этой мысли рассказ в самом конце резко сжимается – обратно в стихотворение. Но оно не становится своего рода затычкой в горлышке сюжета, и финал остается открытым. В итоге то, что в «новом эпосе» может быть оправдано ограниченностью места, в рассказе выливается в пластмассовых, однобоких, как герои комикса, персонажей и в пустые красивости, которым не веришь. Где хочешь понять персонажа, тебя отвлекают: «… и нарядные люди сидят за столиками и смотрят в глаза своим отражениям, висящим в темном воздухе над темной водой». То же самое с хвостиком-стихотворением в конце. Весь рассказ производит впечатление сыроватого этюда. С точки зрения композиции номера это плохая затравка для читателя: вместо подтверждения слов главкритика – моментальный пшик.
Надеялся дальше все-таки нащупать потайные двери и добраться до подполов смысла, о которых говорила Юзефович, однако и другие рассказы оказались не лучше.
В юности любил фантастику. Нередко это был палп, например Хаббард, начинающийся ни с чего и кончающийся тоже ничем. Удивительно писучий автор, Хаббард много писал исключительно ради денег. У него даже специальная тетрадка была, где он считал количество написанного и гонорары. Естественно, ни о какой продуманности и идеях тут не могло быть и речи. Главное – увлекательность. Собственно, и само слово «палп» происходит от очень дешевой, плохой бумаги, на которой все это печаталось. Так вот, нынешний литературный номер «Esquire» и отобранные Юзефович вещи – самый настоящий палп-фикшн. Только глянец. Единственное, что выбивается, рассказ Исигуро «Лето после войны», кажущийся совершенно случайным в этом ряду. Здесь нет ни фантастических тварей, ни расчлененки, ни городов-призраков и живых мертвецов, как в других текстах номера, а только классическая история взросления. Опубликован он в начале 1980-х, и Юзефович верно отметила его «связь с одним из ранних романов писателя „Там, где в дымке холмы“»[40]40
Там же. С. 16.
[Закрыть].
«…Но кто сказал, что удовольствие обязано быть предсказуемым, одномерным и простым»?[41]41
Там же.
[Закрыть] Ведь удовольствие бывает еще пассивным и активным, как и само чтение. Пассивное чтение сродни просмотру телевизора, роликов в Интернете, соцсетям, компьютерным играм. Это палпфикшн, низовая фантастика, комиксы, детективы и бульварное чтиво. От них, бывает, остается чувство пустоты, скуки и недовольства собой, то есть убитым временем. И совсем другое – чтение большой литературы, над которой читателю нужно работать, – такое чтение я называю активным.
Странно, что Юзефович совсем забыла об уровнях литературы: есть беллетристика, а есть «большие» роман и рассказ, иначе бы ей не пришлось выдумывать несуществующие «многослойности» и «многозначности». Вообще все разговоры о проблемах литературы и массового искусства так и тянут перефразировать Шекспира: в наш жирный век литература должна просить прощения у «таких монстров, как кино, сериалы, еда, путешествия»[42]42
Там же.
[Закрыть], за то, что она существует.
Можно рассуждать о влиянии массового на литературу, но в действительности оно окажется сильно преувеличенным – просто потому, что массовое черпает из «большого», а не наоборот: это роман влияет на кино, а не кино на роман, и большое кино в итоге растет из большого романа (Е. Абдуллаев уже писал об этом в одной из «Кавалерий» и приводил высокий процент экранизируемых книг современных писателей в Советском Союзе по сравнению с Россией сегодня, что, как следует из статьи, и обуславливает уровень [43]43
См. стр. 395.
[Закрыть]). Роман вообще представляется мне незыблемой цитаделью литературы, в которой укроются сразу все (в итоге и укрываются сегодня) – в том числе и поэзия, дикая краснокнижная птичка. Кстати, поэзии в «Esquire» совсем не нашлось места, даже рэпу, за исключением разве что галинского «хвостика» рассказа, что показательно.
И напоследок немного об идеологии номера. С точки зрения географии в нем выстроена определенная картина мира: Россия, Япония, Китай, обе Кореи и Америка. В России нет практически ничего, кроме хоррора, расчлененки, а еще, конечно, алкоголиков и сумасшедших. Но и в рассказе Джо Хилла ядерная война начинается не без участия России, поддерживающей Северную Корею.
Андрей Пермяков
О попытках говорить с Богом на человеческом языке в романе Игоря Савельева
Каждый из нас бывал Грегором Замзой. Как правило, во сне и ненадолго. В смысле, испытывал чувство вселения в некий очень неприятный организм. Ну вот. Я очень боюсь пауков и недавно почти себя ощутил таковым. Ибо при чтении романа Игоря Савельева «Как тебе такое, Iron Mask?» (2020) будто отрастил себе еще две пары глаз. У паука этих пар четыре, у меня было три.
Сейчас объясню, отчего так. О книгах Савельева я собирался написать очень давно. С тех пор как прочитал «Бледный город. Повесть про автостоп». Иной взгляд на любимое занятие и любимый фрагмент мира интересен всегда. Но вдруг оказалось: к моменту, когда мне попалась эта повесть, автор уже выпустил роман «Терешкова летит на Марс», где речь шла о менее известных мне сущностях. Хотя про финал юности и начало молодости новых поколений читать интересно всегда. Спустя малое время вышли «ZЕВС» и «Верхом на малиновом козле». Их читал с удивлением, понимая, что надо б поподробнее изучить, но в целом соглашался с критиками, благо их вниманием Савельев никогда не был обижен. Общее мнение коллективного разума звучало так, что, мол, автор удивительно талантлив, становится все лучше и лучше, но его истинного уровня никто не знает, и неизвестно, где этот самый уровень. В целом, повторю, соглашаясь, отмечал один момент: стилистические неровности обусловлены разнообразием тематик и соответствующим ходом авторской стилистики – ходом во многие стороны одновременно.
С тем и сел читать «Айронмаску» – думая: пора ли уже написать о Савельеве нечто обзорное и большое либо составить заметку-зарубку на будущее. Победил второй вариант, однако не будем спешить. Итак, первой парой глаз читал книгу, определяя ее место в контексте писательских поисков. Отметил сохранившиеся стилистические моменты. Савельев всегда интересно и на драйве излагает микросюжеты, но между ними следуют короткие вставки, которые писатель будто стремится завершить как можно скорее. Получается нечто вроде колец между звеньями бамбуковой удочки – явные неровности на приятной поверхности удилища.
Из добрых моментов сохранилось умение технично обмануть читателя. Скажем, мы привыкли: когда в книге вне видимого иронического контекста упоминается, что герой «все понял», герой, как правило, действительно что-то понимает. А здесь иначе:
Это конвой, понял Алекс.
– Завтра попозже, в десять, в половине одиннадцатого, а на сегодня вы свободны.
Это не конвой, понял Алекс.
И так всю книгу. В финале, правда, герой что-то поймет, но совсем немножко и не то. У него другая суперспособность, описанная вполне однозначно: «Алекс перетерпел и победил – как делал в жизни не раз». А вот где не дотерпел, там проигрывает. Это и про особенности русской жизни, и не только о ней.
Мир книги вообще оказался довольно удобным для изучения нюансов авторского стиля. Мир сей населен олигархами, министрами, их детьми, пассажирами бизнес-класса, элитными охранниками, балеринами, участниками госпереворота, бывшими героями 1990-х – словом, теми, кого я не знаю. И действие происходит тоже не в самой знакомой локации: в центре Москвы. Нет, я в принципе могу догадаться, кто такой Владилен Сурикатов, но на этом познания в отечественной политике заканчиваются.
Поэтому для отслеживания сюжета пришлось отрастить вторую пару глаз. Эта пара заметила некоторые особенности жизни богачей. К примеру, почему в Шереметьево нельзя идти в Аэроэкспресс, когда боишься слежки, а надо топать на открытую стоянку такси? Тем более если Алекс «секьюрити вычислял профессионально» (кстати, где научился)? Или откуда отец мог знать, что Алекс не выкинет пистолет, а вернет утром обратно по первому требованию? Или отчего переворотная Москва так пуста, что балерина может плясать на танке? Или с чем связана удивительная доброта секьюрити? Когда отец Алекса пал, они, всего лишь символически вломив главному герою за борзое поведение, выкинули его из «Объекта „Шипр“ вон. В романе о ближневосточных или латиноамериканских реалиях тут бы воспоследовало описание пыток страниц на десять. Смотрим хотя бы «Праздник козла» В. Льосы.
Или вот: книга в количествах содержит мат-перемат – и в авторской речи, и в диалогах. Но речь отца передана так: «„Мне плевать, с кем ты трахаешься!“ – на самом деле отец выразился покрепче». Почему? А очень просто. Это не совсем отец.
Когда я понял (или придумал) дальний слой книги, пришлось вырастить еще одну пару глаз, а затем собрать все глаза в кучу и читать уже нормально. Реальность «Айронмаски» очевидным образом напоминает вселенные Кафки. Герой и не свободен, и не арестован формально; отец вроде и рядом, вроде и недоступен; вроде и преступник, вроде и спаситель; вроде и мертв, но тела его никто не видел, а прах или имитацию праха украли, как воруют священные артефакты. Короче, это бог. Именно так, со строчной буквы. Ибо Бога в той Вселенной нет. Загадочный [Mr. P.] (кстати, кто это?) с присными и весьма абстрактное население являют собой некие силы, влияющие на богов, но по сути своей неразумные, хаотические.
Кстати, до вульгарной интерпретации леваком В. Беньямином прозу Кафки неизменно интерпретировали в сходном ключе – как рассказ о вечной и непонятной виноватости человека перед истинными владыками реальности. Это уж позже переключились на тупое социальное восприятие…
Так и у Савельева – получилась книга о некоторых моментах иерархии и общего устройства мира. О неудачных попытках говорить с Богом на человеческом языке и неумении воспринимать язык божественный, принимая его за казенный.
Словом, я вечно ною на ужасно тесный формат заметок в «Легкой кавалерии»: тесно, дескать. Но на сей раз ныть не буду: написал чего хотел, дабы в дальнейшем подумать о грядущих и старых книгах Савельева подробней. Только вот жаль пропавшей в никуда линии Максима – брата или лжебрата Алекса Николаева: тоже ж весьма архетипический образ. Трикстер, например.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?





































