Текст книги "Регионы Российской империи: идентичность, репрезентация, (на)значение. Коллективная монография"
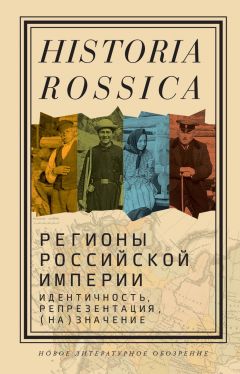
Автор книги: Коллектив авторов
Жанр: История, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 17 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Кэтрин Пикеринг Антонова
Региональная парадигма экономического развития в России XIX века[70]70
Перевод с английского Владимира Макарова.
[Закрыть]
Несколько десятилетий эпохи Холодной войны были отмечены активной дискуссией в западной литературе о протоиндустриализации как необходимом этапе между доиндустриальным периодом и приходом развитого капитализма. При этом как сторонники, так и противники этой концепции сходились во мнении, что развитие капитализма происходит по линейной траектории и состоит из ряда стадий. За прошедшие после дискуссии годы сотни региональных исследований показали, что протоиндустриализация – по крайней мере, в том виде, как ее впервые определил в 1972 году Франклин Мендельс[71]71
Mendels F. F. Proto-Industrialization: The First Phase of the Industrialization Process // Journal of Economic History. 1972. № 31. P. 269–271. Статья основана на диссертации Мендельса, написанной в 1969 году. Протоиндустриализацию он определяет как товарное производство, включающее также сбыт продукции за пределами региона. Производство при этом ведет квалифицированная и специализирующаяся на определенном виде работы рабочая сила, которая действует скоординированно.
[Закрыть], – не всегда вела к индустриализации как таковой. В ряде регионов индустриализация не включала в себя эту стадию, в других случаях об индустриализации не приходится говорить и сейчас.
В настоящий момент теория протоиндустриализации едва ли воспринимается историками серьезно, однако она до сих пор упоминается в рамках университетских курсов, чаще всего в качестве иллюстрации к рассказу о «канонической» британской индустриализации, так часто заслоняющей остальные формы этого процесса. Подобный угол зрения представляет остальной мир лишь догоняющим развитую Великобританию. То, что у развития есть множество форм и оно не обязательно имеет линейный (и уж тем более поступательный) характер, нередко игнорируется. Исследователи региональной перспективы по-прежнему проблематизируют концепции, доставшиеся им в наследство со времен Холодной войны, в то время как исследователи национальных государств все так же не могут справиться с идеей «отсталости». Однако именно переосмысление этих аспектов способно подтолкнуть нас к тому, чтобы преподавать и исследовать историю экономического развития в ее истинном виде, в каком она предстает на страницах архивных документов[72]72
Пока для этого сделано крайне мало. Обзор существующих исследований протоиндустриализации см. в изд.: European Proto-Industrialization: An Introductory Handbook (ed. by Sheilagh Ogilvie and Markus Cerman). Cambridge University Press, 1996.
[Закрыть].
В отношении дискуссии о протоиндустриализации историки, изучающие экономическое развитие России XIX века, традиционно проводят различие между Черноземьем, где урожаи (особенно зерновых) были достаточно высокими, и Нечерноземьем, где вследствие невысокой плодородности земли развивались деревенские «ремесла». Последние и создали, как учит теория, условия для формирования протоиндустрии, а потом и настоящей фабричной промышленности. Неудивительно поэтому, что большая часть исследований протоиндустриализации в России XIX столетия посвящены либо центральному промышленному району, включающему в себя Москву и Иваново, либо же основаны на отдельных примерах из истории нечерноземного региона, иногда в сравнении последнего с Черноземьем[73]73
См.: Blackwell W. L. The Beginnings of Russian Industrialization, 1800–1860. Princeton: Princeton University Press, 1968; Gestwa K. Proto-Industrialisierung in Russland: Wirtschaft, Herrschaft und Kultur in Ivanovo und Pavlovo, 1741–1932. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1999; Melton E. Proto-Industrialization, Serf Agriculture and Agrarian Social Structure: Two Estates in Nineteenth-Century Russia // Past & Present. 1987. № 115. P. 69–106; Rudolph R. L. Agricultural Structure and Proto-Industrialization in Russian Economic Development with Unfree Labor // Journal of Economic History. 1985. № 1 (45). P. 47–69; Wallace D. Entrepreneurship and the Textile Industry: From Peter the Great to Catherine the Great // Russian Review. 1995. № 54. Из работ на русском языке см. фундаментальные труды А. В. Чаянова, а также следующие публикации: Пажитнов К. А., Мешалин И. В. Текстильная промышленность крестьян Московской губернии в XVIII и первой половине XIX века. М.; Л.: Изд-во Академии наук СССР, 1950. Обзор последующей дискуссии см. в работе: Волков В. В. Спор о русской промышленности XVIII – первой половины XIX века: два проблемных вопроса отечественной историографии // Вестник Челябинского государственного университета. 2007. № 3. С. 115–122.
[Закрыть]. Различие между двумя основными климатическими зонами кажется очевидным – и все же оно одновременно слишком обобщенно и слишком узко[74]74
Ричард Рудольф говорит даже об индустриализирующемся «севере» и сельскохозяйственном «юге», вероятно, перенося на Россию модель американской истории. О регионах и региональном развитии в России см.: Smith-Peter S. Imagining Russian Regions: Subnational Identity and Civil Society in Nineteenth-Century Russia. Leiden: Brill, 2018; Russia’s Regional Identities: The Power of the Provinces (ed. by E. W. Clowes, G. Erbslöh, A. Kokobobo). New York: Routledge, 2018; Lounsbery A. Life Is Elsewhere: Symbolic Geography in the Nineteenth-Century Russian Novel. Ithaca: Northern Illinois University Press, 2019. В исследовании Кэтрин Евтухов о Нижегородской губернии показано, как в отдаленных деревнях (в основном на каменистом и покрытом лесами севере губернии) существовала специализация в отношении ремесел, продукцию которых сбывали далеко от места производства через Нижегородскую ярмарку. Наиболее интересный пример – нынешний Семеновский район, где делали деревянные ложки. Ремесленного текстильного производства там не было, хотя существовало несколько мануфактур, устроенных помещиками. Нижегородская ярмарка помогала продавать разные виды вышивки по всей империи. См.: Evtuhov C. Portrait of a Russian Province: Economy, Society, and Civilization in Nineteenth-Century Nizhnii Novgorod. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 2011. P. 60.
[Закрыть]. Я предлагаю альтернативную модель понимания экономического развития – модель, которая принимала бы во внимание новейшие исследования экономики регионов и помогала бы историкам более внимательно изучать тонкие территориальные отличия, обеспечившие тот или иной результат – как в России, так и во всем мире. В рамках этой парадигмы речь не будет идти о «стадиях развития» и поступательном движении; их заменят термины, которые позволяют более адекватно описать региональную вариативность экономического развития.
Прежде всего, важно понимать, что невысокие доходы от сельского хозяйства во многих регионах России не могли не подтолкнуть крестьян к поиску альтернативных форм занятости – но и те крестьяне, что были полностью заняты в сельскохозяйственном цикле, зимой также вели кустарный промысел. Отметим: этот сценарий теория протоиндустриализации считает наиболее типичным. Многие крестьяне, вовлеченные в кустарное производство, и даже фабричные рабочие вели также и огородное хозяйство, стараясь тем самым разнообразить свое питание. Не менее значим тот факт, что под «центральной промышленной зоной» историки обычно понимали текстильные фабрики Москвы и Иваново или прочие формы производства, рассредоточенные по всей территории Центральной России. Но ведь города и деревни были центрами специализированных текстильных кустарных производств задолго до появления промышленных производств. При этом их товары были широко востребованы. Примеров тому множество: от продукции организованных в артели вязальщиц Владимирского и Галичского уездов в первой половине XVII века до тысяч пар шерстяных чулок «из Ярославля» и вязаных изделий из Великого Новгорода в начале следующего, XVIII столетия. Вероятно, вязаные чулки и перчатки, правда, в меньшем количестве, также изготавливали для продажи в Казани, Калуге и Тихвине[75]75
По оценке Б. Горшкова, в центральных российских губерниях (Костромской, Тверской, Владимирской и Ярославской) было более ста «больших протоиндустриальных и торговых деревень», которые «превосходили» многие города «по числу жителей и по экономическому развитию» (A Life Under Russian Serfdom: The Memoirs of Savva Dmitrievich Purlevskii, 1800–1868 (transl. and ed. by B. Gorshkov). Budapest: CEU Press, 2005. P. 15–16). См. также работу К. Евтухов (Evtuhov C. Portrait of a Russian Province: Economy, Society, and Civilization in Nineteenth-Century Nizhnii Novgorod) о ремесленных деревнях в Нижегородской губернии. На Урале и в Донбассе существовали не только «домашние» «индустрии до индустриализации». Об организации вязального производства и сбыте его продукции см. работы Ирены Турнау, скрупулезно собравшей мелкие отсылки и упоминания о нем во множестве российских источников, повествующих о торговле и промышленности. В целом в таких источниках редко обращают внимание на чулки и подобные «мелочи». См., например: Turnau I. Aspects of the Russian Artisan: The Knitter of the Seventeenth to the Eighteenth Century // Textile History. 1973. № 1 (4). P. 9.
[Закрыть]. Кроме того, разделение на Черноземье и Нечерноземье оправдано лишь в отношении тех регионов империи, где преобладало крепостное хозяйство, но оно никак не применимо к территориям на западной границе империи, где были хорошо развиты обработка шерсти и льна, ткачество и вышивание, или районам раннего промышленного производства, таким как Урал.
В то же время само определение протоиндустрии в максимально общей формулировке (производство товаров специализированной рабочей силой и продажа их за пределами региона, где они произведены) игнорирует и важные различия между типами крестьянских кустарных производств, и отношения между городом и деревней, и региональные особенности торговли, труда и организации общества. Для текстильного производства определяющими факторами являются техническое получение волокон, влияющее на способы их обработки (прядение и ткачество), их структура и другие свойства, понимание того, что именно можно из них изготовить и при каких обстоятельствах. Кроме таких факторов, как, например, возможность использовать технику валяния или способы получения средней длины волокна, важно и наличие трудовых ресурсов – крестьян, готовых постоянно работать на производстве. Другие кустарные промыслы также определяются существующими ограничениями: как сохранять свежими тульские пряники; как транспортировать алкоголь и приспособиться к вмешательству правительства в процесс его производства и продажи; как добывать сырье для металлообрабатывающей промышленности и т. д. При этом важно понимать, что на жизнеспособность кустарного производства близость большого торгового города (например, Нижнего Новгорода) или Волги как торгового пути влияла столь же существенно, как и урожай зерновых или структура рынка труда, а деревня, столетиями создававшая репутацию центра иконописи, пользовалась всеми преимуществами своего «бренда» и обладала традициями обучения необходимым навыкам[76]76
В статье, посвященной торговле лесопродукцией в принадлежавшем графине Ливен костромском поместье, Эдгар Мелтон уделяет внимание специфическому региональному контексту этого производства. К последним относится близость поместья к Волге, делавшая производство непрерывным. Назвать его «протоиндустриальным» вряд ли возможно, поскольку ремесла были лишь частью всего процесса, в основном сосредоточенного на производстве и сбыте древесины. См.: Melton E. The Magnate and her Trading Peasants in Serf Russia: Countess Lieven and the Baki Estate, 1800–1820 // Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. 1999. № 47. P. 40–55.
[Закрыть].
Историки явно преувеличивали и различие между крепостными, платившими оброк и производившими и продававшими товары по собственной воле (или по приказу помещика), и теми, кто отрабатывал барщину на помещичьих полях, а в остальное время работал на своей земле: последние были «привязаны» к земле лишь во время сезонного сельскохозяйственного цикла (при том что работа была возможна только при дневном свете). Исследователи крепостного права используют в основном документы, составленные богатейшими землевладельцами и их управляющими, – материалы, действительно содержащие множество деталей о повседневном управлении крупным помещичьим хозяйством. Из этого возникает распространенный в западной литературе вывод о том, что в России крепостное право было менее патримониально по сравнению, в частности, с североамериканским рабовладением, так как власть отсутствующего постоянно в имении крупного помещика представляется более отдаленной[77]77
Эта аргументация наиболее подробно изложена в кн.: Kolchin P. Unfree Labor: American Slavery and Russian Serfdom. Cambridge: Belknap Press, 1990.
[Закрыть]. Однако у богатых помещиков также была возможность инвестировать в промышленное производство, основывая, например, мануфактуры в Москве. Это было выгоднее, чем сажать нескольких ткачей в сарай в собственном поместье, как это делали менее состоятельные (и часто не замечаемые историками) землевладельцы. Кроме того, большие предприятия, руководимые наемными управляющими, чаще работали по четким правилам, не полагаясь на личные отношения и переговоры с работниками.
Большинство крестьян в частном владении действительно работали на помещичьих полях. Без сомнения, многие землевладельцы, жившие в своих поместьях, знали своих крепостных по имени. Финансовая нестабильность барского хозяйства часто заставляла помещиков договариваться об использовании труда крепостных в иных, более сложных схемах[78]78
См.: Пикеринг Антонова К. Господа Чихачёвы. Мир поместного дворянства в николаевской России. М.: Новое литературное обозрение, 2019; прежде всего гл. 3. В последние три десятилетия крепостного права у Чихачёвых было от 300 до 500 крестьян.
[Закрыть]. Вот один из подобных примеров. Имения помещика средней руки Андрея Чихачёва были разбросаны по нескольким уездам Владимирской губернии, некоторые из них – в непосредственной близости к центру текстильной промышленности в районе Иваново – Тейково[79]79
О полностью индустриализированном производстве в Иваново написано много работ, но они чаще всего затрагивают период после отмены крепостного права и посвящены политической истории или истории рабочей силы, а не текстильному производству как таковому. Важным исключением стала работа Алисон Смит о сложном переходе от крепостного производства к промышленности современного типа (Smith A. A Microhistory of the Global Empire of Cotton: Ivanovo, the Russian Manchester // Past and Present. 2019. № 244. P. 163–193). Дэйв Претти также делает акцент на периоде окончательной индустриализации производства, но в историческом обзоре раннего периода производства хлопковых тканей в России отмечает, что оно выросло из существовавшего ранее производства льняных тканей. Этому процессу способствовало отсутствие внимания государства, которому нужна была шерстяная и льняная продукция для нужд армии: «отсутствие государственного заказа означало, что спрос регулировался исключительно рыночными средствами, а это придавало хлопковой промышленности гибкость, которой никогда не могли похвастаться конкуренты в других областях текстильной индустрии» (Pretty D. The Cotton Textile Industry in Russia and the Soviet Union // The Ashgate Companion to the History of Textile Workers, 1650–2000. London: Routledge, 2010. P. 421–448). Однако Претти опирается прежде всего на те же источники, проблема которых, как было показано выше, – в неточном понимании технологий, а также в телеологичности оценок (см. работы: Blackwell W. L. The Beginnings of Russian Industrialization; Gestwa K. Proto-Industrialisierung in Russland; Пажитнов К. А., Мешалин И. В. Текстильная промышленность крестьян Московской губернии в XVIII и первой половине XIX века). Аргументация идет по кругу: хлопковая промышленность развивалась успешно благодаря своей «гибкости», потому что гибкость – залог успеха. На самом деле гораздо большее значение имело то, что она возникла в удачный момент и задействовала определенные технологии. В статье Претти также утверждается, что хлопок вытеснил лен, потому что цены на импортный хлопок упали, но автор совершенно не замечает, что лен как местный материал никогда не был дорогим сырьем. Хлопковое и льняное производство различались по технологическим условиям подготовки волокна и работы с пряжей. Даже в Британии подготовку и прядение хлопка механизировали намного раньше, чем аналогичные операции со льном. Кроме того, из этих двух типов ткани получалась абсолютно разная продукция. Набивные льняные ткани средней плотности действительно уступили место набивным хлопковым, как только стало возможным импортировать плотную британскую хлопковую нить. Но грубые (например, холст или марля) или узорчатые льняные ткани (например, камка/дамаст или шотландка) по-прежнему производились на ручных ткацких станках из спряденных вручную нитей. Претти утверждает, что запрет на экспорт британских станков для текстильной промышленности, существовавший до 1842 года, означал, что «прядильное производство в России было неконкурентоспособно» (Pretty D. The Cotton Textile Industry in Russia and the Soviet Union. P. 425–426), но это верно, лишь если сравнивать позиции России и Британии на международном рынке и только применительно к хлопковым тканям.
[Закрыть]. Основу хозяйства составляло сочетание барщины и оброка. Разделение труда между крестьянами (в основном мужчинами) предполагало работу на полях, выращивание льна и разведение овец. Другая часть крепостных (возможно, в какой‐то мере те же самые люди) ткали у себя в избах. Дворовые (женщины, а также часть мужчин-ткачей), вероятно, иногда работали на полях в обмен на месячину, однако их основным занятием было ткацкое производство – они пряли, ткали, вязали и шили у себя дома или в отдельных постройках в деревне Дорожаево под Шуей. Их работу тщательно документировала и заносила в особые книги сама помещица Наталья Чихачёва[80]80
Подробнее о текстильном производстве в поместьях Чихачёвых см.: Pickering Antonova K. The Thickness of a Plaid: Textiles on the Chikhachev Estate in 1830s Vladimir Province // The Life Cycle of Russian Things: From Fish Guts to Faberge, 1600-present (ed. by T. Starks, M. Romaniello, A. K. Smith) (готовится к публикации в 2021 году) и Pickering Antonova K. «Prayed to God, Knitted a Stocking»: Needlework on a Nineteenth-Century Russian Estate // Experiment: A Journal of Russian Culture. 2016. № 22. P. 1–12. О семействе Чихачёвых см.: Пикеринг Антонова К. Господа Чихачёвы: Мир поместного дворянства в николаевской России.
[Закрыть].
Исследователю середины ХХ века было трудно представить, что произведенные крестьянами товары могли быть изысканными и конкурентоспособными. Отчасти это происходит потому, что историки стремятся рассмотреть проблему в масштабе всей империи[81]81
Даже те авторы, что изучили всего один или два кейса, склонны делать широкие выводы, опираясь на крайне недифференцированные противопоставления регионов (например, Черноземье/Нечерноземье).
[Закрыть]. Однако, если мы возьмем в качестве примера все тот же текстильный кластер Иваново – Тейково, становится ясно, что низкие урожаи и предпочтение, отдаваемое оброку, а не барщине, сами по себе не объясняют причины появления и укрепления здесь текстильного производства[82]82
Урожаи в сельском хозяйстве и способы уплаты оброка довольно сильно различались в пределах одной и той же Владимирской губернии. См.: Военно-статистическое обозрение Российской империи. Т. 6. Ч. 2 (Владимирская губерния) и Статистическое управление Владимирской области. Народное хозяйство Владимирской области: Статистический сборник. Горький: Гос. статистическое изд-во, 1958; а также: Пикеринг Антонова К. Господа Чихачёвы, гл. 1.
[Закрыть]. Большую роль в этом процессе сыграли и близость торгового Суздаля, и прекрасный почтовый тракт, который вел к Москве и другим городам, и то, что выращивание льна и разведение овец было здесь делом выгодным. Все это помогло создать в регионе текстильную промышленность, история которой насчитывала уже как минимум двести лет к тому моменту, когда механизация прядильно-ткацкого процесса сделала оправданным ввоз в Россию хлопка. Возможно, самое важное – Владимирская губерния была центром распространения офеней – странствующих торговцев, которые создавали товарообмен между городами и даже между деревнями. Из записей Натальи Чихачёвой и ряда других источников мы знаем, что офени были настолько профессиональны и организованны, что для защиты своих торговых секретов создали особый тайный язык[83]83
Военно-статистическое обозрение. Т. 6. Ч. 2. С. 149, 159.
[Закрыть].
Определение протоиндустриализации, по Мендельсу, предполагает, что производство еще не было механизировано, когда появилась организация и расширенные структуры рынка, которые помогли впоследствии появиться изобретениям, совершившим революцию в текстильной промышленности в Великобритании конца XVIII века. Прежде всего это прядильный станок (spinning jenny) и целый комплекс приспособлений для механизации прядильно-ткацкого дела, которые ускоряли производство, но вместе с тем требовали больших фабричных помещений. Такими машинами все чаще управляли не женщины, а мужчины.
Этот конкретный пример из истории экономического развития севера Великобритании использовался как модель, согласно которой организация производства и формирование рынка ведут к механизации и маскулинизации, то есть к «прогрессу», как его понимали ранее. Популярность этой модели объясняет интерес мужчин-историков середины ХХ века к прядильному станку несмотря на то, что само прядение столетиями было делом женщин. В английском языке само слово «прядильщица» (spinster) со временем стало означать «незамужняя женщина», а «палка для кудели» (distaff) стала маркировать отсылку к женскому пространству и культуре – например, в выражении «по женской линии» (on the distaff side). Игнорируя роль этого скромного предмета домашнего обихода в более ранние столетия, историки внезапно проявили интерес к spinning jenny как к пусть и примитивному, но станку – знаку наступающей эпохи механизации текстильного производства. Большое количество прядильных станков, как утверждалось, было прямым знаком того, что вся экономическая система региона «двигалась» к механизации, приближая наступление капиталистической индустриализации. Соответственно, историки российской экономики в поиске признаков наступления капитализма XIX века стремились обнаружить фабричные здания, заполненные прядильными машинами. Такой поиск редко оказывался удачным (что неудивительно: фабрики здесь действительно встречались нечасто), и факт отсутствия объявлялся очередным признаком российской отсталости.
Историков вводит в заблуждение и непонимание того, как выглядел прядильный процесс, а также закрепившаяся в сознании установка, что «успешное» развитие непременно должно проходить определенные стадии. Самопрялки появились в Восточной Европе примерно в то же время, что и на западе континента[84]84
В Китае и Индии самопрялки появились намного раньше (около 1000 года н. э.), при этом независимо друг от друга. Они использовались для прядения хлопковой нити. «Большое колесо» – самый ранний тип самопрялки в Европе – было приспособлено для работы с шерстяной или хлопковой нитью. К 1480 году был изобретен и приводной механизм, а к 1524 году – ножная педаль для вращения колеса. Вращаясь, колесо пряло из волокна нить, которая сразу наматывалась на катушку, экономя таким образом усилия пряхи. Со временем самопрялки стали использовать и для другого сырья, но существовали ограничения: самопрялка была настроена на волокна определенных параметров. Даже на сегодняшних колесных прядильных устройствах не получается так плотно скручивать нити (для основы в ткацком производстве), как если прясть их на веретене. См.: Hart P. Wool: Unraveling an American Story of Artisans and Innovation. Atglen: Schiffer Publishing Ltd., 2017. P. 32; White L. Jr. Medieval Technology and Social Change. New York: Oxford University Press, 1966. P. 119; Franquemont A. Respect the Spindle. Loveland: Interweave Press, 2009. P. 6–47.
[Закрыть], однако в российских документах прядение упоминалось редко. При этом мы не сможем найти в них указания на то, исключительно ли на веретене или на самопрялке была выполнена работа. И все же из источников, в частности документов хозяйства упоминавшейся выше семьи Чихачёвых[85]85
См., например, работы Ирены Турмау, скрупулезно исследовавшей доиндустриальное текстильное производство в Восточной Европе (Turnau I. The History of Knitting before Mass Production. Warsaw: Institute of the History of Material Culture, Polish Academy of Sciences, 1991; The History of Dress in Central and Eastern Europe from the Sixteenth to the Eighteenth Centuries. Warsaw: Institute of the History of Material Culture, Polish Academy of Sciences, 1991).
[Закрыть], становится ясно, что и до, и после появления прядильных станков для обработки хлопка в Иваново и постепенной механизации шелкопрядения и ткачества в Москве лен и шерсть часто пряли вручную. Причина заключается в том, что разные волокна обладают разными свойствами: один и тот же станок не может обрабатывать длинные волокна льна или шелка, средние по длине волокна шерсти и тем более короткие волокна хлопка. Более того, волокна хлопка, шелка и льна очень прочны, но при этом не обладают эластичностью, а волокна шерсти, напротив, непрочны, но исключительно эластичны. Волокна хлопка во время обработки необходимо крепко перекручивать (иначе они распадутся), но нить, которая получается в итоге, – достаточно мягкая. Короткие шерстяные волокна, если их сильно перекрутить, наоборот, становятся жесткими и грубыми. Волокна же льна скручивать нет необходимости: они будут держаться без дополнительного усилия. Наконец, попытки прясть лен или шелк на станке, предназначенном для шерсти или хлопка, неизбежно приведут к тому, что нити перепутаются. Таким образом, мы видим, насколько неверным является стремление увидеть, как «текстильное производство» единообразно переходит от простых машин к сложным, демонстрируя «прогресс», ведь каждый тип волокна требует своего подхода. Переработка льна не была полностью механизирована до конца XIX века, а довести процесс механической обработки до совершенства смогли лишь в начале ХХ столетия. Некоторые виды узорного тканья камковой ткани выполнялись вручную до конца XX века[86]86
Сложно в сжатом виде описать, какие станки наиболее успешно работали с тем или иным сырьем. Непросто также определить, когда и для производства каких тканей они появились в той или иной стране. См.: Hart P. Wool: Unraveling an American Story of Artisans and Innovation. P. 58–60; Cookson G. The Age of Machinery: Engineering the Industrial Revolution, 1170–1850. Woolbridge: Boydell Press, 2018 (особенно Введение); и Mohanty G. F. Labor and Laborers of the Loom: Mechanization and Handloom Weavers, 1780–1840. New York: Routledge, 2006 (особенно гл. 9). Барбара Хан объяснила, в чем проблема телеологического подхода к истории технологий в текстильном производстве (Hahn B. Spinning through the History of Technology: A Methodological Note // Textile History. 2016. № 2 (47). P. 227–242). Она отмечает, что историки технологий слишком часто «задают вопросы о распространении или использовании какой-либо технологии, но не о том, как ее изобрели». Хан подчеркивает, что, когда в центр нарратива ставят изобретение, используется следующая логика: есть некая технологическая проблема, она требует определенного и единственного решения, последнее в конце концов оказывается найденным. На деле же «фабрика возникает из нескольких источников и служит в итоге множеству целей, включая контроль за рабочими, управление рисками и контроль качества» (Hahn B. Spinning through the History of Technology: A Methodological Note 2. P. 233). О тесно связанной с этим проблеме противопоставления «ремесла» и «науки» см. введение к кн.: Ways of Making and Knowing: The Material Culture of Empirical Knowledge (ed. by P. Smith, A. R. W. Meyers, H. J. Cook). Ann Arbor: University of Michigan Press, 2014.
[Закрыть]. При этом в кластере Иваново – Тейково лен оставался наиболее доступным и популярным «сырьем» до отмены крепостного права, когда импортные станки и импортный хлопок помогли огромному и полностью механизированному производству хлопковых тканей вытеснить – но не уничтожить – мелкие предприятия по переработке льна и шерсти[87]87
Первая в России хлопкопрядильная фабрика, где использовались паровые машины, была основана в 1798 году в Петербурге. О раннем периоде индустриализации в России см.: Струмлин С. Г. Очерки экономической теории России и СССР. М.: Наука, 1966. Чтобы точнее понимать историю механизации текстильного производства, нужно помнить, что до конца XIX века по практическим соображениям она была полностью введена только в связи с переработкой хлопка, и это совершенно не означало, что слабо механизированное или вовсе не механизированное производство льняных, шелковых или шерстяных тканей тем самым становилось устаревшим или бесполезным. Разная продукция делалась для разных целей, и каждая из тканей производилась способом, наиболее эффективным в тот или иной момент времени.
[Закрыть]. Непрофессиональные пряхи или те, кто занимался обработкой льна в перерывах между другими домашними делами, чаще всего пряли на обычном веретене – его удобно носить с собой и легко заменить[88]88
Подробнее о том, почему веретено «в час производит меньше, а в неделю – больше» (по выражению антрополога Эдуарда Франкмона), см.: Andean Spinning // Handspindle Treasury: Spinning around the World (comp. by A. C. Moore, L. Good). Loveland: Interweave Press, 2000. P. 14; Pickering Antonova K. The Thickness of a Plaid.
[Закрыть]. Неудивительно поэтому, что веретено считалось самым удобным приспособлением для льнопрядения у крестьян. Это объясняет, почему историки, стремящиеся обнаружить в подобных хозяйствах самопрялки, никак не могут этого сделать.
Сравним региональное преимущество кластера Иваново – Тейково перед Оренбургом, который не был центром текстильного производства и где социальная база производства была иной. В Оренбурге существовала давняя и успешная традиция текстильного производства, созданная распространенными ручными мануфактурами, продукция которых продавалась в том числе и за границу. Работа здесь, как и в Центральной России, также в основном велась на дому ткачихами-крестьянками. Оренбургские пуховые платки ткались из шерстяной пряжи, сделанной из козьего пуха. Считается, что это производство возникло как специализированная форма кустарного промысла в XVII веке, после того как казаки усовершенствовали технологии, заимствованные у степных кочевников. В дальнейшем улучшить эти технологии в XVIII веке помогла деятельность Петра и Елены Рычковых. Последней в 1770 году была «присуждена золотая медаль Вольного экономического общества за несравненное качество вручную спряденных и вязаных товаров»[89]89
Khmeleva G., Noble C. R. Gossamer Webs: The History and Techniques of Orenburg Lace Shawls. Loveland: Interweave Press, 1998. P. 11–12.
[Закрыть]. Хотя попытки экспортировать пух или коз с целью расширить рынок сбыта потерпели неудачу, сами платки во второй половине XIX века выставлялись на международных выставках и продавались как предмет роскоши в Великобритании[90]90
Там же.
[Закрыть]. Рычковы сыграли ключевую роль в организации производства и вывода оренбургских пуховых платков на рынок. Это производство, впрочем, не требовало повседневного контроля, какой присутствовал в хозяйстве помещицы Чихачёвой. После смерти Рычковых производство платков не стало менее популярным и процветало при новых поколениях предпринимателей и промышленников. Трудовые навыки традиционно сохранялись внутри семьи: за разведение коз обычно отвечали отцы и сыновья, а жены и дочери пряли шерсть и вязали платки.
Если дореформенное Иваново – Тейково может служить примером поместного производства, то Оренбург до наших дней остается моделью производства ремесленного, немеханизированного и сосредоточенного прежде всего в индивидуальных хозяйствах. При этом в последнем случае продукция выходила на обширный рынок далеко за пределами региона с помощью посредников. Эта форма протоиндустриализации наиболее близка канонической (британской) схеме. Однако такое производство совершенно не обязательно должно переходить в какую-то более развитую стадию. Показательно, что в Оренбурге этого и не произошло. Я полагаю, что описанную модель точнее будет назвать ремесленной[91]91
См.: Bertucii P. Artisanal Enlightenment: Science and the Mechanical Arts in Old Regime France. New Haven; London, 2017; Voskuhl A. Androids in the Enlightenment: Mechanics, Artisans, and Cultures of the Self. Chicago: University of Chicago Press, 2013. О ремесленном производстве в России в целом см.: Вергинский В. С. Иван Иванович Ползунов, 1729–1766. М.: Наука, 1989; Он же. Черепановы. Свердловск: Средне-Уральское книжное изд-во, 1987; Он же. Замечательные русские изобретатели Фроловы. М.: Машгиз, 1950; Раскин Н. М. Иван Петрович Кулибин, 1735–1818. М.: Изд-во Академии наук СССР, 1962.
[Закрыть].
Советский период истории оренбургского текстильного производства подтверждает такое определение: советская власть признала экономическую ценность этой «кустарной промышленности» и по-марксистски решила подтолкнуть ее к превращению в настоящую городскую индустрию, введя государственный контроль за средствами производства. Если в дореволюционный период женщины пряли и ткали дома, обучаясь соответствующим навыкам и передавая их друг другу и дочерям, то теперь их переводили в большие помещения, называемые «фабриками». При этом, как ни парадоксально, форма работы совершенно не изменилась – ни на одном технологическом этапе механизировать и автоматизировать производство платков невозможно даже сейчас[92]92
Khmeleva G., Noble C. R. Gossamer Webs: The History and Techniques of Orenburg Lace Shawls. P. 11–12.
[Закрыть]. Новое «фабричное» пространство повлияло на способы передачи навыков и обучение узорам, но ни в экономическом, ни в технологическом отношении никакой роли не сыграло: оба эти аспекта были доведены до совершенства еще в XVIII веке.
Другие локальные примеры ручной выделки тканей пока изучены слабо и, что не менее важно, не соотнесены с историческим контекстом. Еще в конце XIX века Софья Давыдова исследовала производство коклюшечных кружев в России. Ее работы включают в себя обзор производства по регионам и множество технологических деталей[93]93
Лаврентьева Л. С. Кружева в коллекциях отдела Европы и их собиратели // Научные исследования и музейные проекты МАЭ РАН в 2012 году (под ред. Ю. К. Чистова). СПб.: МАЭ РАН, 2013. С. 188–197; Давыдова С. А. Русское кружево. Узоры и сколки. СПб., 1909; Альбом узоров русских кружев // Тр. комиссии по исследованию кустарной промышленности в России. СПб., 1885; Руководство для преподавания рукоделий в школах. СПб., 1887; Русское кружево и русские кружевницы. СПб., 1892.
[Закрыть]. Вероятно, оттуда взято пояснение к одной из иллюстраций в альбоме о пятисотлетней истории текстиля под редакцией Дженнифер Харрис. На одной из иллюстраций можно увидеть прекрасный льняной полог для кровати, обшитый по краям коклюшечным кружевом и сделанный, как указано в пояснении, в конце XVIII века. Он представляет собой «домашнюю вышивку типичного для той эпохи качества, выполненную в мастерской, какие существовали при очень богатых домохозяйствах»[94]94
Textiles: 5,000 Years (ed. by J. Harris). New York: Harry N. Abrams, 1993. P. 236. Несмотря на эту отсылку к производству кружев в помещичьих хозяйствах, в книге говорится, что сложная ручная работа по ткани выполнялась в России главным образом в церковной среде. На мой взгляд, точнее было бы сказать, что в этой среде сохранилось больше всего примеров подобной работы. Автор упоминает, однако, и о том, что «к началу XVII века в каждом региональном центре существовали мастерские, где производилась церковная вышивка на продажу» (Textiles: 5,000 Years. P. 236). На с. 241 приводится изображение изящной шелковой вышивки по льняной ткани с подписью «Южная Россия, конец XVIII – начало XIX века», явно произведенной для светских нужд. Также указано, что вышивка мелким жемчугом была характерна для традиций архангельского, новгородского и олонецкого искусства – то есть регионов, где добывали речной жемчуг (Textiles: 5,000 Years. P. 237).
[Закрыть]. Историки искусств и специалисты по истории тканей отмечали существование таких деревенских и исключительно ручных производств, продукция которых была востребована, что часто приносило неплохую прибыль владельцам, тем не менее в обзорах российской экономики такие производства почти никогда не фигурируют.
Кроме ивановской текстильной промышленности лучше всего документировано московское шелковое производство[95]95
См. цитируемые выше западные и российские работы об индустриализации. В каждой из них, но в особенности в работе К. А. Пажитнова и И. В. Мешалина, затрагивается история московского текстильного производства.
[Закрыть]. Организацию последнего также можно легко сопоставить с тем, что существовало в Западной Европе. Именно потому в шелковой промышленности древней российской столицы историки ХХ века находили черты развитого производства – множество фабрик явно «современного» типа существовало в Москве еще с XVIII века, но даже в этой модели они обнаруживали некоторую отсталость: московские фабрики считались менее успешными, чем британское производство того же времени. Великобритания экспортировала главным образом хлопковые ткани и сукно, используя особенный проприетарный способ выделки последнего, а Москва специализировалась на экспорте шелковых тканей и конкурировала не с Британией, а с Францией, где производство шелка имело значительно более долгую традицию. Текстильное производство в Москве имеет большое значение как пример промышленного развития при поддержке государства. Роль государственного поощрения при этом варьировалась в разные периоды – от прямых инвестиций и государственных заказов на выгодных условиях до попыток стимулировать вложения в бизнес из‐за рубежа. Вместе с тем изучение текстильного производства в Москве нельзя перевести на уровень обобщений, если предварительно не разграничить производство шелка, с одной стороны, и ручное производство ткани (вязание) – с другой. Оба производства традиционно пользовались государственной поддержкой, однако стоит иметь в виду и ряд существенных различий. Шелк-сырец ввозили в Россию из‐за границы, и конечную продукцию – тонкую ткань с гладкой и блестящей поверхностью – можно было дорого продать при условии выхода на рынок с достаточным уровнем покупательской способности. Логично, что центром шелкового производства стала Москва, где сходились как международные, так и межрегиональные торговые пути, где жили богатейшие коммерсанты, где было больше всего свободной рабочей силы и экономических мигрантов – крепостных. Наконец, Москва была в зоне внимания петербургского имперского правительства, которое создавало для города выгодные экономические условия, способствовавшие привлечению иностранных инвесторов. Последние привезли в Москву новейшие технологии шелкоткачества, такие как, например, жаккардовский станок, автоматизировавший выполнение сложных узоров. Для льна подобная технология была разработана лишь сто лет спустя.
На протяжении XVIII века московские текстильные фабрики также выпускали шерстяные, хлопковые и – в меньшей степени – льняные ткани, а также готовые предметы одежды. Если большая степень автоматизации была недоступна, производство велось в больших мастерских при помощи самопрялок и ткачей, работавших парами на больших ткацких станках (до изобретения самолетного челнока, который убыстрил процесс, сделав его при этом более опасным). Все эти крупные мануфактуры размещались в Москве не потому, что в других городах выпускать продукцию такого же или лучшего качества было невозможно, и не потому, что в Москве производство было более экономичным. Производство было развернуто в Москве с таким размахом, поскольку его главной целью было обеспечение огромной российской армии и флота: ткацкая промышленность в Москве превратилась в специализированную индустрию, тесно связанную с потребностями государства, а не нуждами рынка[96]96
Подробнее о временных рамках этого производства, его масштабах и продукции, а также заказах императорской семьи см.: Turnau I. Aspects of the Russian Artisan: The Knitter of the Seventeenth to the Eighteenth Century. P. 7–25; и работу К. А. Пажитнова и И. В. Мешалина.
[Закрыть].
Как уже упоминалось, ручное производство ткани (вязание) было схоже с производством шелка (ведь шелковые чулки часто именно вязали), однако существовал ряд технологических особенностей. Круговые вязальные машины в Москве были устроены еще Петром I в 1704 году, так что можно было бы назвать вязальную индустрию одним из самых ранних механизированных производств в стране[97]97
Turnau I. Aspects of the Russian Artisan: The Knitter of the Seventeenth to the Eighteenth Century. P. 7–25.
[Закрыть]. Тем не менее носки и наголенки чулков, как и пальцы перчаток, все равно приходилось довязывать вручную вплоть до ХХ века. Это делало промышленное вязание одним из самых первых модернизированных текстильных производств и одновременно одной из наиболее традиционных моделей выработки[98]98
Вязаные шелковые чулки и перчатки пользовались большим спросом у того же круга покупателей, что и шелковые ткани. Вместе с тем в целом перчатки и чулки гораздо чаще вязали из шерсти для более широкой и менее платежеспособной категории. Кроме того, чулки шились из льна, однако это было совершенно отдельное производство с центром прежде всего в кластере Иваново – Тейково.
[Закрыть]. Для Москвы это означало, что шелкопрядильные фабрики и небольшие мастерские, где на механических вязальных машинах изготавливались шелковые или шерстяные трубчатые заготовки для чулок и перчаток, находились в постоянном, фактически ежедневном контакте с крестьянками, которые вязали дома, время от времени прерываясь на другие занятия. Иными словами, в этом случае мы видим, что фабрики и мастерские, являвшиеся примером городского производства, существовали задолго до так называемой протоиндустриальной стадии, при этом они взаимодействовали с крестьянками, которые сдавали готовую продукцию за деньги посредникам (пример кустарного производства, связанного со стадией протоиндустриализации). Крестьянки продолжали вязать чулки и перчатки у себя дома еще и в ХХ веке. Даже сейчас бесшовный и эластичный вязаный носок или перчатки, которые сгибаются под любым углом, а значит, позволяют любое движение, можно сделать только вручную – ручное вязание создает товар лучшего качества, а изделие, произведенное механическим путем, к тому же придется сшивать на станке.
В этой статье описано лишь несколько региональных примеров – от поместного производства в Иваново – Тейково до ремесленного в Оренбурге, от урбанизированного промышленного производства в Иваново после отмены крепостного права до столь же урбанизированного и схожего по структуре, но явно работающего под надзором государства московского шелкопрядения, которое не только велось на городских фабриках, но и было тесно связано с ручным вязанием в деревнях. Мы уже знаем, что идея протоиндустриализации определяет или объясняет далеко не каждый экономический феномен и не подходит для описания каждого из приведенных примеров. В качестве более конкретной альтернативы я предлагаю новый термин – «параиндустрия». Он описывает лишь специализированную организацию труда и выведения товара на рынок, освобождая эти факторы от привязки к определенной «стадии» развития производства. «Параиндустрия» не предполагает движения от менее развитой «стадии» к более развитой, не требует постоянной, все более усложненной механизации (последняя во многих случаях необязательна, а для некоторых видов продукции – вредна). Другие признаки протоиндустриализации в ее традиционном понимании при этом могут сохраняться. В целом параиндустрию можно определить как набор признаков, которые способны проявляться в конкретный исторический момент в любом производстве. К таким признакам можно отнести: организацию труда через его разделение на специализированные виды работ, требующие квалификации; организованное управление процессом (самоконтроль или внешний контроль, координация отдельных процессов); организованную стратегию сбыта – для того чтобы продукцию не только довести до локального потребителя, но и «брендировать» ее как обладающую особыми свойствами и потому пользующуюся более широким спросом. Такой «брендинг» делает продукцию привлекательной для покупателей не только в регионе, где она произведена и где есть люди, способные судить по опыту о ее качестве или получить информацию напрямую от производителя. Конечно, брендинг – это современное понятие. Однако очевидно, что сама идея брендинга появляется в тот момент, когда регион или производитель впервые становится известен в связи с конкретной продукцией. Я полагаю, что идея брендинга была вполне понятна задолго до начала XIX века и зависела не от механизации производства или организации труда, а от прибыли и «экономического успеха». Брендинг далеко не всегда регионален, но terroir[99]99
Термин «terroir» обычно применяется к потребительским товарам, прежде всего вину и сыру (см., например: Bundel R., Tregear A. From Artisans to «Factories»: The Interpenetration of Craft and Industry in English Cheese-Making, 1650–1950 // Enterprise & Society. 2006. № 4 (7). P. 705–739; Whited T. L. Terroir Transformed: Cheese and Pastoralism in the Western French Pyrenees // Environmental History. 2018. № 4 (23). P. 824–846), но я полагаю, что его можно распространить и на весь ряд региональных факторов, определяющих свойства определенной текстильной продукции и спрос на нее. Существует и схожий термин «волокнораздел» (fibershed, по аналогии с «водоразделом»), автором которого является Ребекка Берджесс, эколог и активистка защиты трудовых прав. «Волокнораздел» описывает большую территорию, на которой возникает устойчиво развивающееся производство текстиля определенных видов. См. введение к кн.: Burgess R., White C. Fibershed: Growing a Movement of Farmers, Fashion Activists, and Makers for a New Textile Economy. White River Junction: Chelsea Green Publishing, 2019.
[Закрыть] конкретной продукции (ассоциирование свойств товара с характеристиками места, где он произведен) формирует мотивацию к покупке конкретного товара. Возникает своеобразный экономический «трюк», который, надо сказать, намного хитрее, нежели тот, при помощи которого несколько прях или ткачих, производящих не менявшийся столетиями набор действий, переводятся в одну большую комнату, которая с этого времени именуется «фабрикой».
Каждый из «параиндустриальных» параметров можно и нужно изучать и описывать отдельно. Далеко не всегда все параметры могут быть собраны в одной точке, и все же их сочетание более точно, нежели идея протоиндустриализации, передает ключевые признаки сложной производственной операции, выполняемой структурой более разветвленной, чем семейное или индивидуальное хозяйство, например упомянутой выше системой поместного производства. Это может быть производство набивных хлопковых тканей в Иваново 1840‐х годов на мануфактурах, принадлежавших крепостным крестьянам, которые в дальнейшем превратились в полностью механизированные фабрики, или вязание перчаток в Тихвине, которое делало возможным сбыт произведенных вручную шелковых перчаток в Москве в тот период, когда прядение и тканье шелка, как правило, было уже давно механизировано. К параиндустрии можно отнести и такое производство, как иконопись.[100]100
Иконопись – еще один пример рано возникшей и мало изменявшейся в дальнейшем специализации труда. Известно, что существовали, например, квалифицированные иконописцы, писавшие только лики или руки святых, и те, кто делал медные и серебряные оклады для икон. Организация иконописания и сбыта готовой продукции не предполагала ни механизации, ни «стадий» развития производства.
[Закрыть]
Суть идеи параиндустрии – не в механизации, а в различиях между организацией производства и брендингом продукции. Параиндустрия может существовать в любой точке в любой исторический момент, не приводя к какому-либо конкретному следствию. Для нее главным остается утверждение, что «экономический успех» определяется не наличием прибыли, а ее ростом. Однако здесь важны и соображения иного рода. Экономический рост не бесконечен: если во главу угла ставить прибыль, мы приходим к экономическим циклам роста и падения. Старые способы извлечения прибыли перестают работать, открываются новые и так далее. К тому же прибыль – не синоним качества продукции. Стремление к все возрастающей прибыли выводит в приоритеты скорость и объем производства. Качество становится компромиссным фактором, а иногда намеренно снижается, чтобы потребитель снова и снова приобретал товар. Но что, если мы будем оценивать экономический успех по принципу его стабильности и устойчивости, а не роста и прибыльности? В этом случае британская модель индустриализации не будет казаться абсолютно доминирующей и из истории успеха превратится в пример колоссального провала. Глобальная экономическая империя была построена только для того, чтобы исчезнуть, чтобы вогнать страну в долги, выиграв две баснословно дорогие мировые войны. В эти расчеты даже не включены огромные человеческие и моральные затраты на экономическую экспансию Великобритании и ее последующее сворачивание. Если мы предпримем поиск примеров более стабильного и устойчивого промышленного развития, то он неизбежно уведет нас в сторону от глобальной экономики и выведет на региональную перспективу, ведь именно на региональном уровне тесно связанные и небольшие по размеру рынки контролируют качество производства и его долговечность, а локальные экономические факторы позволяют усилить его эффективность, экономическую привлекательность и расширить доступ к продукции[101]101
См.: Alternative Modernities (ed. by D. Gaonkar). Durham: Duke University Press, 2001; Eisenstadt S. Comparative Civilizations and Multiple Modernities. Leiden: Brill, 2003; Parthasarathi P. Why Europe Grew Rich While Asia Did Not: Global Economic Divergence, 1600–1850. Cambridge: Cambridge University Press, 2011.
[Закрыть].
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































