Текст книги "Политическая наука №3 / 2014. Посткоммунистические трансформации: Политические институты и процессы"
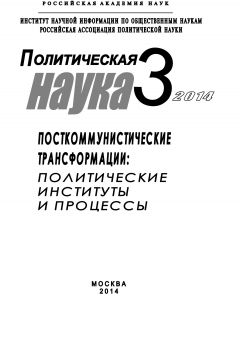
Автор книги: Коллектив авторов
Жанр: Социология, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
В связи с особенностью операционализации подотчетности, сводящейся исключительно к попытке фиксации количественных показателей, мы предлагаем использовать качественно иной механизм фиксации потенциала системы, основанной на следующем предположении: система подотчетности при наличии определенных условий будет выстроена не только в номинальном своем измерении (т.е. наличии формальной подотчетности исключительно внутри властной иерархии), но будет включать в себя и гражданское участие.
Мы предлагаем отслеживать наличие и конфигурацию данной системы исходя из следующих категорий.
1. Институциональный дизайн.
2. Наличие и соблюдение определенных свобод.
3. Выборы и эффективность управления.
Институциональный дизайн
В эту категорию входит тип политической системы: президентская, парламентская, смешанная. Данный показатель свидетельствует о формальном объеме полномочий, которым наделяется законодательная или исполнительная ветвь власти. Учитывая то, что президентская форма является менее устойчивой и может возникать как переходная [Shugart, Carey, 1992], ее наличие будет говорить, скорее, о создании номинальной системы подотчетности, в которой необходимость нести ответственность за действия будет разовым, символическим явлением, а система будет действовать, скорее, внутри и между государственными органами.
Еще одним показателем являются ограничения, налагаемые на главу исполнительной власти (XCONST в Polity IV) [Polity IV, 2012]. Данные ограничения соотносятся с идеей, выдвинутой нобелевским лауреатом Эриком Маскиным относительно необходимости сдерживать действия исполнительной власти и делать их открытыми [Maskin, Tirole, 2004]. Исполнительная власть всегда имеет тенденции к доминированию над остальными ветвями власти. При отсутствии сдержек механизм подотчетности будет сугубо номинальным.
Наличие и соблюдение определенных свобод
Как мы уже говорили ранее, функционирование системы подотчетности должно опираться не только на формальные механизмы. Если граждане и организации имеют право на действия относительно определенных акторов или органов, в то время как их права ограничены, то полезность их участия в системе скорее отрицательная, так как своими действиями они способны нанести вред самим себе.
Среди данных показателей следует зафиксировать наличие гражданских и политических прав и свобод, в рамках которых будет использоваться исследование Freedom House «Freedom in the world» [Freedom in the world, 2013 a], фиксирующее гражданские свободы и политические права. Возможность граждан свободно собираться, выражать свое мнение, свободно создавать ассоциации и институты, не будучи зависимыми от государства, а также наличие верховенства права [Freedom in the world, 2013 b] позволяют гражданам реализовывать невыборные механизмы контроля и получать необходимую информацию для реализации механизма подотчетности через выборы. Политические права подразумевают реализацию свободных выборов и свободу создания партий, что позволяет гражданам не входить в органы власти, а также подразумевает открытость данных органов.
Немаловажным показателем здесь выступают свобода слова и свобода ассоциаций, для измерения которой будет использоваться исследование проекта «CIRI human rights data project» [Cingranelli, Richards, 2014]. Данные показатели будут отражать возможность СМИ участвовать в функционировании механизма подотчетности, запрашивать информацию, проводить журналистские расследования без угрозы быть преследованными за них, а также возможность свободно транслировать информацию без вмешательства государства. При условии, что пресса не является свободной, мы можем утверждать и о серьезном ограничении функциональных возможностей механизмов подотчетности. Свобода ассоциаций будет подразумевать возможность граждан не только отстаивать права, но и то, что ассоциации, созданные с целью защиты прав граждан, могут принимать участие в функционировании механизма подотчетности.
Выборы и эффективность управления
Первым индикатором выступает «Голосование и подотчетность» («Voice and accountability») проекта «Worldwide governance indicators», реализуемого Всемирным банком [The worldwide go-vernance indicators, 2012]2121
Данный показатель, несмотря на свое название, далеко не в полной мере покрывает используемый нами концепт подотчетности. Подотчетность здесь выступает как возможность проведения честных выборов и свободы ассоциаций, а сам показатель замеряет восприятие пределов возможности граждан по выбору тех, кто ими правит.
[Закрыть].

Рисунок 2
Конфигурация системы подотчетности в Албании (положительные тенденции при малоэффективном правительстве)

Рисунок 3
Конфигурация системы подотчетности в Армении (тенденция к созданию номинальной системы)

Рисунок 4
Конфигурация системы подотчетности в Белоруссии (номинальная подотчетность)

Рисунок 5
Конфигурация системы подотчетности в Узбекистане (номинальная подотчетность)

Рисунок 6
Конфигурация системы подотчетности в Хорватии (тенденция к «полноценной» подотчетности)

Рисунок 7
Конфигурация системы подотчетности в Чехии («полноценная» подотчетность)
Вторым показателем является «Эффективность правительства» («Government effectiveness») данного проекта [The worldwide governance indicators, 2012]. Она оценивает качество услуг, предоставляемых государством, качество имплементации политических курсов и исполнение правительствами своих обязательств. Эффективность правительства в кросстемпоральном сравнении позволит зафиксировать результаты функционирования системы подотчетности. Его низкие значения вкупе с ограниченными правами и свободами будут свидетельствовать о наличии сугубо номинальной системы.
Результаты и выводы
Нами были проанализированы показатели по шести странам, входящим в различные типы траекторий режимных трансформаций (мы отбирали по одному кейсу на каждый тип траектории): Чехия (траектория «к демократической консолидации»), Албания («на пути к демократии»), Хорватия («прорыв к демократии»), Армения («проблемные траектории»), Белоруссия («на пути к автократии»), Узбекистан («консолидированные автократии») [подробнее о траекториях см.: Melville, Mironyuk, Stukal,, 2012, p. 15]. Мы сравнивали данные по 1996, 2000, 2005 и 2010 гг. с целью отслеживания изменений. 1996 г. выбран отправной точкой в первую очередь по причине ограничения временного ряда в показателях проекта «World governance indicators», а также в силу того, что в среднем за пять лет после транзита институт подотчетности можно считать в определенной степени сформировавшимся.
Среди данных государств по типу политической системы выделяются следующие.
Президентские. Белоруссия, в которой президент обладает крайне широкими полномочиями, в том числе по формированию состава правительства, назначению Генерального прокурора, судей, а также назначению глав местных исполнительных органов власти. Конституционная реформа 1996 г. хотя и позволила создать двухпалатный парламент, тем не менее в условиях ограниченного разделения властей при концентрации полномочий в руках президента не привела к заметным изменениям. В Узбекистане также значительный объем полномочий сконцентрирован в руках президента, он может распустить парламент с согласия Конституционного суда, формирует правительство. Несмотря на закрепленные в Конституции полномочия парламента, он лоялен президенту. С 2004 г. однопалатный парламент был преобразован в двухпалатный.
Парламентские. Албания, с 1991 по 1998 г. существовавшая на основе базового закона, «черновой конституции», закрепившей парламентскую систему, плюрализм и рыночную экономику. Президент избирается парламентом. Хорватия, в которой после конституционных изменений 2001 г. были ограничены полномочия президента за счет расширения полномочий парламента и исполнительной власти и распущена одна из палат парламента – Палата жупаний. Президент избирается всенародным голосованием. Чехия. Принятая Конституция 1992 г. дала парламенту широкие полномочия по контролю над исполнительной властью, право избирать президента. Президент, в свою очередь, может также распустить парламент, но основанием такого рода решения может выступать неисполнение парламентом своих функций.
Смешанные. Армения – по первой Конституции 1995 г. определялась фактически как президентская, однако поправки, внесенные в Конституцию 2005 г., институционализировали ее в качестве президентско-парламентской, снизили влияние президента на остальные ветви власти, хотя и не до конца четко были прописаны ограничения исполнительной власти. Таким образом, несмотря на расширение полномочий парламента, с согласия которого назначается премьер-министр (то лицо, которому больше доверяют депутаты), сохраняется дисбаланс ветвей власти со смещением в сторону исполнительной.
В целом следует отметить, что страны, в которых существуют наиболее благоприятные условия для функционирования систем подотчетности, относятся к группе парламентских республик (Чехия, Хорватия), преимуществом которых является сдерживание исполнительной ветви власти, однако при политической нестабильности (как, например, в Албании в 1997 г.) или невозможности парламента достичь консенсуса с правительством данная система будет неэффективной [Shugart, Carey, 1992]. Еще одной важной деталью является то, что частые конституционные изменения, связанные с функционированием государственных институтов или затрагивающие функционирование политической системы, происходят, скорее, в слабых или недемократических государствах [Armingeon, Careja, 2008, p. 445], среди которых мы можем выделить Узбекистан, Белоруссию и Армению.
Важным фактором, который повлиял на создание условий для функционирования подотчетности, можно назвать и требования, выдвигаемые к странам, вступающим в Европейский союз, касающиеся соблюдения гражданских прав и следования демократическим стандартам. Данный фактор касается Чехии и, особенно, Хорватии. Наибольший интерес здесь представляет Албания, подавшая заявку на вступление в Европейский союз и оцененная как государство, соответствующее требованиям для получения статуса страны-кандидата, решение по которому должно быть принято в июне 2014 г. Тем не менее Албания испытывает затруднения в области эффективности государственного управления, на которое часто оказывается политическое давление.
Следует выделить еще один фактор, влияющий на начальную конфигурацию систем подотчетности, – непосредственно процесс транзита. Наиболее «спокойным» этот процесс был в Чехии, Белоруссии, Албании, в то время как транзиты в Армении, Узбекистане, Хорватии сопровождались конфликтами и ростом националистических настроений. Несмотря на это, в период становления и закрепления политических институтов в Армении (1997), Белоруссии (1996) и Узбекистане (1997) произошли политические кризисы, которые в случае двух последних государств позволили их главам закрепиться на своих постах и ужесточить режим, трансформировав его на практике в недемократический, следовательно, ограничив системы подотчетности до формального уровня. В подобных системах подотчетность заменяется на личную лояльность. В противовес этому Хорватия демонстрирует достаточно стабильные результаты вкупе с резким развитием государственности [Melville, Mironyuk, Stukal, 2012, p. 20].
В трех странах из шести (Армения, Белоруссия и Узбекистан) граждане не влияют на формирование органов, которые ими управляют. Сходная тенденция существовала и в Албании, однако с 2005 г. выявилась тенденция к улучшению. Мы можем заключить, что наименьшее влияние на власть граждане способны оказывать в Белоруссии и Узбекистане. Подобная ситуация существует и в Армении, но ее граждане обладают большим набором гражданских свобод.
В целом наиболее благоприятные условия для функционирования систем подотчетности существуют в Чехии, в которой она была сформирована достаточно быстро. Хорватия продемонстрировала резкий скачкообразный рост развития подотчетности при меньшем объеме гражданских и политических прав, чем у Чехии. Албания за последние годы демонстрирует тенденцию к улучшению ситуации, однако влияние граждан на государственные органы по-прежнему остается невысоким.
Белоруссия и Узбекистан в силу особенностей своих политических режимов обладают сугубо номинальной подотчетностью без тенденции к улучшению. Армения за последние годы показывает негативную тенденцию в области возможности влияния граждан на власть и в ограничении гражданских прав и свобод.
В данной статье мы решали две задачи: предложить понимание подотчетности, не ограниченное исключительно рамками органов власти, т.е. номинальной системой. Также следовало учесть, что использование «старых» концептов для современных государств является несколько неуместным, в связи с чем мы попытались актуализировать то, что мы понимаем под подотчетностью.
Мы намеренно отказались от следования логике ранее проведенных исследований, учитывая значительные различия между характеристиками режимов, прошедших процесс транзита относительно недавно, и консолидированных демократий. Именно поэтому нами и была предложена теоретическая модель функционирования подотчетности и выведены индикаторы, на основе которых можно зафиксировать потенциал для функционирования данной системы. В среднем можно отметить, что первые пять лет после транзита стали определяющими для направления развития режима и систем подотчетности, которые могут положительно повлиять на качество режима.
Траектории режимных трансформаций, в свою очередь, повлияли на изменение конфигурации систем подотчетности. Благоприятное влияние и существование потенциала для функционирования полноценной системы можно было отметить в траекториях «К демократической консолидации» (Чехия), «Прорыв к демократии» (Хорватия). Албания, следующая траекторией «На пути к демократии», демонстрирует положительные тенденции при сохраняющейся низкой эффективности правительства и слабом влиянии граждан на власть, значительно отличаясь от номинальной системы подотчетности. Армения («Проблемные траектории») следует тенденции к ухудшению и сужению механизмов подотчетности. Белоруссия («На пути к автократии») и Узбекистан («Консолидированные автократии») демонстрируют наличие номинальных систем, в которых личная подотчетность заменяется доверием или лояльностью.
Литература
Воробьев А.Н. Левиафан поневоле: захват государства как следствие режимных деформаций: Препринт WP14/2012/07. – М.: НИУ ВШЭ, 2012. – 28 с.
Морлино Л., Карли Л. Как оценивать демократию. Какие существуют варианты: Доклад к XV Апрельской международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества, Москва, 1–4 апреля 2014 г. – М.: Изд. дом НИУ ВШЭ, 2014. – 35 с.
Adcock R., Collier D. Measurement validity: A shared standard for qualitative and quantitative research // The American political science review. – Denton, Texas, 2001. – Vol. 95, N 3. – P. 529–546.
Armingeon K., Careja R. Institutional change and stability in postcommunist countries, 1990–2002 // European journal of political research. – Chichester, 2008. – Vol. 47, Iss. 4. – P. 436–466.
Becker A. Accountability and the fairness bias: The effects of effort vs. luck // Social choice and welfare. – Rochester, 2013. – Vol. 41, N 3. – P. 685–699.
Behn R. On the nature of: Accountability dilemma // Bob Behn’s public management report. – Cambridge, 2005. – Vol. 2, N 7. – Mode of access: http://www.hks.harvard.edu/thebehnreport/March2005.pdf (Дата посещения: 28.03.2014.)
Behn R. Rethinking democratic accountability. – Washington: Brookings institution press, 2001. – 328 p.
Bovens M. Analysing and assesing accountability: A conceptual framework // European law journal. – Malden, 2007. – Vol. 13, N 4. – P. 447–468.
Carey J. Legislative organization // The Oxford handbook of political institutions / Binder S., Rhodes R., Rockman B. (eds.). – N.Y.: Oxford univ. press, 2008. – P. 344–365.
Cingranelli D., Richards D. CIRI human rights data project. – Binghamton, N.Y., 2014. – Mode of access: http://humanrightsdata.blogspot.com/p/data-documentation.html (Дата посещения: 28.03.2014.)
Dasgupta P. An inquiry into well-being and destitution. – N.Y.: Oxford univ. press, 1993. – 680 p.
Fiorina M. Retrospective voting in American national elections. – New Haven: Yale univ. press, 1981. – 288 p.
Flinders M. The politics of accountability in the modern state. – L.: Ashgate, 2001. – 435 p.
Freedom in the world: Democratic breakthroughs in the balance. – Washington, D.C., 2013. – Mode of access: http://www.freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom-world-2013#.Uzgsh_l_saI (Дата посещения: 28.03.2014.)
Freedom in the world: Methodology. – Washington, D.C., 2013. – Mode of access: http://www.freedomhouse.org/report/freedom-world-2013/methodology#.Uzgta_l_saI (Дата посещения: 28.03.2014.)
Governance and development. – Washington, D.C.: World Bank, 1992. – 69 p. – Mode of access: http://documents.worldbank.org/curated/en/1992/04/440582/governance-development (Дата посещения: 28.03.2014.)
Lindberg S. Mapping accountability: Core concept and subtypes // International review of administrative sciences. – L., 2013. – Vol. 79, N 2. – P. 202–226.
Lonsdale J. Political accountability in African history // Political domination in Africa / Chabal P. (ed.). – N.Y.: Cambridge univ. press, 1986. – P. 135.
Maskin E., Tirole J. The politician and the judge // American economic review. – Pittsburgh, 2004. – Vol. 94, N 4. – P. 1034–1054.
Melville A., Mironyuk M., Stukal D. Trajectories of regime transformation and types of stateness in post-communist countries. – M.: National research univ. higher school of economics, 2012. – 41 p.
Mitnick B. The political economy of regulation: Creating, designing and removing regulatory forms. – N.Y.: Columbia univ. press, 1980. – 506 p.
Moncrieffe J. Reconceptualizing political accountability // International political science review. – Montreal, 1998. – Vol. 19, N 4. – P. 387–406.
Mulgan R. Holding power to account: Accountability in modern democracies. – N.Y.: Palgrave McMillan, 2004. – 240 p.
O’Donell G. Horizontal accountability in new democracies // Journal of democracy. – Baltimore, MD, 1998. – Vol. 9, N 3. – P. 112–126.
Piotrowski S., Ryzin, van G. Citizen attitudes toward transparency in local government // The American review of public administration. – Thousand oaks, 2007. – Vol. 37, N 3. – P. 306–323.
Polity IV project: Political regime characteristics and transitions, 1800–2012 / Marshall M. (director). – Maryland, 2012. – Mode of access: http://www.systemicpeace.org/polity/polity4.htm (Дата посещения: 28.03.2014.)
Press freedom index. – Paris: Reporters without borders, 2014. – Mode of access: http://rsf.org/index2014/ru-index2014.php (Дата посещения: 28.03.2014.)
Shugart M., Carey J. Presidents and assemblies: Constitutional design and electoral dynamics. – N.Y.: Cambridge univ. press, 1992. – 332 p.
Sinclair A. The chameleon of accountability: Forms and discourses // Accounting, organizations and society. – L., 1995. – Vol. 20, N 2–3. – P. 219–237.
Spruyt H. The origins, development, and possible decline of the modern state // Annual review of political science. – Palo Alto, 2002. – N 5. – P. 127–149.
The rise of «new» policy instruments in comparative perspective: Has governance eclipsed government? / Jordan A., Rüdiger K., Wurzel W., Zito A. // Political studies. – L., 2005. – Vol. 53, N 3. – P. 477–496.
Votes, budgets, and development: Comparative studies in acccountable governance in the south (international political economy) / Healey J., Tordoff W. (eds.). – N.Y.: St. Martin’s press, 1995. – 270 p.
Willems T., Dooren van W. Lost in diffusion? How collaborative arrangements lead to an accountability // International review of administrative sciences. – L., 2011. – Vol. 77, N 3. – P. 505–530.
Трансформация официальной символической политики в сфере государственных праздников в современной России
В.Н. Ефремова
После распада СССР все бывшие советские республики, в том числе Россия, столкнулись с необходимостью проведения новой символической политики, которая могла бы легитимировать новые режимы. Неотъемлемой частью таких изменений стали пересмотр праздничного календаря и выбор новых государственных праздников. В Советском Союзе праздники занимали важное место в арсенале пропаганды, они «служили инструментом для популяризации политических целей и манипулирования людьми… они также были одним из каналов, через которые политика режима проводилась в жизнь» [Рольф, 2009, с. 7]. В 1991 г. казалось, что поражение августовского путча и установление новой власти могут лишить возможности отмечать привычные «красные дни календаря». Однако новые демократические силы не пошли на кардинальное упразднение старых праздников: власть решила кооптировать советские практики с постепенным вводом в праздничный календарь новых.
Трансформация существующих и введение новых государственных праздников потребовали скрупулезной работы по отношению к выбору исторически значимого прошлого. Подобную ситуацию в семиотическом ключе хорошо описал М.Ю. Лотман, заметив, что «меняется не только состав текстов, меняются сами тексты. Под влиянием новых кодов, которые используются для дешифровки текстов, отложившихся в памяти культуры в давно прошедшие времена, происходит смещение значимых и незначимых элементов структуры текста» [Лотман, 2010, с. 263]. Таким образом, для новых праздников было необходимо «извлечь» «нужные» события из истории и придать им современный смысл. Содержание «культурной памяти», в контексте которой чаще всего исследуются праздники в целом [см., например: Rodriguez, Fortier, 2007], не постоянно, оно изменяется в зависимости от социальных и политических условий, т.е. обусловлено «социальными рамками» памяти [Ассман, 2014, с. 161].
В отличие от других инструментов символической политики, таких как государственный флаг, гимн, официальная символика, государственные праздники представляют собой «нестабильные символы»2222
Термин принадлежит авторам коллективной монографии «Национальные праздники: конструирование и мобилизация национальной идентичности» [National day’s, 2009].
[Закрыть]. Их невозможно отменить и забыть в одночасье: требуется достаточно длительное время, чтобы поколения утратили культурную и социальную память. Поэтому новые режимы, как правило, идут на трансформацию уже существующих практик и содержания праздников. Как показал В. Глебкин, процесс создания культурных форм, соответствующих советскому празднику, сопровождался перенесением на новую реальность ранее сформировавшихся механизмов. Именно благодаря повсеместной ритуализации, уходящей своими корнями в культуру русской интеллигенции и крестьянства, советские массовые праздники изначально получили поддержку в народе. Так, например, элементы религиозного крестного хода, популярного в дореволюционной России (Пасха, Крещение Господне и т.д.), были заимствованы советскими демонстрациями. А элементы обряда крестин легли в основу посвящения в пионеры [Глебкин, 1998].
Проблематика, связанная с социальной памятью, использованием и интерпретацией прошлого, стала активно обсуждаться в профессиональном сообществе историков и политологов не столь давно [см.: Миллер, 2009; 2012; Малинова, 2013 a, 2013 b, 2013 c; Копосов, 2011; Империя и нация… 2011; Власть времени, 2011; Ассман, 2014 и др.]. Как отмечает А.И. Миллер, «о политизации истории можно говорить в том случае, когда политики используют “исторические” аргументы в своих выступлениях», а собственно политика памяти «касается различных общественных практик и норм, связанных с регулированием коллективной памяти» [Миллер, 2009, с. 7]. Вслед за О.Ю. Малиновой мы исходим из того, что политическое использование прошлого является элементом символической политики, под которой понимается «деятельность, связанная с производством различных способов интерпретации социальной реальности и борьбой за их доминирование в публичном пространстве» [Малинова, 2013 c, с. 115]. В связи с чем символическая политика государственных праздников во многом определяется действиями элит, которые, в терминах П. Бурдье, находятся в уникальном положении и обладают символической властью по учреждению, упразднению или трансформации тех или иных праздников. Государственный праздник подчеркивает роль власти. В сущности, продвижение определенного видения идеи праздника – это формулирование ценностей, на основе которых организуется общество, выбор исторического прошлого и путей развития.
Мы отдаем себе отчет в том, что публичное пространство, в котором происходит символическая борьба за наделение праздников смыслами, не является закрытым: помимо государства существуют другие политические акторы, использующие в своих целях их идеологический потенциал. В данной статье объектом нашего внимания являются собственно действия политической элиты, действующей от имени государства. Опираясь на работы других авторов, посвященных символической политике и исследованию политики прошлого, мы попытаемся проследить, каким образом происходила трансформация государственных праздников в России начиная с 1990‐х годов и до настоящего времени. Задача данной статьи – выявить основные тенденции использования властвующей элитой государственных праздников в контексте политики памяти.
В качестве основы для периодизации официальной символической политики в современной России мы будем использовать подход, предложенный О.Ю. Малиновой [Малинова, 2013 c]. Согласно ее версии, практика политического использования прошлого в дискурсе властвующей элиты применялась для решения конкретных проблем или задач и была подчинена логике легитимации политического курса.
1-й этап – отрицание тоталитарного прошлого и первые попытки приспособления советских праздников (1990–1994)
В первые годы постсоветской России ядром новых исторических представлений выступало отрицание советского опыта. Символическая политика была подчинена задаче оправдания курса на радикальную трансформацию политического порядка [Малинова, 2013 c, с. 117]. Однако на начальном этапе изменение советского праздничного календаря не было столь решительным.
Первые попытки по восстановлению исторической преемственности с досоветским периодом стали предприниматься еще до официального распада СССР. Признание Рождества Христова как важного праздника произошло за полгода до обретения независимости современной России и за год до подписания соглашения о создании СНГ – в конце 1990 г., когда Верховный Совет РСФСР выпустил Постановление № 2981-I «Об объявлении 7 января (Рождества Христова) нерабочим днем» [Постановление Верховного Совета РСФСР… 1990]. В постановлении делалась ссылка на обращение Патриарха Московского и Всея Руси Алексия и уважение «религиозных чувств верующих». В целом «в начале 1990‐х годов происходило идеологическое оформление позиций РПЦ по отношению к власти и сотрудничеству с ней. Церковь, как и новое государство, активно осуждала коммунистическую идеологию и пыталась предложить свое видение национальной идеи и дальнейшего пути развития» [Безбородов, 2010, с. 268]. Первые службы, на которых присутствовали первые лица государства, прошли в 1992 г., когда Патриарх Всея Руси Алексий II поздравил прихожан и лично президента России Б.Н. Ельцина с праздником Рождества Христова [Фильм Рождество Христово, 1992]. Таким образом, государство официально признало значимость церкви, а христианский праздник занял то место, которое раньше было немыслимо.
Первым советским праздником, потерявшим статус государственного, стал День Конституции СССР, отмечавшийся с 1977 по 1991 г. 7 октября. По свидетельству ряда СМИ, в 1991 г. праздник хоть и был выходным днем, но фактически не праздновался [см., например: Независимая, 1991]. В 1992 г. с принятием Закона «О внесении изменений и дополнений в Кодекс законов о труде РСФСР» [Закон РФ от 25.09.1992 № 3543–1… 1992] 7 октября исчезло из перечня государственных праздников. Отмечать новый праздник стали в декабре после принятия на референдуме 12 декабря 1993 г. новой Конституции. Он был закреплен в 1994 г. указами президента России («О Дне Конституции Российской Федерации» и «О нерабочем дне 12 декабря»).
После полного запрета деятельности КПСС и Компартии РСФСР, введенного указом президента РСФСР Бориса Ельцина 6 ноября 1991 г. в преддверии главного государственного праздника СССР – Великой Октябрьской социалистической революции, ее официальное празднование было отменено. Лишь отдельными группами, находящимися в оппозиции к новой власти, были организованы акции протеста [Здравомыслова, Темкина, 1994, с. 94–97]. Однако 7 ноября оставалось выходным днем вплоть до 2004 г. Как и другие советские праздники – Новый год (1 и 2 января), Международный женский день (8 марта), Праздник весны и труда (1 и 2 мая), День Победы (9 мая), – он был закреплен поправками в Кодекс законов о труде РСФСР [Закон РФ от 25.09.1992 № 3543–1… 1992]. Для легитимации 7 ноября в качестве выходного дня в Санкт-Петербурге даже придумали новое идеологическое обоснование, объявив его Днем празднования переименования города [Здравомыслова, Темкина, 1994, с. 95].
Очевидно, что часть советских праздников, изначально глубоко идеологизированных, не соответствовала новым реалиям. Тем не менее они сохраняли свое значение, а спонтанный отказ от их празднования мог усугубить положение новой власти из-за неодобрения общества. Поэтому государство пошло по пути изменения их идеологического содержания и наименования. По мнению М. Рольфа, это было обусловлено тем, что советские праздники обладали устойчивостью. Их способность интегрироваться в новый официальный канон была связана с «адаптивностью праздничных поводов», которые легко могут быть наполнены новыми элементами по содержанию и по форме [Рольф, 2009, с. 354].
Помимо попыток ревизии статуса и идеологического содержания «старых» праздников, демократические силы, пришедшие к власти в России в начале 1990‐х годов, приступили к изменению праздничного календаря путем добавления новых памятных дат в честь новой России. Главным праздником «новой России» должно было стать 12 июня, изначально получившее название День независимости России. В этот день в 1990 г. была принята «Декларация о государственном суверенитете РСФСР». Через год, 12 июня 1991 г. прошли первые выборы президента России. Согласно Постановлению Верховного Совета РФ от 11 июня 1992 г. 12 июня стало праздничной датой как День принятия «Декларации о государственном суверенитете России» [Постановление Верховного Совета РФ… 1992]. В качестве официальных мероприятий с 1992 г. стало практиковаться награждение Государственной премией Российской Федерации в области науки и технологий, литературы и искусства и в области гуманитарной деятельности. Однако, как заметила К. Смит, 12 июня практически тотчас же стало противоречивым праздником с сомнительной популярностью. Одной из причин было то, что «националисты и коммунисты видели в этой дате распад СССР и последующее разбазаривание его ресурсов», ответственность за которую должен был взять Б.Н. Ельцин, непосредственно подписавший Декларацию суверенитета [Smith, 2002, p. 92]. В той же мере оставались вопросы: чем после всего считать 12 июня – годовщиной нации или президентства? «От кого Россия стала независимой? От Украины, Белоруссии, Казахстана… или других соседей» [ibid., p. 92–93]?
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































