Текст книги "Две жизни. III–IV части"
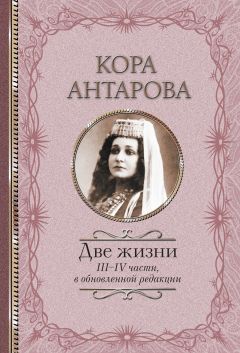
Автор книги: Конкордия Антарова
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 19 (всего у книги 69 страниц) [доступный отрывок для чтения: 22 страниц]
Через минуту на пороге открытой двери стояла женщина, которую ученый назвал пожилой. Теперь я увидел, что она не была пожилой, ей не могло быть более тридцати лет. Но отпечаток какой-то драмы, тяжело проехавшей по ее жизни и раздавившей ее, лежал на всей ее фигуре. Необычайная кротость и радостность, с какими она приветствовала Франциска, поразили меня, хотя я видал немало кротких и радостных лиц в Общине. Низко поклонившись Франциску, женщина пригласила нас войти.
– О, Учитель, ты сам пришел ко мне. Тебе вреден такой долгий и утомительный путь. Разреши мне сходить хотя бы за молоком для тебя и твоего юного спутника, – говорила женщина, когда мы вошли в комнату, придвигая нам стулья.
– Не беспокойся, Терезита, я пришел за тобой. Я обещал тебе, что, если любовь твоя найдет силы вынести испытание три года, ты увидишь и Никито, и Лалию, и Нину. А ты прожила здесь пять лет и ни разу не спросила меня, почему откладывается свидание, почему ты все еще остаешься здесь и даже не едешь в дальнюю Общину к своим внукам.
– Я счастлива была, Учитель, жить здесь. Все, что ты давал мне для исполнения, было так важно людям, что, пожалуй только сегодня в первый раз я думала о Никито и девочках. Ах, если бы можно было их спасти, я была бы рада прожить здесь до конца дней.
– Нет, друг, в деле любви не стоят на месте. Любовь – живая сила, и ее надо все время лить по новым и светлым руслам. Ты созрела к действию. Новые силы очистились и развились в тебе. Держать их бездейственными в своей чаше нельзя. Ты поедешь в дальние Общины, возьмешь с собой Лалию и Нину и приготовишь их к новой жизни. Нине, ищущей подвига целомудрия, ты объяснишь, что ей придется изменить свой путь, который ей так радостен и так ее пленяет. То материнство, что должна была нести Лалия и которого она не выполнила, не перенеся своего легкого испытания, ляжет на Нину. Придется ей идти в широкий мир и создать семью, где суждено родиться тому, кого владыки карм приготовили к воплощению и высокому подвигу Любви. Объяснишь девушке всю важность ее новой жизни. Скажешь, что подвига не выбирают, но легко несут ношу, от нас подаваемую, если хотят действенно служить Истине. Я уверен в Нине. Это будет тебе урок легкий. С Лалией будет труднее. Но… в тебе самой уже нет борьбы со своими страстями, а потому все новые повороты жизни уже не затруднят тебя и не будут чрезмерно тяжелыми. Иди со мной, друг, оставь это место легко и просто, а не тяжко и мучительно, как ты покидала все те места, где жила до сих пор. Перед новыми поворотами в пути страдают только те, кто носит в себе еще не растворенным в любви свое «Я». Твое же все растаяло, все превратилось в Свет. И потому я веду тебя в то место, где ты будешь действенной силой для встречных. Мир тебе, друг мой, передавай мой мир каждому и ощущай ежеминутно, что несешь в руках чашу красную, чашу Любви. Приложи уста свои к ней и пей кипящую Любовь моего сердца. Неси ее как деятельность простого дня и передавай в труде не пот подвига и долга, но легкость знания.
Терезита опустилась на колени и смотрела на Франциска, держа его руку в своих.
– Идя по труду дня, никогда не иди одна, дитя мое. Но подавая руку встречному человеку, подавай обе наши руки и отирай очи человека платком Любви. Пойдем, друг, нас ждут.
Много я видел чудесных лиц в экстазе за последнее время, но ни на одном из них я не видел такого счастья и мира, какие видел здесь сейчас на лице Терезиты. Лицо – далеко не красавицы – было прекрасно и так сияло, что даже моим глазам, уже привыкшим к сияющим аурам, хотелось зажмуриться.
Не взяв ни единого предмета из дома, Терезита вышла с нами. Ее привет профессору и Мулге меня поразил. Мулге она протянула обе руки, которые тот неловко поцеловал одну за другой, а профессору она поклонилась и сказала:
– Много вопросов придется вам еще решать. Но такого сильного негодования, какое вы испытываете сейчас, в вас уже не будет никогда, – Терезита рассмеялась таким милым и заразительным смехом, что я не смог удержаться и залился своим хохотом, а моему примеру последовал и Мулга.
Ученый вознегодовал на меня с такой страстностью, что даже не дал Терезите времени сказать мне что-то, о чем она думала и хотела обратиться ко мне. Он весь представлял собой комок раздражения, и мне стало очень горестно, что моя добродушная веселость была так неуместна. Излив на меня первый жар возмущения, он обратился к ней:
– Что вы можете понимать в моем негодовании, весьма уважаемая дама? Уж не занимаетесь ли и вы чтением чужих мыслей, как это практикует брат Франциск? Или ваша дружба с Богом идет только в мечтах о тех фигурах, которые я видел в ваших мозгах через гипноз вашего друга? Надо надеяться, что ложных задач моего мышления вам не решить, если бы даже вы и оказались чтицей мыслей. Все же было бы весьма любопытно узнать, как поняты вами причины моего негодования? – профессор рычал с таким сарказмом, что Франциск бросил на него взгляд сострадания и сказал Терезите:
– Ну, вот, сестра, и начинай свой новый путь общения с бунтарями. Никогда не бойся раздраженного и не принимай его речей в свое сердце. Только стой крепко сознанием у черты Вечности. Стой ногами на земле так устойчиво, точно они к ней приклеены. Но мыслью и сердцем живи в высоком Свете и не нарушай моего завета: иди всегда со мною, протягивай свою руку вместе с моею, чтобы не мешать Свету проходить через тебя, как через новый и чистый путь.
Франциск подозвал Мулгу, шедшего все время сзади, ускорил шаги и стал разговаривать с ним на языке, которого я не понимал. Я невольно снова подумал, сколько же наречий на свете, которых я не знаю.
Между ушедшими вперед и нами образовалось некоторое расстояние, так как ученый идти так быстро не мог. Он тяжело дышал и шел с трудом. Я подумал, что он просто устал, но, когда расцветавший день осветил его лицо, я понял, что он почти болен, что ему трудна атмосфера не только Франциска, но и Терезиты.
Незаметным маневром я постарался идти между ним и сестрой и уже собирался предложить ему опереться на мою руку, как Терезита сказала:
– Я очень опечалена, друг, что смех мой был понят вами как насмешка, как мое самомнение и желание показать вам какие-то феномены своих чрезвычайных сил. Я никакими особыми силами не владею. Но действительно в ту минуту я думала, как может быть слеп человек, достигший величия в какой-то области знаний, которые он чтит выше всех сокровищ Жизни. Ваши неосторожные слова о моем великом Учителе и друге могли бы в другом месте соткать зло и принести вам вред. Но здесь благодаря его присутствию, благодаря его всесжигающей Любви, которая льется из его сердца, ваши слова развеялись прахом. Вы хотите узнать, прочла ли я причину вашего негодования и раздражения? Да, я ее прочла. Но выскажу я ее словами только в том случае, если вы сами еще раз скажете, что желаете услышать из моих уст столь неблагородные мысли, которые для вас самого неожиданны, так как вы человек верный и благородный.
– Это уже переходит границы всего серьезного и становится веселым фарсом. Я очень был бы вам благодарен, почтенная дама, если бы вы удостоили меня чести услышать все же ваше мнение о причинах моего негодования, которого я, кажется, ничем вам не выказал.
– Их три, тех причин, что так язвят сейчас ваше сердце, друг, и заставляют вас язвить меня не формальным смыслом ваших слов, но тем едким тоном злобы, которым они произносятся. Я еще раз спрашиваю вас: хотите ли вы, чтобы я их сказала?
– Да, конечно, хочу, – тон голоса профессора совершенно изменился, голос прозвучал неуверенно, даже недоуменно, и вместо сарказма в нем слышалась растерянность, и весь его внешний вид показался мне озадаченным.
– Первая причина – это вообще раскаяние, что вы сюда приехали. Вторая – оскорбление и унижение, что какой-то малограмотный монах, каким вы считаете брата Франциска, мог заставить вас подчиниться его гипнозу, с которым вы спутали его дар прозрения и способность владеть силами природы. Третье – ревность к тому ученому, к которому вы решились идти, ревность к его знаниям, если они есть, к его власти, если он действительно так образован, что может указать вам ваши ошибки.
Долго шли мы молча, рассвет сразу перешел в чудесное утро. Я взглянул в лицо ученого и был потрясен его видом. Он был желт, глаза провалились, и под ними лежали темные круги. Нос его заострился, весь он, казалось мне, еле держится на ногах.
Франциск остановился и поджидал нас. Когда мы подошли, он снова протянул ученому коробочку с шоколадными квадратиками.
– Это ничего, профессор. Вы только устали от непривычно долгого пути.
Скушайте еще одну конфетку, и вы сможете, позавтракав, переговорить с доктором И., что вас сразу же – я уверен – успокоит. Левушка, будь гостеприимным хозяином, отведи профессора в свою комнату и поручи его заботам Яссы. Ясса – это слуга Левушки, профессор. Он знает такой массаж и такие растирания в ванной, что вы даже забудете, что провели ночь в бессонном походе. Будьте здоровы, друг и брат, мы с вами еще увидимся. Ты, Левушка, скажешь И., что профессора я привел, а дальше исполнишь то, что тебе скажет И.
Мы входили, наконец, в парк, и, признаться, и я, и мой друг Эта были порядочно утомлены. Я отвел профессора к Яссе, который уже о нем знал и ждал его с готовой ванной.
Я прошел в душ и, тщательно умывшись, переодевшись и еще тщательнее причесавшись, уложил спать Эта и только тогда отправился к И. По дороге я сам над собой посмеивался, вспоминая, сколько уроков истратил на меня И., чтобы привести меня к самообладанию в этом маленьком секторе простой воспитанности.
Глава XI
И. принимает ученого. Аннинов и Беата Скальради. Наставление мне и Бронскому
Когда я вошел к И. и посмотрел в прекрасное лицо моего дорогого друга, я внезапно почувствовал, что я все еще не знаю лица моего обожаемого наставника. И. показался мне юношей, прекрасным воплощением силы, жизни, мудрости. Он улыбнулся мне и ласково сказал:
– Ты делаешь успехи, дорогой мальчик, ты почти не устал.
– Это сейчас я вдруг почувствовал себя сильным. Но не могу похвастать, что дошел обратно легко. И не могу, отдавая вам отчет, сказать, что встречи, давшие мне в эту ночь уроки на век, не истощили моих духовных сил, пока я жил в общении с сегодня виденным и понятым страданием. Примеры слепоты людей временно ослепили и меня самого. Сегодня я понял, что самое начало страдания, как и развитие его, лежит в невозможности человека охватить в каждый летящий момент всю Жизнь. Чем прочнее привязана мысль к Земле, к своей страстно любимой среде, труду, друзьям, тем больше ослеплен человек сиянием одной Земли. И тем ему труднее – большее для него страдание – вырваться к Свету Жизни. В числе сегодняшних уроков не все были уроками от противного. Покорившие меня своим величием внутреннего мира и любви люди тоже по-разному проникали в мое сердце, о полном раскрытии которого дважды напоминал мне Франциск в эту ночь. Дважды ему пришлось сказать мне, чтобы ни единый лепесток, прикрывши вход в сердце, не помешал бы мне вобрать в него встречных. И в самом деле, ни один лепесток не помешал литься моей любви и сосредоточиваться моему вниманию. Но… мне была очень тяжела и трудна встреча с Терезитой. Я сознавал и сознаю сейчас, как дух ее высок, непоколебима верность, как вся она чиста и любяща, и все же что-то, чего я понять не могу и по сию минуту, отдаляет меня от нее. «Отдаляет» это даже не то слово. Между нею и мною я чувствую какую-то стену. Я преклоняюсь перед нею, но не могу чувствовать себя с нею легко и просто. И в то же время, как это ни странно, обуянный раздражением и слепотой профессор мне не тяжел.
– Я вполне понимаю тебя, Левушка. Путь Терезиты – религиозный путь. И ты еще не можешь подняться так высоко, чтобы обряд – всякий обряд, всякий ритуал – стал для тебя лишенною цепей благодатью. Для Терезиты труд ее жизни, труд веков, труд освобождения – все идет только через луч обряда и религии. Она пока живет в них, как в сияющем, но все же чехле. Если бы один из вас был уже раскрепощен до конца, стена ее сияющего чехла не могла бы стеснить вашего единения. Чем выше каждый из вас будет подниматься в своем освобождении, тем проще, ясней и ближе будут ваши отношения. Что же касается профессора, то там ничто в его ступени сознания не может коснуться тебя как начало недоумения, протеста или задержки для твоего доброжелательства. Поэтому ты и не ощущаешь его тяжелых испарений. Тогда как эманации Терезиты, будучи очень высокими, давят тебя однобокостью. Мы поговорим еще с тобою об этом в пути. Надо собираться. Как только я усажу профессора за науку, мы уедем. Ты удивлен, что ученый, так мало совершенный вовне, может здесь жить, тогда как многим и многим, всю жизнь жаждавшим сюда попасть, ворота закрыты.
Вглядывайся глубже во встречи, Левушка. Ученый, ничего не зная умом о жизни в двух мирах, на самом деле жил в них. Он до конца отдал свою преданность науке. Не задумываясь о благе людей, он вносил весь свой труд для них, мечтая о том, чтобы во Вселенной ни один человек не знал ни страха, ни нужды. Он закрепощен в долге и любви к науке, но дух его чист и свободен. Он мечтал всегда, чтобы все люди могли учиться, как и чему хотел каждый, без помехи бедности. Иди, друг. Ясса уже, вероятно, отмыл профессора от ночной пыли, теперь он голоден. Окажи ему всю любезность и гостеприимство воспитанного человека. Будь вежлив, как должен быть ученик, и приведи гостя ко мне. Не обращай внимания, если он будет не в духе. Приглядись к нему. По всей вероятности, он сущий ребенок во всех бытовых вопросах.
Я пошел выполнить приказание моего любимого друга. Какое-то воспоминание, вернее, отголосок каких-то константинопольских переживаний вставал во мне. Мне вспомнилось, сколько раз в моей жизни я отрывался от дорогих мне людей, как часто, когда мне хотелось особенно сильно побыть с И. и выслушать от него ответы на беспокоившие меня вопросы, мне приходилось его покидать, чтобы выполнить то или иное дело. Сейчас я как-то особенно ощущал необходимость побыть с И. – и снова должен был идти по делу другого человека. Но не вздох сожаления был в моем сердце, не раздражение, о котором я без улыбки над самим собой уже не вспоминал, – о нет, эти времена уже миновали. Но мне было как-то неловко перед самим собой, что у меня не было сию минуту ликования в сердце, не было буйной радости, что я могу быть полезен человеку. Я шел мирно и спокойно, очень ровно и доброжелательно настроенный, но я сознавал, что активной, действенной радости во мне нет.
Подходя к ванной комнате, я услышал веселый смех. Я ожидал всего, но чтобы Ясса сумел привести ученого в такую веселость, не мог себе и представить. И смех профессора, чистый, детский и заразительный, тоже немало меня удивил. Дверь из ванной открылась, и я увидел фигуру профессора. Его безукоризненный белый костюм, который Ясса вытащил, должно быть, из запасов И., сиял, лицо было свежевыбрито и выражало полное удовольствие, и… вдруг совершилось мгновенное превращение в недовольную, кислую гримасу, как только ученый увидел меня.
– Ах, это вы, юноша. Я ночью плохо вас разглядел. Теперь я вижу, что вы сущий Геркулес, только у того кудри были не черные, – профессор говорил ворчливо, критически рассматривая мое индусское платье. – Вот как! Вы опростились, даже до сандалий на босу ногу, – прибавил он, дойдя в своем обзоре до моих ног. – Ведь вы не монах, как брат Франциск, и обетов, очевидно, еще не успели дать никаких. Для чего же эти босые ноги?
– Мне очень трудно объяснить вам логически, для чего то или иное во мне или на мне существует, профессор. Но я еще не привык к здешнему климату, и жара действует на меня так, что мне хочется поменьше носить на себе всякой одежды. Кроме того, все живущие здесь одеты так. И я не составляю исключения в этом отношении. Доктор И. носит точно такую же одежду. Кстати, простите меня, что до сих пор я не спросил вас о вашем имени и не знаю, как мне представить вас доктору И., – ответил я профессору, преспокойно стоявшему посреди коридора и рассматривавшему меня, как обезьяну в клетке.
– Мое имя, юноша, Ганс Зальцман. Для вас оно ничто, но если ваш доктор И. человек образованный, ему оно кое-что скажет. Вы меня ведете прямо к нему?
– Да, доктор И. ждет вас.
Мы пересекли коридор, перешли в другую половину дома, и я ввел профессора Зальцмана к И. Мысли мои были крепко сосредоточены на том, чтобы всей силой своего доброжелательства помочь ученому воспринять И. не так, как он воспринял Франциска. Но с первого же движения И. навстречу входившему профессору, с его улыбки, с протянутой необычайно приветливо руки, с тона голоса, полных светскости, обаяния, любезности, я понял, что мои усилия были детски беспомощны и не нужны, что И. был действительно титаном, и ученый почувствовал это мгновенно. Весь его облик, повадки – все изменилось. Он весь собрался в комок, точно тигр, готовившийся к прыжку, и я вспомнил его разговор с Франциском, как он обещал защищаться, как лев.
– Я очень рад, профессор, приветствовать в вашем лице всю науку Запада. Примите мой глубокий поклон Вашему труду и Вашим знаниям, – сказал И., протягивая ученому обе руки и усаживая его в кресло. – По всей вероятности, ваше путешествие на Восток и все пребывание у нас вас очень утомило. Но я надеюсь, что ваша преданность науке будет вознаграждена. Книги, не только те, о которых вы мечтали, но и такие, о которых вы ничего не знали, ждут вас в нашей библиотеке. Я позаботился, чтобы вам была предоставлена при одном из самых обширных филиалов библиотеки отдельная небольшая квартира. Полная тишина в той части парка, где расположен отдел библиотеки, который я вам предлагаю, даст вам гарантию, что ничто и никто извне не сможет нарушить ваших занятий.
И. усадил профессора в удобное кресло. Незаметное ударение, сделанное И. на слове «извне», заставило профессора Зальцмана насторожиться.
– Если извне не будут мне мешать, то уж изнутри, наверное, ничто не нарушит моей устойчивости и трудоспособности в науке, – произнес он неожиданно для меня быстро, точно торопясь и волнуясь.
– Как знать, – улыбаясь сказал И., пристально глядя в лицо ученому.
– Я надеюсь, – снова торопясь сказал тот, – что вы не намерены показывать мне феноменов гипнотизма, как это сделал по дороге ночью брат Франциск? Что мог себе позволить невежественный монах, обладающий магнетической силой, до того не может дойти ученый. Я хотел бы сразу же начать наше научное собеседование.
– Сейчас вам, прежде всего, необходимо позавтракать и подкрепить свои силы. Если после завтрака вы пожелаете немедленно отправиться в библиотеку, мы пойдем с вами туда сейчас же. Но я советовал бы вам подождать до вечера. Наше солнце существенного вреда вам не причинит, но может утомить вас так, что желанная беседа со мной отодвинется на несколько дней, – ласково говорил И., приглашая ученого в столовую.
– О, нет, я гораздо крепче, чем вы предполагаете, доктор И., – перебил его Зальцман, следуя за нами в столовую. – Но вот разрешите мою загадку: когда вы успели получить докторскую степень и где? Вы так юны, что можете позировать для статуи греческого бога, и у нас на Западе вы, конечно, ее получить не могли. У нас детям ученых степеней не дают, а скинуть с вас лет шесть – семь, и вы будете ровесником сему полуребенку, хотя он сложением и Геркулес, – прибавил он, смеясь и указывая на меня.
– Тем не менее степень я получил именно у вас в Германии одну, в Риме – вторую и в Лондоне – третью, – улыбаясь, ответил И.
– Поразительно, – скорее фыркнул, чем сказал профессор.
– Я, хотя и не так прекрасно читаю мысли людей, как мой брат Франциск, тем не менее вижу ясно, как в вашем мозгу мелькает слово «шарлатанство». Потерпите немного, вскоре вам предстанут факты моей неоспоримой учености, – весело смеялся И.
Зальцман остановился, пресмешно уставившись глазами на И. и даже раскрыв от удивления рот. Но И. не дал ему времени оставаться в столбняке, взял его под руку и, представляя подошедшему к нам Кастанде, сказал:
– Вот, позвольте вас представить. Это наместник нашего хозяина в Общине, брат Кастанда. Все, что вам будет нужно, чем вы будете недовольны, со всем обращайтесь к нему, все в руках всемогущего Кастанды. Он только по виду суров, на деле же это любезнейший и самый обворожительный хозяин.
– Я буду счастлив служить вам, как и каждый из нас, дорогой профессор, – ответил Кастанда, пожимая руку гостя. – Садитесь, пожалуйста, сюда. Если наша еда будет вам не по вкусу, заказывайте себе все, что вам захочется. Мы постараемся достать вам все то, к чему вы привыкли.
– Вы чрезвычайно любезны. Но я всю жизнь не замечал, что ел, и почти всегда был голоден. Думаю, что не доставлю вам хлопот в этом смысле. Голод мне так же привычен, как сухой хлеб и вода, составлявшие почти всегда мое регулярное питание.
Профессор опустился в креслице между И. и мною и с удивлением рассматривал окружавшие нас фигуры и лица. Довольно долго он жевал то, что И. положил ему на тарелку. Я видел, что все его внимание поглощено людьми, а ел он, действительно, не понимая, что ест.
– Скажите, доктор И., откуда вы здесь собрали такую уйму людей? С тех пор как я окончил университет, я ни разу не бывал в этаком скопище, в этакой культурной толпе. Здесь нет ни одного вульгарного лица. Что это? Это все ученые?
– Нет, профессор, здесь собрались люди не по признаку учености или талантов, хотя талантов здесь немало. Это те люди, сознание которых раскрыто не только как ум, но и как гармоничное целое, как творческое сочетание ума, сердца и духа. Свет духовной жизни – вот отличительный признак объединенных здесь людей. Силы их духа сияют вам, а вы, следуя вашей западной привычке, хотите их осязать и расставить по графикам логических посылок и предпосылок. В вашей жизни здесь вы будете постоянно натыкаться на затруднения, если духовная сила сознания не будет вами учитываться как первая сила человека.
Сидевшая на своем обычном месте Андреева внезапно пронзила Зальцмана своими электрическими колесами. Я внутренне съежился, так как ждал от нее сейчас же какой-нибудь «штучки» бедному профессору. Но она перевела свои глазищи на меня, и вся штучка досталась мне. Я был рад, что бедный ученый, и без того испытавший немало «феноменов» за одни сутки, избежал еще одного удара по нервам.
– Да, Левушка, защитником и милостивцем быть, конечно, очень приятно. Но, это вовсе не ваша роль. Вы помешали не только моему остроумию, но и скорейшему прозрению этого старца. И чего это вам вздумалось играть роль милосердного самаритянина? – пронзая меня огнем своих глазищ, сказала Андреева.
– Или я не совсем понял вас, или вы не совсем поняли мою мысль, Наталья Владимировна. Должно быть, я уже научился немного защищаться от вас. Но я убежден, что вы не высказали того, что хотели, не только потому, что я вам помешал, а больше всего потому, что И. вам запретил, – ответил я смеясь.
– Извольте радоваться, во что превращаются невинные птенчики через несколько месяцев в обществе И., – и Андреева тоже смеялась самым добродушным образом.
Ученый, не понимавший языка, на котором обратилась ко мне Андреева, смотрел пристально в ее глаза, потом перевел взгляд на меня и, повернувшись наконец к И., сказал:
– Если бы я встретился с этой дамой один на один, я бы, по всей вероятности, испугался. В вашем обществе я чувствую себя точно в защитной сети, но все же думаю, что эта дама обладает не совсем нормальной психикой.
– Эта дама знает прекрасно все те языки, на которых говорите вы, профессор. И, кроме того, обладает столь не нравящимся вам свойством: угадывать мысли другого. Я готов утверждать, что она отчетливо знает, о чем вы сейчас думаете, – усмехаясь, ответил И.
– О, это было бы ей весьма малоприятно, – беспечно улыбнулся ученый. – Но, слава Богу, она не угадает того, о чем я думал.
– Вы думали, что в моих глазах пляшут те огни, за которые инквизиторы Испании приговаривали грешников к костру, – раздался добродушный голос Натальи Владимировны. Вокруг многие рассмеялись, профессор смутился и растерянно смотрел на Андрееву.
– Пейте ваше какао, друг, и, если вы настаиваете, вопреки моему совету, пойдемте в библиотеку. Оставим эту саркастическую даму без удовольствия пиявить вас дальше, – ласково сказал И.
Очень мало евший профессор от какао отказался, попросил разрешения взять в карман фруктов, и мы отправились в путь. И. приказал мне надеть шляпу с вуалью и принести такую же профессору. Протестовавший и возмущавшийся вначале ученый с восторгом напялил ее на голову, как только мы вышли из тени в палящий жар. И. повел нас новой для меня дорогой. Мы не спускались по скатам в долину и не поднимались снова в горы. Каким-то неожиданным образом, перейдя по двум узеньким и дрожащим мостикам над глубокими пропастями, пройдя три туннеля, мы очутились в большом парке минут через сорок ходьбы.
Для меня это было большим сюрпризом, потому что мы вышли сразу на широкую кедровую аллею, очень близко от оранжевого домика И. Никак не обращая внимания профессора на чудесный домик, И. перевел нас через жаркую аллею в другую, тенистую часть парка, сделал несколько поворотов по дорожкам, и… мы оказались у входа в библиотеку, но совсем с другой стороны. Мы вошли непосредственно в круглый зал, за столами которого сидели, углубясь в работу, люди, не обратившие на нас никакого внимания.
Профессор был так поражен видом зала, многих людей в нем и гор книг, что остановился, и И. пришлось взять его за руку, шепнув:
– Здесь можно только заниматься, но ни останавливаться, ни разговаривать нельзя.
Мы прошли еще одну комнату, где тоже было занято много столов, но где были и свободные столы и где также никто не оторвался от своей работы, чтобы посмотреть на нас. Несмотря на то что И. вел профессора за руку, тот шел медленно, лицо его было умиленно и даже расстроенно, и он шептал:
– Счастливцы, счастливцы! Избранники науки! Море света и книг. А я-то, я-то! За каждую книжонку должен был платить часами труда, отрывая время у науки!
Мы вошли в тот зал, где Лалия и Нина выдавали книги. Теперь вместе с ними трудились еще три девушки, и мне показалось, что сейчас все делали именно они, а Лалия и Нина только руководили ими и проверяли их труд.
K моей огромной радости, за одним из столов я увидел Никито за грудами книг и, забыв все на свете, помчался к нему, к милому другу, которого я так давно не видел. Не успел я подойти к столу и протянуть руку Никито, как услышал за собой сдавленный крик и шум сразу отодвинувшихся нескольких стульев. Повернувшись на шум, я увидел несколько фигур, быстро шедших на помощь И., державшему на руках бесчувственного профессора.
– Это ничего, друзья, – говорил И. трем братьям, бросившимся ему на помощь и выносившим тело ученого в прохладный холл. – Положите его сюда, на диван. Наше солнце несколько повредило северянину, но это не солнечный удар. Он вскоре очнется. Не беспокойтесь, идите к вашим занятиям. Со мной останутся Левушка и Никито. Если что-либо понадобится, я к вам обращусь.
Занимавшиеся в читальне братья, бросившиеся на помощь И., вышли с глубоким поклоном, и мы остались одни у тела бесчувственного профессора. Лицо его было совершенно зелено-бледным, нос заострился, у меня даже мелькнула мысль, что он, пожалуй, умер. Лицо И. было сосредоточенно и серьезно. Он повернулся ко мне и сказал:
– Левушка, пройди наверх, в мою комнату, которую ты знаешь. С левой стороны от двери, на пятом шаге, ты найдешь стенной шкаф. Вот тебе от него ключ. Открой, подними вверх дверцу пятой снизу полочки, возьми там две аптечки и пузырек, что стоит между ними, и принеси все сюда. С величайшим вниманием и осторожностью открывай и закрывай шкаф. Помни все время, в каком месте ты находишься и что твое промедление или неаккуратность могут стоить человеку жизни.
Я поклонился, взял ключ и, побеждая свое волнение, собрав все внимание, пошел выполнять приказание моего Учителя. Теперь я не думал ни о красоте лестницы, ни об аромате цветов, ни о сходстве этой лестницы с лестницей в Б. в доме сэра Уоми – я шел, как идут, вероятно, воины в битве выполнять приказ своего главнокомандующего. Я знал одно: И. спасет профессора, если я немедленно подам ему нужные лекарства. Трогательный шепот ученого, его умиленное лицо и несознаваемая зависть к счастливцам, утопавшим в море книг и света, осветили мне еще ярче эту жизнь труженика, отдавшего все, каждое свое дыхание своему Богу – науке.
Мне удалось выполнить все приказания И. Шкаф открылся благополучно, несмотря на мою неловкость, я ничего не разбил и не превратился в Левушку-лови ворон, когда открылась дверца пятой полочки. В прежнее время я непременно забыл бы обо всем, увидав сокровища, впереди которых стояли аптечки и граненый пузырек, в котором играла красная жидкость. Теперь я выполнил точно приказание и через несколько минут стоял перед И., подавая ему ключ и принесенные вещи. И. поставил их на стол, велел мне и Никито приподнять профессора и поднес к его ноздрям пузырек. Тело его вздрогнуло и снова омертвело.
Мы подняли старика еще выше, и И. снова поднес к его ноздрям пузырек. Тело профессора вторично вздрогнуло сильней, он стал дышать. И. приготовил смесь какого-то порошка, положил его на кусочек мрамора, поджег и держал у носа больного. Дыхание его стало чаще и ровнее, челюсти разжались, и веки задрожали. И. влил ему в рот лекарство, которое оказало магическое действие. Профессор закашлялся, открыл глаза, издал какой-то звук.
– Полежите спокойно, профессор. Я предупреждал вас, что наше солнце может подействовать на вас плохо. Так оно и вышло. Если бы вы пришли сюда вечером, вы избегли бы того, что с вами сейчас случилось, – сказал И.
– Это не солнце, – ответил профессор, но таким слабым и больным голосом, что я понял серьезность его положения и снова подумал, что он умирает. Помолчав, тем же слабым голосом он продолжал:
– Это те две женщины и мужчина, которых я видел в пылающем доме, когда шел с Франциском. Я был так поражен, увидев мысли женщины живыми, ходящими по земле, что почувствовал точно два удара: один в затылок, другой внизу спины. Это они свалили меня, а солнце здесь совершенно ни при чем.
Он еле договорил, закрыл глаза и снова стал дышать тяжело, заметно бледнея. И. взял каплю красной жидкости из пузырька на тончайшую стеклянную палочку и впустил ее в рот ученого в один из моментов, когда тот ловил воздух. Мгновенная судорога прошла по всему его телу, и он впал в такой глубочайший сон, что я даже не слышал его дыхания.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































