Читать книгу "Философия И. В. Киреевского. Антропологический аспект"
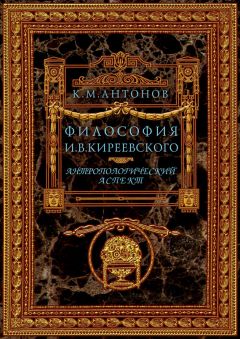
Автор книги: Константин Антонов
Жанр: Философия, Наука и Образование
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Для декабристов характерно стремление поставить поэзию и историю на службу гражданственности. Дворянство означало для них чувство политической ответственности за судьбу Родины.
Напротив, в творчестве Пушкина и его друзей гражданские мотивы отступали перед представлениями о творческой свободе, нравственной чистоте. Следуя Карамзину, они стремились сохранить верность тому историческому преданию, течение которого декабристы откровенно стремились прервать. Дворянство здесь – «литературная аристократия», носитель исторической традиции и творец национальной культуры. Чистота и свобода творческого поиска стояли выше политических симпатий и антипатий. Здесь была поставлена задача воспитания общества не путем прямого нравоучения и потакания вкусу публики, а через постепенное приобщение ее к подлинным ценностям эстетического порядка.
Жуковский, Пушкин, Вяземский, Чаадаев и др. были открыты для диалога с властью в тех пределах, в которых это допускали их совесть и чувство собственного достоинства. Однако условием этого диалога было для них сохранение личной и общественной независимости. В этом они были учениками и наследниками Карамзина, который ввел такой тип поведения в своих отношениях с Александром I и его двором: «Ваше величество, у вас много самолюбия… Я не боюсь ничего, мы оба равны перед Богом» [121, с. 304–306]. При малейшем изменении ситуации необходимо было снова и снова устанавливать пределы этих отношений.
Жуковский, к примеру, мог быть наставником наследника престола, однако как только необоснованные, с его точки зрения, репрессии обрушились на другого его ученика – на Киреевского и его журнал – занятия были немедленно прерваны. По поводу запрещения «Европейца» Жуковский пишет на августейшее имя целый ряд писем, в которых он оправдывает своего подзащитного и обосновывает свою позицию, возводя свою аргументацию к эксплицируемой тут же весьма своеобразной философии истории. Таким образом, каждый общественно-значимый поступок становится творческим актом, и общественное поведение определяется личной творческой позицией, реализуемой в соответствии с конкретикой ситуации. Тем самым, каждый поступок приобретает самостоятельность и законченность, он не может рассматриваться только как средство для достижения благородной цели, и, следовательно, не может быть ею оправдан. Эти черты пушкинского круга – стремление к целостности в области этико-политического, исторического и эстетического опыта, к личной, общественной и творческой независимости унаследовали и развили славянофилы. Их переход к религиозной мысли (аналогичный движению Пушкина и Жуковского) может рассматриваться и как результат стремления легитимно эксплицировать и найти метафизическое обоснование указанных основных принципов: целостности и независимости.
Тем не менее, и в этом кругу сохранялось общее для Просвещения и романтизма представление о соответствии между уровнем сознательности, рефлексивности, творческого потенциала личности и тем объемом власти, располагать которым эта личность призвана. Результатом попытки реализовать эти представления в конкретной общественной практике стало превращение сознательно выработанного типа общественного поведения в специфическую «литературную» утопию.
В этом отношении легко заметить определенный параллелизм между программой пушкинского круга и любомудрами. В обоих случаях, творческая позиция человека определяет сознательный выбор необычного типа общественного и бытового поведения, который трансформируется затем в специфическую (у любомудров более радикальную) форму утопического сознания. Этот параллелизм воспринимался сначала как альтернативность программ.
Однако в конце 20-х – начале 30-х гг. образуется довольно устойчивое пересечение пушкинского круга и группы «Московского вестника» (т. е. любомудров) – двух наиболее перспективных программ развития и русской литературы, и русской мысли. Усилия по сближению предпринимаются, с одной стороны, Пушкиным, Дельвигом, Жуковским, Баратынским, с другой – кн. Вл. Одоевским, Дм. Веневитиновым и Ив. Киреевским. В первый период своей деятельности (1827–1834 гг.) Киреевский будет стремиться к синтезу этих программ. Его философская биография дает возможность проследить закономерности их взаимодействия.
Итак, становление Киреевского как литератора и философа происходит на пересечении основных литературных программ и историософских мнений, а формирование его души – в общении с лучшими и талантливейшими людьми эпохи. Уже первое его произведение – очерк «Царицынская ночь», написанный для салона кн. Зинаиды Волконской, обнаруживает как его погруженность в систему образов и тем, понятий и ценностей своего круга, так и самостоятельность его мышления, и своеобразие трактовки этих тем, образов и понятий. Достаточно заметить, что семь звезд стихотворения, завершающего очерк, – Веры, Песнопения, Любви, Славы, Свободы, Дружбы, Надежды – отсылают одновременно и к романтизму Жуковского, и к вольнолюбивой лирике Пушкина, и к памяти о декабристах (в 1826 г.!), и к эзотерическим штудиям русских масонов времен Екатерины. Уже здесь мы обнаруживаем переплетение тем эстетики и философии истории, характерное для Киреевского и в дальнейшем.
Вслед за этим появляются в печати первые литературно-критические опыты Киреевского. Их содержание и структура были в свое время рассмотрены с большой подробностью Манном, Мейлахом, Котельниковым, Морозовым. Нас они будут интересовать с точки зрения той тесной взаимосвязи между эстетикой и философией истории, которую мы можем в них наблюдать и которая поможет нам выйти к собственно антропологической проблематике.
Центральной фигурой этой серии статей оказывается А.С. Пушкин. Киреевский развивает здесь то истолкование пушкинского творчества, начало которому положил Веневитинов. Оно связано с пониманием Пушкина как народного поэта и с усмотрением в «Борисе Годунове» начала нового этапа и в его личном творчестве, и в движении всей русской литературы. Но по сравнению с Веневитиновым, Киреевский делает значительный шаг вперед, последовательно расширяя рамки своего предмета: прежде всего, он пытается (впервые в русской критике) охватить творчество Пушкина в целом, выстроить творческую биографию поэта. Это удается ему благодаря тому, что он рассматривает ее в единстве с его духовным развитием, понятым в рамках шеллинговской системы трансцендентального идеализма. Это двуединство творческой и духовной биографии поэта Киреевский рассматривает вначале «изнутри» как самодовлеющее целое, как обособленное явление народной жизни («Нечто о характере поэзии Пушкина»), а затем, – как момент становления русской литературной, и шире – культурной, традиции («Обозрение русской литературы 1829 г.»). Наконец, третий и наиболее общий этап осмысления творчества Пушкина, где оно предстает как существенный момент русской и европейской (а тогда это означало – мировой) истории, – это статьи «Европейца» – «Девятнадцатый век» и «Обозрение русской литературы за 1831 г.». Таким образом, совершая указанный Котельниковым переход «от литературно критической оценки к смысловой стороне произведения…. к ценностям, лежащим в основе мировосприятия, убеждений и творчества человека, в основе общественного сознания и национальной жизни» [101, с. 37], Киреевский делает это в свете философии истории. Ценности, которые просветляют собой произведение искусства и сообщают основательность и глубину суждениям критика, воплощаются в истории, наполняя ее смыслом и придавая ей направленность; они оформляют народную жизнь, придавая ей характерные черты и свойства; они достигают самосознания в творениях поэтов и размышлениях философов. Народность оказывается связующим звеном между эстетикой и философией истории. Поэзия Пушкина оказывается как бы «замковым камнем» (Шеллинг) всей «системы» Киреевского раннего периода. Б.А. Мейлах не случайно отмечал, что «исходные теоретические положения Киреевского во многом основаны на изучении опыта пушкинского творчества» [136, с. 22]. В то же время здесь сказывается и зависимость Киреевского от Шеллинга, в методологии (принцип триады) и в философии истории[28]28
Подробнее об этом см. в моей статье «Творчество Пушкина в интерпретации раннего Киреевского» (Вестник МГУ, сер. Философия, 1994, № 3).
[Закрыть].
Уже в «Нечто…» подвергаются ревизии некоторые положения программы любомудров. Во-первых, философская поэзия ставится здесь рангом ниже, чем «народная» поэзия Пушкина, во-вторых, деструктивный критический пафос «байронического» периода (время максимального сближения Пушкина с декабристами) преодолевается той же «народностью». От бунтарского индивидуализма Киреевский движется в сторону более умеренной творческой и общественной позиции, движется вслед за Пушкиным, интеллектуальное влияние которого становится еще более заметным во второй статье.
В «Обозрении» творчество поэта предстает как завершающее звено традиции русской словесности, придающее новый смысл всему ее движению: от Новикова, через Карамзина и Жуковского, к Пушкину Трое последних – люди одного круга («аристократы») и одного «направления», но именно они, с точки зрения Киреевского, осуществляли движение русской культуры и самосознания русского народа.
Здесь важно напомнить, что Киреевский говорит о народности, оставаясь в пространстве послепетровского «европейско-русского просвещения», в рамках шеллингианских схем становления личного и трансцендентального самосознания. Романтическое единство гения и народа, чью сокровенную жизнь он призван выражать, на деле окажется иллюзорным – сама установка на гениальность и исключительность уже ставит его под вопрос, поскольку предполагает эгоцентризм в качестве основы жизненной позиции. Отсюда видно, как далеко это понимание от славянофильского – предполагающего отказ от эгоцентризма и переход на радикально иные позиции и в жизни, и в мышлении.
Но, начиная разговор об «уважении к действительности», Киреевский вступает на путь пересмотра наследия декабристов и любомудров. Делает он это под непосредственным влиянием и с одобрения Пушкина. Подчеркивая свою преемственность по отношению к Веневитинову, он существенно модифицирует наиболее утопические моменты программы, изложенной в статье «О просвещении в России». Сказав, что «уже при первом рождении нашей литературы мы в поэзии искали преимущественно философии» [3, с. 58], Киреевский не может уже квалифицировать русскую поэзию как всецело чувственную, механическую, освободившую себя от «обязанности мыслить». Из этого вытекает и пересмотр требования «совершенно остановить нынешний ход словесности… устранить Россию от нынешнего движения других народов» [41, с. 200] и вновь создать русскую культуру на философски выверенном фундаменте и под присмотром философов.
Нащупав в ходе движения русской литературы закономерность и рассматривая ее как выражение самобытной традиции русского народа, Киреевский теперь, после выявления «точки самосознания» этой традиции в лице Пушкина (точнее, в том периоде его творчества, который начался «Борисом Годуновым» и продолжился «Полтавой»[29]29
Что соотносится с другой тенденцией в наследии Веневитинова, представленной его статьями об «Онегине» и «Борисе Годунове» [41, се. 143–151, 204–208].
[Закрыть]), ставит перед русской культурой новую задачу: создание философии. «Нам необходима философия» [3, с. 68], – говорит он. Это значит, что она не-обходима, поставлена на очередь: развитие просвещения само собой, изнутри, закономерно приводит к ее появлению, и она, в свою очередь, возводит это развитие на новый уровень самопознания, на новую степень свободы. У Веневитинова философия как бы вносилась в культуру извне, насильственным образом, как внешняя сила, а потому мыслилась несколько абстрактно, как общее стремление к самопознанию, почему-то отсутствующее пока в русской культуре.
Киреевский конкретизирует национальные моменты философского дискурса, он говорит о «нашей философии», отводя философии германской роль катализатора, а не источника, подпорки, а не движущей силы. Впрочем, не надо забывать, что под «нашим» здесь подразумевается именно «европейско-русское», и, следовательно, не сделан важнейший шаг, ведущий к возникновению славянофильства: различение «европейско-русской» и «древнерусской» образованностей. Важно, однако, что именно здесь, в вопросе о философии, Киреевский специально подчеркивает приоритет Веневитинова и его заслуги. Именно здесь – пункт его наибольших расхождений с Пушкиным и Жуковским, которые считали увлечение немецкой философией чем-то надуманным и, во всяком случае, преждевременным для данного состояния русского просвещения. Видимо, одной из скрытых задач первых статей Киреевского как раз и было заставить своих старших друзей пересмотреть эту свою позицию, в чем он отчасти и преуспел.
Таким образом, пытаясь соединить или сблизить две наиболее значимые для себя литературно-творческие позиции, Киреевский ставит себя в положение творческого диалога с каждой. Это позволит ему аккумулировать в своем сознании и выразить в своем творчестве их наиболее характерные черты и в то же время обрести определенную степень свободы в отношении обеих.
Он пока совершенно не может представить себе, куда заведет его требование создания философии «из нашей жизни», «из господствующих стремлений нашего народного и частного быта» [3, с. 68]. Киреевский не видит пока этой жизни в ее собственной истине. В восприятии литературного критика и романтика она присутствует только через посредство определенного образного и идеологического ряда и русского литературного языка, цель которых – не столько выражать эту жизнь адекватным образом, сколько «просвещать» ее, вносить в нее новое, общеевропейское содержание. Тем самым здесь исключается возможность выхода в иное культурное пространство, и круг «европейско-русской образованности» остается замкнутым, а эта опосредованность жизни литературой – неосознанным моментом, частным случаем непонимания разрыва русского и европейско-русского просвещения.
§ 3. Философия истории И.В. Киреевского в контексте историософских исканий в России в конце 20-х – 30-х гг. XIX в.
Именно в этой культурной среде первоначально формируются и циркулируют идеи, которые потом, в конце 30-х – начале 40-х гг. лягут в основу славянофильства и западничества как противостоящих друг другу, достаточно разработанных и обоснованных философий русской истории. Здесь же складывается и первый вариант философии истории Киреевского, нашедший свое наиболее полное воплощение в статье «Девятнадцатый век».
Конец 20-х годов – время посмертной публикации последних томов «Истории государства Российского» и повального увлечения русского общества проблемами философии истории. Здесь впервые выдвигается требование философского подхода к истории. Эти идеи развивались в двух основных направлениях. Первое – это русское шеллингианство, представленное, главным образом, любомудрами (хотя и не только ими). Второе – исторические идеи пушкинского круга писателей. Оба они восходят к «Истории» Карамзина как первому опыту постижения русской истории в целом. Ему противостояли опыты других литературных и творческих программ, отличавшиеся от этого основного потока именно своей односторонностью. Эти попытки отдать предпочтение части вместо целого разрушали единство и целостность исторической традиции. Наиболее ярко проявилось это у декабристов. Именно так критиковал Карамзина Н. Муравьев [141, с. 586–598].
В отличие от них Киреевскому в «Обозрении… 1829 г.» удалось довольно точно уловить суть карамзинского опыта: «Чем ближе к настоящему, тем полнее раскрывается перед ним судьба нашего отечества; чем сложнее картина событий, тем она стройнее отражается в зеркале его воображения, в этой чистой совести нашего народа» [3, с. 60].
Это стремление Карамзина к целостному охвату исторической традиции ставит его, как мы видели, в ряд предшественников славянофильства. Киреевский, пребывающий в русле «европейско-русского просвещения», не может пока оценить это стремление в полной мере. Однако он решительно присоединяется к нему.
Первой по времени работой, написанной в шеллингианском духе, была статья И. Среднего-Камашева «Взгляд на историю как на науку» («Вестник Европы», 1827 г.), где, кстати, история именовалась «антропологической наукой». В том же году Погодин опубликовал в «Московском Вестнике» свои «Исторические афоризмы», которые записывались, правда, раньше – в 1823–1826 годах. Именно любомудрам должна быть отдана пальма первенства в отношении философского осмысления русской истории в контексте мировой. Именно они первыми осознали историческое познание как необходимый момент самопознания. Когда провозглашенная Веневитиновым задача самопознания России перешла в постоянную практику мыслящих людей того времени – образовался целый спектр более или менее ярких и значительных мнений и теорий, так или иначе предшествовавших либо западничеству, либо славянофильству, либо обоим вместе.
Ведущими представителями шеллингианского направления на рубеже десятилетий могут быть названы, помимо любомудров и близкого к ним Погодина, Чаадаев (к вопросу о шеллингианстве которого мы еще вернемся), а так же Н. Полевой и его круг.
Идеи философии истории Шеллинга распространялись в России через П.Я. Чаадаева, с одной стороны, и через старших любомудров – кн. В.Ф. Одоевского и Д.В. Веневитинова – с другой. Киреевский черпал из обоих источников[30]30
Наряду с ними следует, скорее всего, назвать и его отчима, А.А. Елагина, чье знакомство с произведениями Шеллинга произошло еще во время похода 1814 г. Известно, что он переводил «Письма о догматизме и критицизме». Однако сказать что-либо конкретное о взглядах Елагина, в том числе и о его философии истории, невозможно.
[Закрыть] – именно в конце 20-х гг. происходит его знакомство с Чаадаевым, только что написавшим «Философические письма». Это знакомство вскоре переходит в дружбу, сохранившуюся до самой смерти обоих мыслителей. Конец 20-х – начало 30-х годов – время наибольшей близости в их взглядах. Наряду с Киреевским и отчасти через него (точнее, через дом Елагиных-Киреевских) эти идеи воспринимались также М.П. Погодиным и Н. Полевым [138, с. 340].
Кн. Одоевский ничего не знал, вероятно, о «Философических письмах», но в «Русских ночах» он приходит к противоположным – оптимистическим – выводам о русской истории. В начале 30-х гг. он уже довольно критически отнесся к «фанатичному шеллингианизму» в «Девятнадцатом веке» Киреевского [3, 402]. Веневитинов же, том философской и художественной прозы которого вышел посмертно в 1831 г., напротив, даже ранее Чаадаева пришел к сходным выводам о состоянии русского просвещения.
Полевой, писавший свою «Историю русского народа» в пику «Истории государства Российского» Карамзина, вызвал на себя жесткую критику со стороны Пушкина, который в рецензии на второй том этой работы писал: «Поймите, что Россия никогда ничего не имела общего с остальною Европою; что ее история требует другой мысли и другой формулы, как мысли и формулы, выведенные Гизотом из истории христианского Запада» [154(7), с. 114].
Однако от этого упрека не свободен ни один из исторических мыслителей того времени.
Если молодые мыслители-шеллингианцы знакомились с идеями и образом Карамзина по его произведениям и рассказам старших, то обращение к истории деятелей пушкинского круга произошло во многом под личным влиянием историографа, и вслед за ним они принципиально избегали «чистого» теоретизирования. Мы находим здесь определенный набор поисков, идей, мнений, оформлявшихся всегда по тому или иному конкретному поводу: «…монография Вяземского „Биографические и литературные записки о Д.И. Фонвизине“ с рукописными пометками на ней Пушкина и Ал. Тургенева, записные книжки Вяземского, письма Жуковского о запрещении „Европейца“, записки Дениса Давыдова о польских событиях 1830–1831 годов» [54 с. 47], – перечисляет М.И. Гиллельсон основные тексты этой группы. Характерны обозначения жанровой принадлежности этих текстов: «пометки», «записки», «письма». Они свидетельствуют о том, что авторы не занимались ни историей, ни философией систематически и профессионально. Этот дилетантизм имел, однако, и положительные стороны: он позволял «литературным аристократам» свободно и критически относиться к профессиональным предрассудкам «систематических» историков и философов. Эту свободу им удавалось сохранять и тогда, когда они – подобно Чаадаеву в философии и Пушкину в истории – приступали к систематическим занятиям. Пушкин был единственным, кто в конце концов занялся историей профессионально. Однако на это время приходится наибольший интерес писателей его круга к проблемам философии истории и политики.
Здесь присутствует не только некоторый набор мнений о прошлом, но и, как уже говорилось, оригинальная социальная утопия, впервые сформулированная Вяземским еще в 1826 году в письме к Жуковскому, которого он мыслил «представителем и предстателем русской грамоты у трона безграмотного». В соответствии с этой программой писатели – «эксперты социальной жизни, они должны влиять на культурную, и шире – внутреннюю политику правительства Николая I» [35 с. 10], определять характер просвещения и высшего света, и простого народа. Прецедентом такого положения писателя виделось им и здесь положение Карамзина при Александре I.
Обе группы активно взаимодействовали между собой. Их представители постоянно встречались, обменивались мнениями и идеями. Достаточно указать на отношения Чаадаева и Пушкина, Жуковского и Киреевского, чтобы понять размытость и формальность проведенного нами различия. В действительности мы имеем здесь дело с методологическим различием, напоминающим различие творческого метода Пушкина и любомудров. Шеллингианцы исходили из теории и стремились выстраивать факты в соответствии с нею. История для них представляла собой драму, разыгрываемую по достаточно подробно известному плану, от которого невозможны сколько-нибудь значительные отклонения. Напротив, писатели пушкинского круга считали излишнее теоретизирование неуместным и исторически (поскольку российское просвещение еще не вышло на соответствующий уровень развития), и эстетически, поскольку оно «сушит» текст. Этот момент отметили и Пушкин в рецензии на первое «Обозрение» Киреевского, и Жуковский (гораздо более резко) в устном отзыве о нем: «Опять прокрустова постель… Ты говоришь об нас, как можно говорить только об немцах, французах и проч.» [3, с. 396]. То есть реальность исторического момента искажается тем, что оказывается насильственно втиснутой в «прокрустову постель» умозрительной схемы.
Этому схематизму противопоставлялся своеобразный эмпиризм, где основную роль играли интуитивно-художественные методы обобщения фактов. Критерием значимости исторического факта становится, как пишет Вацуро, «не эмпирическое соответствие копии оригиналу, но правильно найденное ему место внутри некоей целостной системы, его иерархическая соотносимость с иными, существенными и несущественными фактами общего исторического процесса» [35, с. 16–17].
Найденный здесь «художественный способ философского обобщения», с помощью которого «в историческом поступке обнаруживается постоянство ситуации человеческого и природного бытия», описан А.В. Еремеевым в его работе о Киреевском. Современная ситуация в свете опыта прошлого приобретает дополнительную глубину, тем самым История приобретает качество мифа [67, с. 179]. Аналогичные структуры обнаруживаются исследователем и в художественной прозе молодого Киреевского, что свидетельствует о конвергенции двух подходов. Это стало возможным благодаря интуитивизму шеллингианства и создало условия для преодоления собственно философского этапа литературной критики и для создания славянофильской теории исторического познания, сочетавшей интуитивно-эмпирический подход с широкими спекулятивными обобщениями.
Все эти события происходили в географически вполне определенном месте – доме Елагиных и Киреевских у Красных Ворот. Именно там, по воспоминаниям известного ученого и литератора тех лет М.А. Максимовича: «…собирались по воскресеньям вечера, которые остались памятными для всех, принимавших в них участие. Здесь под исход 1829 года бывал Пушкин, который по возвращении из Закавказской экспедиции пожал дружескую руку своему талантливому критику – Киреевскому Здесь постоянно являлись и давний друг Пушкина П.Я. Чедаев, с своею Западною проповедью, и А.С. Хомяков, осыпавший его стрелами своего Восточного остромыслия. Тогда завязывался тот спорный вопрос об отношении Русского просвещения к Европейскому, который потом для Киреевского был одною из главных задач его умственной деятельности и в разрешении которой он дошел до своих великих выводов в области умозрения» [6, с. 410].
Здесь происходит и очень важная для генезиса славянофильства переориентация внимания русских мыслителей с эпохи Смутного времени, на эпоху и деятельность Петра Великого[31]31
Она была опять-таки предвосхищена Карамзиным в «Записке о новой и старой России», которую К.С. Аксаков характеризовал как документ, непосредственно предшествующий «русскому направлению».
[Закрыть].
Указанное нами выше различие методов не мешало тому, что обе группы давали примерно одинаковый спектр решений «спорного вопроса». И там и там мы можем видеть и «славянофильский», и «западнический» полюсы, между которыми располагаются различного рода промежуточные и синтетические идеи и мнения. У шеллингианцев мы видим, как резкое религиозно окрашенное (католичествующее) западничество Чаадаева секуляризуется у Веневитинова и И. Киреевского, смягчается и причудливо переплетается с мотивами русского мессианизма у того же Киреевского и кн. Вл. Одоевского, переходит у Погодина в решительное русофильство, которое у П. Киреевского и Хомякова соединяется со вполне сознательным и принципиальным исповеданием Православия.
У писателей пушкинского круга, к которому Чаадаева можно отнести с не меньшим основанием, чем к шеллингианцам, мы обнаруживаем, вслед за ним, цивилизованное, культурное западничество Ал. Тургенева и кн. Вяземского, убеждение в особом пути и призвании России у Жуковского и Д. Давыдова (у последнего также резкую критику всей современной культуры, как основанной на «всепоглощающем Я») [54, с. 52–54] и, наконец, патриотизм позднего Пушкина, соединявшийся с никогда не ослабевавшими культурными и духовными связями с Западом.
Все эти мнения, не оформляясь организационно, бытуют в созданном Пушкиным едином поле свободной мысли, независящей ни от каких внешних сил и воздействий, и именно в силу этой независимости становящейся в оппозицию к официальной уваровской триаде.
Однако уже на этом этапе мы видим, что основы будущих направлений лежат не столько в самих историософских схемах и построениях, сколько в тех отношениях к культуре и человеку – ее творцу, которые вызвали к жизни эти схемы. Так, «западничество» уже здесь связано с идеализированным образом западной культуры, верой в прямолинейный прогресс, связанный с рационализацией жизни, и принципиально посюсторонним жизненным идеалом – всем тем, что станет предметом жестокой внутренней борьбы в Киреевском. Он и после обращения осознавал свою «принадлежность Западу», но при этом открыл в сердце человека «такие движения, такие требования в уме, такой смысл в жизни, которые сильнее всех привычек и вкусов, сильнее всех приятностей жизни и выгод внешней разумности» («Ответ Хомякову») [3, с. 146].
Именно с такими движениями и требованиями связаны зачатки славянофильства и у Хомякова, и у П. Киреевского, и у Погодина, и у Пушкина: это религиозность, стремление к целостности и полноте духовной жизни и сомнение в общезначимом характере западной культуры и самого отношения к миру западного человека.
В этом русле исканий конца 20-х – начала 30-х гг. XIX века сформировалась и философия истории Киреевского. Наряду с чаадаевской, это одна из наиболее показательных и разработанных концепций этого времени. Она учитывает основные достижения философии истории любомудров (системность подхода), Надеждина (соединение философии истории и эстетики), Чаадаева (противопоставление России и Европы как бессмысленности и смысла). Киреевский осуществляет новый синтез, усматривая исключительное значение «события Пушкина» и придавая античности особый статус смыслообразующего начала. Это связано с переходом к третьему этапу осмысления творчества поэта и с изменениями во взглядах Киреевского в 1829–1832 гг. – на пути от «Обозрения» к «Европейцу».
В статьях «Европейца» он попытается найти место России в диалектике западноевропейского просвещения, в «целостности нравственного быта просвещенной Европы». До путешествия в Европу (1831 г.) все представлялось ему более или менее просто: развитие западных стран себя исчерпало, Россия же, достигнув в лице Пушкина европейского уровня просвещения, должна теперь освоить духовное богатство Запада, его исторический опыт (который он в целом оценивает только положительно), творчески переработать его в свете своих проблем, а потом, «когда все эти блага станут нашими, мы поделимся ими с остальною Европою и весь свой долг заплатим ей сторицею» [3, с. 79].
Ближайшее время несет в себе целый ряд разочарований. В ходе заграничной поездки он сталкивается с «безжизненностью» Европы. Однако по возвращении на него надвигается длящаяся и безысходная провинциальность подавляющего большинства российской публики («„Горе от ума“ на московском театре»). Последняя проблема в тот момент особенно волновала пушкинский круг, поскольку даже в лучшие времена число подписчиков «Литературной газеты» относилось к подписчикам «Северной пчелы» как 1 к 10. Перед Киреевским впервые раскрывается шаткость и безосновность его существования. Его культурная среда оказалась ничтожной кучкой «исключений, находящихся в беспрестанной борьбе с большинством» [3, с. 118]. Киреевский здесь описывает классическую ситуацию романтика, из которой он начинает искать выход, пока еще оставаясь в тех же романтических рамках. Поиск оснований пока не затрагивает антропологию, он ведется в области философии истории. Молодой мыслитель начинает перебирать элементы европейской и русской истории. Есть ли в России тот фермент, который мог бы освоить, преобразовать и творчески развить духовное богатство Европы? Увы, наше «отдельное, китайски-особенное развитие… не могло иметь успеха общечеловеческого, ибо ему недоставало одного из необходимых элементов всемирной прогрессии ума», а именно «остатков древнего мира» [3, с. 96, 91], сыгравших в истории Европы роль основного смыслообразующего начала.
Наличие этого начала позволяет увидеть смысл и правду даже таких неромантичных черт, как «холодность, прозаизм, положительность, и вообще, исключительное стремление к практической деятельности». Но «именно из того, что Жизнь вытесняет Поэзию, должны мы заключить, что стремление к Жизни и к Поэзии сошлись и что, следовательно, час для поэта Жизни наступил» [3, с. 85].
Поэзия, философия, религия и все европейское общество в целом движутся к идеалу «естественного равновесия противоборствующих начал», и «вера в эту мечту или в эту истину составляет основание господствующего характера настоящего времени и служит связью между деятельностию практическою и стремлением к просвещению вообще» [3, с. 88].
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!





























