Текст книги "Лето на хуторе"
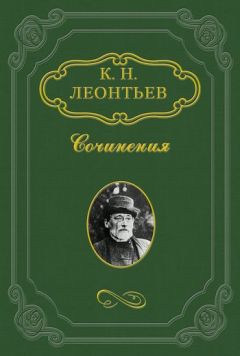
Автор книги: Константин Леонтьев
Жанр: Литература 19 века, Классика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 6 страниц)
VI
Следующий день был воскресный; утро ясное, и звон колоколов весело прилетал из села через луга и пустоши.
– Голубчик мой, Иван Павлыч, о чем это вы грустите? – ласковым голосом говорила Маша, стараясь отвести руку Василькова, которою он упорно закрывал лицо.
Но рука не повиновалась ее ласке.
– Видите, какие вы здоровенные: и руку ни за что не оттащишь, а еще тоскуете…
Но и к шутке был глух Васильков. Маша села около него.
– Вы, может быть, тоскуете о том, что скоро ехать? Да ведь вы говорили, что недели две еще пробудете. Или вы на меня за что-нибудь сердитесь? Я, ей-Богу…
Васильков отвел руку, и Маша увидела бледное лицо его.
– Что с вами, Иван Павлыч? Вы нездоровы?
– Оставьте меня! Бог с вами! оставьте меня!.. Я завтра еду отсюда. Вещи уложу сегодня с вечера. Мне здесь нечего делать!
Настало молчание.
– Конечно, – начала Маша, закинув назад голову довольно гордо (голос ее при этом стал немного потолще обыкновенного, для выражения мужественной решимости). Конечно, в деревне очень даже скучно; в городе… как можно! Там барышни хорошенькие, не то, что мы, простые, деревенские. Как вам угодно… поезжайте. Я знаю, что вам все равно…
«Что это за женщина! – подумал Иван Павлович! – чего она хочет? Может быть, она сделала проступок по молодости, а теперь полюбила меня чистым чувством и хочет скрыть от меня только прежнее?»
– Послушайте, – продолжал он громко, – вы говорите как дитя… Я любил вас… Я, я даже и теперь простил бы вам, если б вы мне признались во всем… Я знаю все, но я хочу, я требую откровенности!
– Какую же я вам еще сделаю откровенность, Иван Павлыч? Я вам все говорила; говорила вам, как кто за мной волочился и кто влюблен был – все, как есть, говорила…
– Все? Полноте, Маша! Вспомните, что я завтра еду, и мне хотелось бы знать по крайней мере, что у вас благородное сердце. Когда я все знаю…
– Мудрости в этом нет, что вы знаете, когда я сама вам все говорила; а помимо этого вам и узнать нечего, потому что могу перед Богом сказать, что совесть моя чиста (она покачала головой и на минуту задумалась). – Что бы это за вещь такая была?.. Вы скажете мне, голубчик, правду, если я угадаю?
Откровенный взгляд и детская улыбка, озарившая вдруг прекрасное лицо, вместе с простодушным вопросом разбудили в душе учителя все надежды. Все встрепенулось в нем, и он, боясь нарушить слово, связавшее его, поскорее встал и промолвил:
– Нет, нет, я ничего не скажу!
Маша не тотчас пошла за ним; она посидела с минуту, подумала и, вскочив, бросилась в сени, по которым подвигался он медленно, соображая, как бы поскорей увидеть Непреклонного и заставить его снять с него это проклятое слово.
– Погодите, погодите! – смеясь, говорила Маша. – Я теперича догадалась… Вам на меня насочинил что-нибудь такое этот длинный? Признайтесь. Он ведь и мне самой сколько раз говорил, что, должно быть, я нечестного поведения, потому что, говорит, перед ним очень уж скромничаю… Я это так, ей-Богу, полагаю, что он, потому что он сочинитель и выдумщик ужас какой! Одним только языком и живет. Он на одну из благородного звания даже раз в Москве выдумал… Но только вы поверьте мне, Иван Павлыч, что я честная, честная как есть девушка! Вот образа, жаль, нет… да Бог видит! Ну, послушайте: дай Бог, чтоб я умерла здесь, с места бы не сошла, если я лгу и коварные слова говорю… Я знаю, что вы сами думали часто, что я нехорошего поведения; только на вас я не сержусь, потому что вы добрый человек, и завсегда скажу…
Однако на этот раз она не сказала больше ни слова, потому что Васильков осыпал ее поцалуями.
Объясним же все, как было в самом деле, чтоб читатель мог знать, кто из действующих лиц прав и насколько. Действительно, Маша кой-что утаила от Василькова: она не сказала ему, что было время, когда Непреклонный немного ей нравился. Горничные любят внимание мужчин, как все женщины, которых судьба не баловала большим количеством услужливых и нежно-подобострастных поклонников; а Дмитрий Александрович был два года назад гораздо свежее и лучше лицом. Он жил тогда в Москве и, благодаря тому, что в столице охотно менял поэтическую размашистость шаровар, разговора, кудрей и арапника на весьма приличный и скромный тон, был довольно хорошо принят в дом Машиной барыни, как деревенский сосед представительной наружности Случилось так, что небольшая квартира Непреклонного была во флигеле дома, который нанимала эта госпожа. От молодого человека не ушла красивость Маши, не ушли от глаз его движенья, чуждые сельской увальчивости и тех ужимок, без которых редко обходится городская дева, не ушел от ушей его веселый смех ее и милая, простодушная болтовня. Непреклонный чаще стал проходить по двору мимо девичьего окна, чаще и в доме заходил в девичью, под предлогом спички и папиросы, несмотря на то, что у барыни в кабинете стояли кучи всяких зажигательных штук, несмотря на опасность попасться молодой хозяйке и заслужить название неприличного мовежанра.
При красивой наружности и способности балагурить он, может быть, успел бы, если б чувствовал хоть немного искренней нежности и выражал ее в словах и поступках она затрогивает иногда доброе, хотя и неразвитое сердце. Золотом ослепить он, конечно, не мог, а терпения было мало; уезжал на день, на два куда-нибудь – и Маша была забыта; то надоедал ей излишней навязчивостью и баловал подобострастием, то сердился на нее за неуступчивость и, поклявшись накануне в вечной, грустной любви, предпочитал на глазах ее какую-нибудь легкую победу трудностям борьбы с нею. Скучать она без него не могла, когда он дулся, или изменял, потому что везде было много любезников, и самолюбие ее было спокойно. Раза три он пробовал разражаться страстными декларациями, но на них Маша отвечала сперва смехом, потом стихами, вроде следующих:
В понедельник я влюбился,
Весь авторник прострадал,
В середу в любви открылся,
А в четверг ответа ждал.
Пришло в пятницу решенье,
Чтоб не ждал я утешенья
Во грусти, во досаде,
Всю субботу прострадал и т. д.
В третий же раз она просто рассердилась и сказала, что ей всего 17 лет, и глупо было бы ей жить не по чести, когда у нее есть старик-отец и много родных и когда она знает, что он все это вздор говорит.
Дмитрий Александрович взбесился, разбранил ее и отстал. Скоро уехала она с барыней в Нижегородскую губернию, а он отправился к себе в деревню.
Здесь они опять встретились через год, и новые неудачные попытки заставили Непреклонного обратить внимание на Алену, свести с нею дружбу, чтоб, посредством ее наставлений, покорить жестокосердную Алена была снисходительна к молодым людям, живо сочувствовала страданию Дмитрия Александровича, особенно с тех пор, как, один за другим, явились к ней сперва кусок розового ситца, потом кусок пунцового и наконец большой шерстяной платок, и потому тотчас же приступила к Маше с добрыми советами. Часто говаривала Маше Алена (еще до приезда учителя):
– Чего тебе еще? Человек добрый, из себя молодчинище! Зажила б припеваючи.
– Ну, убирайся ты с своим молодчинищей! Шля бы сама к нему, коли так глаза твои прельстил. Надоела, ей-Богу! Как это тебе не стыдно!
Васильков встревожил Алену. Она стала присматривать за ним и без труда заметила его частые беседы с Машей, особенно, когда Михайла уезжал к больным. Иван Павлович, хотя и подходил к Маше с совершенно чистой душой, но все-таки присутствие старика, которого маленькие глаза так и бегали, наблюдая лукаво за всем, несколько стесняло его.
– Плохи мои дела! – воскликнул раз Непреклонный, войдя в избу к Алене и с досадой разваливаясь на скамью.
– И-и-и! Что вы это? Как вам не грех? – возразила Алена, – Такой молодой кавалер и говорит: «дела плохи». Чем же плохи? Слава Богу: живы, здоровы; рожь я намедни видела у вас сама: во-о-о какая! Стоямши схоронишься.
Непреклонный улыбнулся.
– Полно вздор молоть… Такая досада! хлопочешь, хлопочешь два года! Готов и денег больших не пожалеть… Право!
Тут он встал и начал быстро ходить по избе, заложив руки за спину.
– Да, – говорил он, – я, матушка, так пристрастился, что беда. Не знаю, как и быть…
– А вы бы за этим за молодцом-то приглядывали: он что-то уж больно подъезжает. Разговоры такие, нежности пойдут…
– Ты думаешь? Он, кажется, малой смирный, такой тихий человек. Я и сам сначала побеспокоился, да потом… Где ему!
– Ну, это как вам угодно! Это дело ваше. А я смекаю по своему по глупому разуму, что это так-с.
– А если это правда, – задумчиво сказал Непреклонный, – так мы увидим!
Он бодро встал, простился с Аленой и, весело насвистывая вальс, вышел из избы.
Через два дня план его был готов, а через три, убитый неожиданным разочарованием, Васильков с тоскою внимал поэтическому рассказу Непреклонного о страстной любви, благородстве и небывалом такте невоспитанной героини. Не подозревая в Василькове серьезных намерений, молодой волокита решился на такую хитрость без труда, зная хорошо, что Маша для него пропадет, если Васильков не сдержит того слова, которое он намеревался взять с него предварительно, и никак не воображая, чтоб молчание и удаление от нее были для Ивана Павловича труднее, нежели для него самого. Значит, можно надеяться, что он будет строг к себе и, натолковав кучи вещей об убеждениях, честности и философии, не захочет ударить себя лицом в грязь из-за пустой интрижки. Вот как было все это дело.
Когда Маша увидела, что Иван Павлович тронут ее клятвами и так жарко благодарит ее, то спешила воспользоваться смягчением его духа и настойчиво приставала к нему, выпытывая секрет. Но Васильков был шутлив и непоколебим.
– Ну, намекните хоть крошечку, – говорила Маша, – я сейчас угадаю… Кто вам на меня насказал? Дмитрий Александрыч? Я знаю, знаю, что это он, потому что это сейчас даже видно… потому что вы вчера с ним разговаривали, а после не стали говорить со мной… Он, он, уж я знаю… Вот вы улыбнулись…
– Дитя вы, дитя! Я улыбнулся потому, что меня смешит ваше любопытство; смешно тоже, что вы по пустому вините бедного Дмитрия Александрыча. Это я сам комедию разыграл, чтоб вас помучить.
– Ну, Бог же с вами, если так! А я все-таки его попытаю, спрошу у него при вас, не говорил ли он чего.
– Как хотите! пожалуй! – схитрил было Васильков, – только вы этим наделаете мне неприятностей.
– Не бойтесь, он вам ничего не смеет сделать. Посмотрела бы я, как он вас тронет!
Иван Павлович засмеялся.
– Я не боюсь его, а не хочу, чтоб вы его чем-нибудь обидели, когда он не виноват. Послушайте, – прибавил он, как мог убедительнее, – поверьте же мне, что Дмитрий Александрыч не виноват. Впрочем, скажите мне, что вы думаете?
– Я вам скажу, что я в уме в своем держу. Мне, вот видите, как сдается… Вы этак громко разговаривали… Может быть, спросили у него что-нибудь про меня, потому что вы очень мнительны насчет меня; он вот вам и сказал, что я нечестна… Он разве мне этого не говорил? Сколько раз твердил, что у меня ферт есть. Ей-Богу! он такой!
– Какой вздор! Мы с ним говорили вчера об охоте: оттого он так и горячился, – возразил учитель, делая себе внутренне различные комплименты насчет своей увертливости.
Разговаривая таким образом, они и не заметили, что у огородных дверей стоит кто-то в розовой рубашке, надетой по-русски сверх плисовых шаровар, в суконном чорном жилете и фуражке. Владетель этого щегольского наряда долго стоял неподвижно у дверей и, только заметив движение Василькова, собиравшегося уйти, отошел с поспешностью от крыльца.
Иван Павлович направился к реке и не встретил его; но Маша вышла к огороду и тотчас же узнала Антона, сына садовника из села Салапихина.
Поставив на завалинку корзинку с ягодами, Антон снял фуражку.
– Здравствуйте, Марья Михайловна, здравствуйте.
– Здравствуй, – сказала Маша и села. Антон надел фуражку и подперся.
– Здравствуй, Марья Михайловна. Ишь вы ноньче как закурили!
– Как закурила?
– Закурили больно-с, вот что! загуляли! с господами загуляли!
– Ведь что это твой нос-то выдумает! Как это даже не стыдно говорить это!
– Да, так-с. Нос-то мой ничего не выдумывал, а глаза видят, и люди говорят.
– Язык твой без костей, – строго возразила Маша, – я дивлюсь, как это он не отсохнет у тебя врамши! Ну скажи: где ж я загуляла?
– Где, Марья Михайловна? Да везде-с!
Маша засмеялась.
– Видишь, какой твой нос бесстыжий… (Я забыл сказать, что у Антона нос был довольно римский).
– Нос мой всем известно какой длинный, – вздохнув и отворотившись, продолжал Антон, – а вот ваш-то носик, на что уж махонький, ну а все же равно вы грешите, да еще и запираетесь, а других бесстыдными зовете!
– Да, что с тобой?.. (тут Маша стала снова серьезна лицом) Я даже просто не понимаю!
– Вот вы как непонятны стали!.. То-то и есть, пошел кувшин по воду ходить, тут ему и головушку положить, говорится пословица, Марья Михайловна! Разве вас не видали, как вы день-деньской гуляете с этим с барином… учитель он, что ли, у вас?.. А вот, что про вас молва идет худая, эвто даже очень больно и прискорбно слышать… Вчера прихожу к управительнице с вишнями, а она с первого-таки с самого разу и огорошила: «Ну, что, говорит, хваленая ваша умница московская да франтиха?».. Я и ума не приложу на первый случай, о чем это старуха брешет. Ан оно и вышло, что про вас… и и-и-их!
– Большая мне нужда, что твоя управительница говорит! Я даже очень мало обращаю внимания на ее глупые слова. Она, можно прямо сказать, только языком ехидническим своим и живет! Кабы не язык ее гадкий, чем бы ей кормиться-то было? А по мне знаешь ли что? По мне вы все хоть зубы поскусайте себе злимшись – мне все равно… Я на вас на всех внимания на салапихинских не обращаю.
– Это так, Марья Михайловна, – грустно скрестив руки на груди, начал Антон, – точно, что она злоязычница, а все-таки, пока нечего было сказать и не говорила. Вот про Непреклонного, про Дмитрия Александрыча, говорили тоже, да веру никто не прилагает к этим к словам пустым… А почему это? Потому никто вас с ним не видал, никто и не может истинную правду, то есть, знать. Говорит один, говорит другой, сказал да и к стороне. А оно, может, и правда! Вот мальчишки на ночной были, на запрошлой неделе, али с месяц – божатся, говорят, видели вас с Дмитрий Александрычем в телеге. Да то мальчишки; а это я сам видел, как пальтище его белое раздувается по кустам… Да и кто он, Господь его знает! Это и я, коли по совести безо всякой похвальбы сказать, лучше его хожу…
(Антон погладил рукой сукно жилета).
– Большая мне необходимость, – возразила Маша, вставая, – как ты ходишь! Ты думаешь, я за тебя замуж пойду? Это вздор! Ты этого и не думай! Кабы ты был тихий человек или добрый, еще бы ничего, а ты что? Что смотришь? Глаза по плошке, не видят ни крошки.
– Глаза-то-с? – спросил Антон хладнокровно, – я еще не хочу рассказывать все… стыдить вас, срамить не хочется, а глаза много видели.
– Ступай, ступай, скучный ты человек! Надоел… И ягод твоих не хочу! Возьми плетушку, ступай…
Антон наконец рассердился.
– Ну, Бог же с вами, коли так! Стыда-то у вас нет… Другая бы сгорела давно! Цаловаться в сенях, в темных – одно только это и знаете!
– Ступай, ступай! – воскликнула Маша, покраснев до ушей, и глаза ее даже наполнились слезами, – ступай и не смей никогда со мною говорить, рта не смей…
– Эх, погодите маненечко! еще поклонитесь, как заговорю…
В эту минуту Дмитрий Александрович подъехал к огороду на своем красивом жеребце. Он попросил Антона взять лошадь, а сам, серьезно и небрежно кивнув головой в сторону Маши, направился к крыльцу.
Васильков, гулявший до тех пор по берегу, услыхал шаги лошади и, боясь расспросов, которыми грозилась Маша, спешил встретить задумчивого всадника.
– Пойдемте куда-нибудь… Хоть сюда, в рощу, – сказал Иван Павлович, с несвойственной ему быстротой схватив его под руку.
Непреклонный повиновался молча и пасмурно.
– Вам ничего не говорила Маша? Не спрашивала вас?.. Впрочем, я не нарушил слова.
– О, понимаю, понимаю!.. Признаюсь, это была воинская хитрость… Вы вполне были бы правы, нарушив слово… Но я никак не ожидал, чтоб намерения ваши были так серьезны.
Васильков слушал его с изумлением.
– Позвольте, – продолжал Непреклонный, вынимая руку из-под руки учителя, – я уйду теперь; я вам объясню все после подробнее. Скажите только, таковы ли в самом деле ваши намерения? Вы не прочь жениться на ней?
Говоря это, Дмитрий Александрович не смотрел на Ивана Павловича и хлопал бичом; Иван Павлович смотрел на березу и старался с большим вниманием оторвать от коры кустик серого мха.
– Иван Павлыч, что ж вы молчите?
– Да, – отвечал Васильков, – хоть я и не знаю, захочу ли привести эту мысль в исполнение, но знаю, по крайней мере, что, кроме этой мысли, я на эту девушку никаких намерений не имею.
Дмитрий Александрович наклонил голову.
– Только я и хотел знать. Простите меня и прощайте… Я напишу вам.
Он пошел было, но Васильков (который наконец оторвал мох так аккуратно, как будто сбирался его послать в ботанический кабинет в виде редкости) остановил его, вдруг обернувшись с словами: «дайте же руку!»
Руки были крепко сжаты с обеих сторон. Васильков произнес тихо: «право, я не нарушал слова»; а Непреклонный только усмехнулся не без горечи.
Он расстались, и минуты через три страшный на этот раз стук копыт возвестил всем жителям хутора, что Дмитрий Александрович не остается обедать.
Теперь вопрос: как узнал Непреклонный о том, что намерения Василькова несравненно серьезнее его победоносных планов?
Предусмотрительная Алена не захотела терять времени и тотчас же придумала, что отеческая власть Михайлы может разом положить конец излишней близости учителя с дочерью. Она, при первом удобном случае, начала толковать дяде о своем беспокойстве за судьбу Маши и изъявлять опасения насчет постояльца.
Михайла усмехнулся и отвечал:
– Эвто ничего; я в эвтом ничего такого не вижу, как есть ничего!
– Бона какой! еще лекарь… Да ты бы себя полечил, себя, самого! У тебя днем куриная слепота. Глаза у тебя завсегда маленькие были, а уж со старости и вовсе не глядят.
– Хорошо, хорошо! любо! Бреши, что знаешь… А он мне совсем другое предвещает. Он мне даже ужасно много хорошего предвещает! Не такой человек. Человек самый натуральный, как есть. Намедни пришел, то есть, ко мне и говорит-таки мне самому в глаза: «А как, говорит, вы думаете, то есть, Михайла Григорьич, насчет этого, когда, говорит, мужчина любит простую девушку и с ней законным браком соединится?» А я ему сейчас и говорю: «Ну, что ж, батюшка, Иван Павлыч, счастье разное бывает людям; бывает, что и хорошо живут», – и пошли толковать! Так он, что ты думаешь? «Вы поверьте, говорит, моему мнению; я хоша и молодой человек, то есть, еще жизть не искусил, потому и люблю, говорит, с вами посоветываться, то есть, что вы человек почтенный…» Ей-Богу, право! Я сам насчет его имею свое пронырство!
В утро, на котором прервался наш настоящий рассказ, Алена, возвращаясь от обедни, встретила всадника, спозаранку спешившего насладиться первыми плодами своих трудов и утонченного плана. Она тут же передала ему слова дяди.
Искреннее, нестерпимое угрызение проникло в душу молодого помещика. Что, если в самом деле несчастный Васильков хотел жениться, и теперь, связанный честным словом, не смеет сообщить ей то, что терзает его? Да нет, нет, он как дважды два не утерпел и рассказал!
Однако ведь и то нельзя забывать, что он так рыцарски на все смотрит…
Напрасно старался Непреклонный убедить себя, что это к лучшему, что это может спасти юношу от неравного брака, который ему казался все-таки чем то диким и едва ли способным принести хорошие плоды, тихую и по крайней мере дюжинно счастливую жизнь. Он было и решил уже, подъезжая к огороду, что все к лучшему, но вдруг увидел Машу… Душа его стеснилась и ощутила такой стыд, что он хотел было ей самой тотчас покаяться в своем гадком поступке. Присутствие Антона удержало его; дальше мы знаем, что было.
Между тем Иван Павлович, проводив соперника, вернулся домой, и Маша тут же излила всю свою досаду на человечество, на Антона, на салапихинских, даже на отца, который, по наговорам садовника, успел ее побранить. Васильков понял, что он любовью и предварительными прогулками с наблюдательной целью умудрился компрометировать ее гораздо больше, нежели Непреклонный всем своим лживым пафосом. Кой-как добился он до того, что навел улыбку ей на лицо.
VII
После всего этого Василькову надо было сообразить внимательно следующее:
Он компрометировал Машу. Компрометировать женщину, которая многим нравится, повредить на минуту ее доброй славе, когда имеешь в руках возможность все поправить одним только словом – дело лестное для новичка, как бы деликатен он ни был!
И наш мыслитель немного гордился, чувствуя свою силу. Что удерживало его от последнего решения? Ведь оно не раз уже уяснялось для него; не раз видел он, что Маша может быть его женою. Маша добра и редкого природного ума девушка.
«Разве я не в силах – думал молодой человек, – развить ее и довершить начатое природой? Разве я не могу слить в себе учителя с мужем? Кто потребует у меня отчета? Я один на свете… Мне обещали на будущий год место: жалованья будет довольно при таком счастье… Да, это счастье (продолжал он), счастье высокое – следить за первыми проблесками просвещения в таком милом создании… Притом же, если расчесть даже эгоистически, чего мне бояться? Она добра и привязчива; она будет всю жизнь благодарна мне за то, что я ей доставлю…»
И не раз, однако, такое решение умирало в нем от неуверенности в одном – в нравственности Маши.
Но последние происшествия совсем покорили его; врожденная осмотрительность замолчала, и Васильков положил крайним сроком завтрашний день для окончательных переговоров.
Вечером, запершись у себя, он долго писал, потом усердно помолился Богу и спокойно заснул.
Маша шила, сидя на пороге и, думая обо всем случившемся, сохраняла еще некоторую суровость в выражении лица. Иван Павлович начал с того, что заметил ей насчет этой суровости.
– Да ей-Богу, досадно, – возразила Маша, – ну, что я их трогала, что ли?.. Пристали, зачем с вами гуляю… насочинили Бог знает что… Вот уж гадкий какой народ здесь! так и норовят сочинить про человека или выдумать еще что-нибудь… Я думаю, теперь салапихинская прикащица рада как! Господи!.. Этой только скажи: она уж задаст…
– Да что вам до этого?
– Вам легко, Иван Павлыч!
– Позвольте, это вы напрасно думаете, что мне легко. Мне, может быть, труднее вашего слышать, как про вас злословят… Мне это очень, очень больно. Я говорю только, нельзя ли как-нибудь это поправить; напрасно вы уж слишком близко к сердцу принимаете…
– Я и поправлять ничего не хочу. Бог с ними совсем, пущай себе говорят!.. Я еще и вниманья своего не хочу обращать…
Васильков улыбнулся.
– Ну, вот, так-то лучше. Однако я пришел спросить у вас кой о чем поважнее…
Маша поглядела на него уже развеселившимся лицом и ждала.
– Марья Михайловна… Маша! – начал Васильков, невольно опуская глаза, – если о я за вас посватался, дошли бы вы за меня?
Маша вся вспыхнула и не отвечала.
– Пожалуйста, не спешите отвечать, совсем не нужно. Подумайте и скажите мне откровенно, хоть завтра, я буду ждать; мне это ничего.
Маша опять не сказала ни слова, но только поднялась с места, хотела идти и вдруг, закрывшись фартуком, заплакала.
Васильков вскочил быстро и начал отводить руки ее от лица, приговаривая:
– Маша, о чем вы плачете? Полноте; неужто я вас обидел? Марья Михайловна!.. Маша!..
Маша грустно покачала головой и отняла фартук от глаз.
– Вот уж, можно сказать, я несчастная. Ну, да пускай Божья воля надо мной исполняется! Он дал – Он и возьмет.
– Да что с вами?
– Как что со мной, и вам не грех надо мной смеяться?.. Разве затем я вам все свои таинства и секреты открывала, чтоб вы надо мной насмешничали? Грех вам такими вещами шутить, Иван Павлыч! Я хоть и простая, дypa даже какая-нибудь, может быть, а все-таки я знаю, чегo один человек супротив другого стоит. Я знаю, что я от вас насмешек не заслужила; тут и без того отец бранится, в селе Бог знает что говорят… думала с вами душу отвести, а вы…
– Да что вы? что вы? Я нисколько не шутил, я говорю очень серьезно. Садитесь, послушайте, я уже давно хотел вам это сказать, но, сами согласитесь, нельзя же вдруг, не обдумав ничего. Еще как только я приехал, вы мне понравились вашей наружностью, а после я стал наблюдать за вами, увидал, что у вас доброе сердце, что вы умная девушка. Всего не расскажешь, что я передумал… Одним словом, я решился жениться на вас, если вы согласитесь; батюшка ваш, я полагаю, согласится.
– Если б… – сказала Маша, засмеявшись; потом задумалась так, что даже темные глаза ее немного скосились, уставившись на камень, который, в забытьи, она катала перед собой концом ноги.
Васильков с нетерпением ждал ее ответа. Как ни был он скромен, все-таки не мог ожидать ничего, кроме согласия и притом довольно радостного. Здравого смысла у него доставало настолько, чтоб Маша не упала в его глазах, если б выразила свое согласие с непритворным удовольствием. Надо иметь очень избалованное сердце, чтоб уважать и любить только отталкивающих нас женщин…
– Очень вами благодарна, – начала наконец Маша, – то есть даже так благодарна, как я вам даже не могу и сказать, потому что я знаю, что вы добрую душу имеете и любите меня ужасно. Только вот что… (тут она опустила глаза и покраснела) вы теперь это так говорите…
– Вы полагаете, что я способен вас обмануть? – с негодованием воскликнул учитель.
– Нет-с, не то; а то, что вы после жалеть будете. Все равно, как наша сестра влюбится, согласится на все, что угодно, а после и плачется на свою долю. Вы можете завсегда взять за себя богатую, добрую…
– Помилуйте, ведь я вас люблю!..
– Я знаю, Иван Павлыч, что вы меня любите теперь… только я боюсь…
– О, нет, нет! Будьте уверены, Маша, что это плод глубокого размышления… то есть, я долго, Маша, об этом думал. Я знаю, что я делаю; я вас прошу, ради Бога, не противоречьте мне больше; скажите, что вы согласны, что вы верите моей вечной, вечной любви…
– Верю, верю!
– Вы согласны?
– Согласна…
– Благодарю, благодарю вас, Маша! Я пойду к вашему батюшке.
Васильков поспешил встать; но Маша, к которой в эту минуту вдруг вернулась ее ребячливость, схватила его за пальто, говоря:
– Ах, нет, постойте, не ходите, постойте, постойте… я вам что-нибудь скажу.
– Что такое?
– Не ходите. Зачем теперь рассказывать? Я лучше после сама… а то будут смеяться.
– Перестаньте, Маша, шалить, пустите. Я хочу поскорее кончить дело.
Маша выпустила из руки пальто, засмеялась и закрыла лицо руками.
– Господи, что это за смех! Ни с того, ни с сего невеста; просто все смеяться будут.
Но Васильков летел к отцу.
Михайла после этого вдруг закурил сигару, забежал на минуту к Алене, пожурил ее за недоверие к Василькову, сказал, что он даром никогда ничего себе не предвещает, и еще раз сообщил ей, что пронырства у него не оберешься (все это он говорил, почти не изменяясь в лице), запрег лошадь и загремел в село.
Когда вечером стадо вернулось с поля, Алена вынесла на двор подойник и, сев на скамейку, сказала мужу:
– Степаша, а Степаша!
– Ну что? – спросил тот, почесывая под ложечкой.
– Маша-то в гору пошла: учитель берет за себя.
– Ну, врешь!..
– Ну, врешь! – передразнила жена. – Ты вот только врешь да брешешь, а я говорю дело: ей-Богу, женится.
– Ишь ты! – воскликнул Степан хладнокровно; потом, обратясь к пегой корове, которая слишком близко замычала около него, и, закричав на нее со злобой: «ну, ты живоот!», попер ее очень сильно собственным боком.
Вечером пришла записка от Непреклонного. Иван Павлович читал ее Маше, объясняя темные для нее места (он уже успел описать ей проделку Дмитрия Александровича, убеждая ее не сердиться за прошлое, которое никакого вреда теперь принести не может):
«Прежде всего – простите! Простите, если, увлеченный пылким темпераментом, я хотел увлечь в сети ту женщину, которая была вашим идеалом. Верьте, Иван Павлович, что маска легкомыслия, которую я надеваю при женщинах – только маска: под нею таится родник души моей, никому не известный. Я бы рассказал вам всю мою жизнь, всю исповедь мою, но, зная доброту вашу, боюсь, чтоб грустный рассказ мой не расстроил вас в такие радостные дни, какие, вероятно, вас ждут. Вы теперь покойны насчет ее, и я, чтоб еще более утвердить вас в ваших убеждениях, повторю, что все сказанное мною под ракитами, была ложь и заранее придуманная уловка, чтоб удалить соперника, в котором я не подозревал таких благородных намерений… Я ничего не говорю о данном вами слове: вы вполне были бы правы, если б в самом деле нарушили его… Дай Бог вам счастья с нею, Иван Павлович. И если когда-нибудь будет такая деревенька, как вы мечтаете, и в ней Маша с дорогим для сердца потомством, вспомните когда-нибудь, гуляя прекрасным вечером, о том грустном товарище, который, полюбив вас с первого раза, часто, однако ж, волновал вашу душу ревностью. Прощайте, прощайте, дорогой мой Иван Павлович. Не забывайте меня; а я снова повлеку мои печальные дни с отчаяньем в душе и легкой насмешкой на лице… Надо иметь волю… Поцалуйте Машу и скажите ей, что я нисколько не желал ей зла…
Ваш Непреклонный.
P. S. Если у вас родится сын, назовите его Дмитрием. Еще раз прощайте».
Под влиянием угрызений совести и некоторой степени самоуничижения, явившегося за ними, Дмитрий Александрович написал все это с искренним чувством теплоты, как бы умоляя сам себя о пощаде не без достоинства.
Васильков был глубоко тронут письмом.
«Бедный Непреклонный! – подумал он, – в самом деле он, может быть, много страдал и немудрено, что решился на все смотреть так легко… Самая бледность лица его говорит, что он много жил».
И, задумчиво вздохнув, учитель обрадовался, что заря его собственной жизни была так чиста и спокойна, как бывает чиста заря на небе в утра красных июньских дней.
– Что ж это он прощается? – спросила Маша, прослушав письмо, – разве он едет в Москву? У них еще хлеб не убрали…
Через неделю Иван Павлович уехал в город и, обделав там кой-какие дела, вернулся в конце августа, на 28[-й] день. Маша только что проснулась; жмурясь от солнца и с неописанной веселостью на лице вышла она под ракитки навстречу молодому учителю и, обняв его, сказала:
– Здравствуйте, милый вы мой голубчик… Здравствуйте, голубчик вы мой…
– Ах, Маша, Маша!.. – сумел только сказать Иван Павлович…
– Вы, верно, устали, голубчик мой; пойдемте. Я вас чайком напою… Батюшка в селе… Я одна здесь гуляю…
Васильков молча глядел на нее.
– Пойдемте, – сказала Маша, сияя радостью. – Будет стоять… сам устал небойсь! А я думала, что вы и не вернетесь; вчера даже как всплакнулось… Ей-Богу, думала, что вы только так посмеялись…
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































