Текст книги "Андрей Белый. Новаторское творчество и личные катастрофы знаменитого поэта и писателя-символиста"
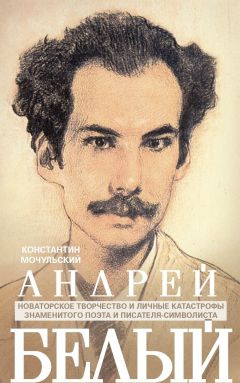
Автор книги: Константин Мочульский
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 17 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Белый в 1905 году
А. Белый приехал в Петербург в исторический день 9 января 1905 года – день расстрела рабочих на Дворцовой площади. Он отправился к Мережковским, в дом Мурузи, на углу Пантелеймоновской и Литейной. З.Н. Гиппиус встречает его фразой: «Ну и выбрали день для приезда». Много раз в своих мемуарах Белый возвращается к описанию ее наружности – все портреты очень похожи, но самое важное, неповторимое, в них не уловлено. Вот, свернувшись комочком, в белом своем балахоне, лежит она на диване: ее пышные золотисто-рыжие волосы освещены красным огнем камина: огромные лазурно-зеленые глаза, красные орхидейные губы, осиная талия, тонкая рука, держащая лорнетку, четки с черным крестом на шее; а рядом на столике – красная лакированная коробка с надушенными папиросами; все это создавало вокруг Гиппиус особую, изысканную «оранжерейную» атмосферу. Она ложилась на рассвете и вставала к трем часам дня: в самые лютые морозы спала при открытом окне и иногда просыпалась со снегом в волосах; говорила, что она туберкулезная и иначе жить не может. Встав, принимала горячую ванну и, после завтрака, забиралась с ногами на диван перед камином, там безвыходно проводила свои дни.
В «Начале века» Белый подчеркивает двойственный облик Гиппиус: она – и модная поэтесса, и «робеющая гимназистка». Вот она в первом аспекте:
«Из качалки сверкало: З. Гиппиус точно оса в человеческий рост: ком вспученных красных волос (коль распустит до пят) укрывал очень маленькое и кривое какое-то личико; пудра и блеск от лорнетки, в которую вставила зеленоватый глаз; перебирала граненые бусы, уставясь на меня; с лобика, точно сияющий глаз, свисал камень на черной подвеске; с безгрудой груди тарахтел черный крест: и ударила блесками пряжка с ботиночки: нога на ногу; шлейф белого платья в обтяжку закинула».
А рядом с этим шаржем на «декадентскую львицу» – другой ее аспект:
«В черной юбке и в простенькой кофточке (белая с черною клеткою), с крестом, скромно спрятанным в черное ожерелье… сидела просто; и розовый цвет лица выступал на щеках; улыбалась живо, стараясь понравиться… Позднее, разглядевши Зинаиду Николаевну, постоянно наталкивался на этот другой ее облик – облик робевшей гимназистки… В ее чтении звучала интимность; читала же тихо, чуть-чуть нараспев, закрывая ресницы и не подавая, как Брюсов, метафор нам, наоборот, – уводя их вглубь сердца, как бы заставляя следовать в тихую келью свою, где задумчиво-строго».
По воскресеньям у Мережковских собирались к чаю друзья. Белый познакомился здесь с сотрудником «Мира искусства» и другом Дягилева В.Ф. Нувелем; с поэтом-философом Н. Минским, со студентом-сотрудником «Нового пути» А.А. Смирновым[14]14
Впоследствии профессором по кафедре романской филологии в Петербургском университете.
[Закрыть]. Д.С. Мережковский – маленький, худой, с матово-бледным лицом, впалыми щеками, большим носом и выпуклыми туманными глазами – выходил на минуту из своего кабинета, неожиданно громким голосом выкрикивал свои афоризмы и исчезал. Белый сразу же понял, что он вовсе не слышит того, что ему говорят. Когда изречения Дмитрия Сергеевича оказывались слишком невпопад, Зинаида Николаевна говорила ему капризно: «Димитрий, да не туда же ты!»
Вечером того же дня Белый сопровождает Мережковских на собрание представителей интеллигенции в Вольном экономическом обществе. Здесь была взволнованная толпа, обсуждение событий, споры, резолюции, призывы к борьбе. Зинаида Николаевна в черном атласном платье забралась на стул и, улыбаясь, разглядывала заседавших в лорнетку. Белый увидел Горького и рядом с ним какого-то бритого и бледного человека, призывавшего к оружию. Впоследствии он узнал, что это был знаменитый провокатор Гапон.
Поэт поселился у Мережковских: между ним и Зинаидой Николаевной возникла настоящая дружба. До поздней ночи, стоя у жаркого камина, говорили они о церкви, троичности, о плоти. Дмитрий Сергеевич стучал в стену и кричал: «Зина, ужас это! Да отпусти же ты Борю! Четыре часа! Вы мне спать не даете!»
Белый подружился также и с сестрой Гиппиус – художницей Татьяной Николаевной («Татой»), у которой был альбом-дневник: в него она зарисовывала свои сны, фантазии, образы и записывала мысли. Вторая сестра, тоже жившая в квартире Мережковских, Наталья Николаевна («Ната») – голубоглазая, бледная и молчаливая, вырезывала статуэтки; жила она в одиночестве и казалась послушницей.
Ежедневно, к вечернему чаю, появлялся ближайший друг Мережковских, критик Дмитрий Владимирович Философов. «Изящный, выбритый, с безукоризненно четким пробором прилизанных светло-русых волос, в синем галстуке, с округленным, надменным, всегда чисто выбритым подбородком и с малыми усиками, он переступал с папиросой по мягким коврам очень маленькими ногами, не соответствующими высокому, очень высокому росту». Его доброта, честность и бескорыстность сочетались со строгим видом «экзаменатора». Белый остроумно называет Философова «доброй тетушкой, старой девой, экономкой идейного инвентаря Мережковского». Он вывозил Дмитрия Сергеевича в «свет» широкой общественности, защищал в печати его идеи, пропуская их через свою цензуру.
Часто в салон Мережковского стремительно влетал Антон Владимирович Карташев, профессор Духовной академии, тонкий, изможденный, с острым носом и порывистыми движениями; закрыв глаза и нервно потрясая головой, он произносил свои блестящие импровизации. «Антон Владимирович, – пишет Белый, – мне казался всегда замечательным человеком, шипучим, талантливым (до гениальности), брызжущим вечно идеями: Мережковскому был он нужен, динамизируя его мысли… В то время в нем было естественным сочетание революционно настроенного интеллигента со старинною благолепной традицией. Златоуст переплетался в нем с Писаревым».
Однажды Белый читал в его присутствии реферат; Карташев приставил два указательных пальца к вискам в виде рогов и южнорусским своим тенорком запел: «Да, да, да, да! Тут показывали нам – хвостатых, рогатых! Но мы на них не согласны». Страстный и стремительный, он нарушал гармонию коммуны: между ним и Зинаидой Николаевной шла постоянная тяжба. После очередной ссоры Антон Владимирович вылетал из квартиры, хлопнув дверью. Мережковский и Философов выступали примирителями.
За время пребывания у Мережковских Белый познакомился со многими замечательными людьми. В доме Мурузи, в краснокирпичной гостиной, пропитанной запахом туберозы «Lubain», которой душилась Гиппиус, бывали все представители петербургской интеллигенции: В.В. Розанов, С.Н. Булгаков, А.С. Волжский, Н.А. Бердяев, Ф.К. Сологуб, Р.А. Тернавцев, П.П. Перцов, Г.И. Чулков, Н. Минский, С. Андриевский.
«Религиозная общественность», в которую с увлечением погрузился Белый в Петербурге, уводила его от Блока. Но под конец «идейные радения» в салоне Гиппиус, литературные воскресения у Сологуба и Розанова, собрания у Минского и заседания в редакции «Вопросов жизни» утомили его. Он уходил отдыхать к Блоку.
Так жил Белый в Петербурге – двойной жизнью. От Блоков бежал к Мережковским, от Мережковских к Блокам; у первых была абстрактная общественность, со вторыми личное общение. Зинаида Николаевна ревновала, упрекала в измене и называла беседы с Блоком «завыванием в пустоте». «О чем же вы там все молчите? – спрашивала она Белого. – Я знаю уж… где-то, да что-то, да кто-то… Ах, это старо, просто это радения, декадентщина».
Наконец Белый собрался уезжать; Александр Александрович и Любовь Дмитриевна провожали его на вокзал. Условлено было летом встретиться в Шахматове.
В 1905 году прекратилось существование журнала Мережковских «Новый путь». Вместо него возник ежемесячник «Вопросы жизни». Об этом литературном событии рассказывает в своих воспоминаниях Г. Чулков[15]15
Чулков Г. Годы странствий. М.: Федерация, 1930.
[Закрыть].
Кризис «Нового пути» начался уже в 1904 году. Георгий Иванович Чулков, поэт и критик, сосланный в Сибирь по делу «об организации политической демонстрации в городе Москве в феврале месяце 1902 года», после помилования вернулся в Петербург и издал свой первый сборник стихов «Кремнистый путь» (1904). З.Н. Гиппиус обратила на него внимание и поручила Поликсене Соловьевой написать о нем рецензию в «Новом пути». Чулков отправился к Мережковским знакомиться; рассказывал Зинаиде Николаевне о жизни в Сибири. Та позвала Дмитрия Сергеевича: «Иди скорей. Тут у меня сидит рево-люцио-нер. Он тут очень интересные сказки рассказывает». Стали говорить о «Новом пути». Чулков резко его критиковал. И вдруг Мережковский заявил: «Я вас приглашаю принять на себя обязанности секретаря нашего журнала. Вы будете нашим ближайшим сотрудником. Да, предлагаю… Дело в том, что те политические тенденции, какие иногда сказываются в нашем журнале, нам самим опостылели. Журнал надо очистить от этого полуславянофильского-полуреакционного наследия… Мы вам предоставим право вето».
Мережковские уехали за границу, оставив журнал на руках Чулкова. Официальный редактор Философов не проявлял никакой энергии. Угнетала двойная цензура – духовная и гражданская. Газеты продолжали травить, подписка уменьшалась. Когда Мережковские вернулись в Петербург, возник план привлечения к журналу группы «философов-идеалистов». Чулков поехал в Кореиз для переговоров с Булгаковым. Соглашение состоялось: в «Новый путь» вошли «идеалисты» – С.Н. Булгаков, Н.А. Бердяев, Н.О. Лосский, Франк, Новгородцев. Последние три книжки за 1904 год вышли уже при расширенной редакции. Но «философам» было трудно ужиться с новопутейцами, которые подозревались в декадентстве, эстетстве и аморальности. Это переходное время кончилось разрывом Чулкова с Мережковскими: он отказался напечатать какую-то статью Гиппиус; Мережковские поставили ультиматум: или они, или Чулков. Телеграммой был вызван в Петербург С.Н. Булгаков. На редакционном собрании большинство заявило, что продолжать журнал без Чулкова нельзя. И «Новый путь», после двухлетнего существования, прекратился. Но у Н.О. Лосского было разрешение на журнал под названием «Вопросы жизни». Д.Е. Жуковский достал деньги. Первая книжка нового ежемесячника появилась в январе 1905 года под редакцией Н.А. Бердяева и С.Н. Булгакова. После 9 января началась свирепая реакция. «Хроника внутренней жизни» Г. Чулкова, посвященная рабочему движению, не была напечатана по не зависящим от редакции обстоятельствам.
Белый бывал в редакции «Вопросов жизни» в бурные революционные дни; там постоянно толпился народ; стоял гул голосов; подписывались протестные петиции, сочинялись обращения, заявления. Чулков, бледный, тощий, лохматый, обросший бородой, с кем-то спорил, кого-то уговаривал; С.Н. Булгаков мягким жестом вносил примирение. Белый изображает его: «Булгаков с плечами покатыми, среднего роста, с тенденцией гнуться, яркий, свежий, ядреный, – румянец на белом лице; нос прямой; губы тонко-пунцовые, глаза как вишни; борода густая, чуть вьющаяся. Что-то в нем от черники и вишни… Мягкостью был он приятен весьма; несло лесом, еловыми шишками, запахом смол, среди которых построена хижина схимника – воина, видом орловца, курянина… Стоический, чернобровый философ мне виделся в ельнике плотничающим: он мне импонировал жизненностью и здоровьем.
…К нему подбегает с растерянным видом рыжеватенький, маленький, лысый в очках Н.О. Лосский. Булгаков наставится ухом на Лосского; отвечает с сдержанным пылом, рукой, как отрезывая; и чувствуется воля, упорство… Резок… одернув себя, конфузится, смолкнет, усядется, гладит бородку…»
Появляется С. Волжский, «кудлатый, очкастый, сквозной, нервно-туберкулезный, в очках золотых; потрясает своею бородищей над вислою грудью и лесом волос на сутулых плечах».
С ироническими зарисовками Белого любопытно сравнить юмористический рассказ Блока о его первом посещении редакции «Вопросов жизни». «После обеда, – пишет он матери 29 августа 1905 года, – я пошел в редакцию, на Седьмой Рождественской (надо сказать, что Достоевский воскресает в городе). Нашел и лез на лестницу, и услыхал из-за одной двери крик: „Мистический богоборец!“ Почти по этому и догадался, что кричат „Вопросы жизни“. Квартира их оказалась темной и маленькой; в ожидании электричества, при свечах в бутылках сидели в конторе Булгаков, Чулков и Жуковский, и Булгаков высмеивал Жуковского, крича: „мистический богоборец!“ Потом Булгаков взял у Чулкова галстук и, хохоча, увел Жуковского к Вяч. Иванову. Мы же с Чулковым и сестрой Чулкова стали пить чай при тех же свечах и бутылках. Тут-то, в устах Достоевского, и узнал я сбивчиво, что „В. Ж.“, может быть, совсем прекратятся, что у Жуковского нет денег и что идеалисты очень против меня… Чулков по-прежнему меня очень признает и строит планы (с Бердяевым) о новом журнале и т. п. Ни слова о получении денег, „следуемых мне“, не было произнесено, а уж тем более о новых рецензиях. Так мы и проговорили, а когда я вознамерился спросить о деньгах (уже в пальто в передней), вернулся Булгаков и отнесся ко мне со свойственным ему размягчающим добродушием (будто бы все хочет со мной поговорить, и никак не удается… и не зайду ли я и т. д.). Таким образом выяснилось, что я в „В. Ж.“ писать не буду, да и денег, может быть (вероятно), больше не получу».
Опасения Блока оправдались: с августа сотрудничество его в «Вопросах жизни» прекратилось; журнал с трудом просуществовал до конца 1905 года.
Шутливую памятку о редакции «Вопросов жизни» находим в «Огненной России» А.М. Ремизова. Он пишет, обращаясь к Блоку: «1905 год. Редакция „Вопросов жизни“ в Саперном переулке. Я на должности не канцеляриста, а домового: все хозяйство у меня в книгах за подписями (сам подписывал!) и печатью хозяина моего Д.Е. Жуковского. Помните, „высокопоставленные лица“ обижались, когда под деловыми письмами я подписывался: „старый дворецкий Алексей“. Марья Алексеевна, младшая конторщица, усумнилась в вашей настоящей фамилии – „Блок? Псевдоним?“
И когда вы пришли в редакцию – еще в студенческой форме с синим воротником, первое, что я передал вам, это о вашем псевдониме».
Вернувшись из Петербурга в Москву, Белый снова попал в безвыходный круг персонажей «Огненного ангела». О несчастной Ренате – Нине Петровской он успел уже забыть, но Рупрехт – Брюсов продолжал мстить графу Генриху – Белому. В эту зиму «маг» пребывал в особенно возбужденном и мрачном состоянии. Он искал ссоры с Белым: однажды явился к нему, швырнул на стол его корректуры и стал поносить Мережковского. Белый написал ему письмо, в котором заявлял, что не может придавать значения его словам, так как он «известный сплетник». В ответ Брюсов прислал ему вызов на дуэль. Секуданты – Эллис и С. Соловьев – дело уладили. С тех пор до 1909 года, работая вместе в «Весах», поэты часто встречались и на людях беседовали вполне дружелюбно: но, когда оставались вдвоем, наступало тяжелое молчание: оба опускали глаза: тень одержимой Ренаты стояла между ними.
В этом году Белый часто встречался с меценаткой Маргаритой Кирилловной Морозовой, в особняке которой на Смоленском бульваре собирались и общественные деятели, и религиозные философы, и поэты-символисты. Ученица Скрябина и друг князя Евгения Николаевича Трубецкого, она имела дар объединять самых несоединимых людей, говорить о конституции с Милюковым и князем Львовым, о мистических зорях с Белым и о философии Вл. Соловьева с Лопатиным и князем Сергеем Трубецким. Ей принадлежала заслуга создания тона необыкновенной «культурной вежливости» между профессорами и символистами. В ее салоне Мережковский и Белый читали лекции; бывали у нее Рачинский, Булгаков, Эрн, Фортунатов, Кизеветтер, Э.К. Метнер, Бальмонт.
Белый пишет в «Начале века»: «Уютная белая комната, устланная мягким серым ковром, куда мягко выходит из спальни большая, большая, сияющая улыбкой Морозова; мягко садится: большая на низенький малый диванчик; несут чайный столик, к ногам; разговор обо всем и ни о чем; в разговоре высказывала она личную доброту, мягкость… У нее были ослепительные глаза, с отблеском то сапфира, то изумруда».
В том же 1905 году создавалось Московское религиозно-философское общество; собрания происходили в Зачатьевском переулке – бывало до двухсот человек: студенты, социалисты-революционеры, священники, сектанты, эстеты, марксисты. Москва кипела; интеллигенция была настроена радикально. Свенцицкий основывал «христианское братство борьбы», соединявшее церковь и революцию.
В мае С. Соловьев зовет Белого к себе в Дедово, и в июне они вдвоем отправляются в Шахматово. Поэт сразу чувствует, что и Блок, и его жена изменились. Александр Александрович мрачен, часами просиживает один в лесу. Любовь Дмитриевна запирается у себя. Всем сразу стало ясно, что «мистический треугольник» распался. Встреча друзей кончилась драматически. В один вечер С. Соловьев ушел гулять и пропал на всю ночь. На следующий день он явился и рассказал, что заблудился, попал в имение Менделеевых Боблово и там переночевал. Мать Блока наговорила «Сереже» много резких слов. Он уехал из Шахматова оскорбленный. Это происшествие было началом разрыва Блока с его троюродным братом. Соловьев, Белый и Блок обменялись несколькими холодными письмами. Потом Любовь Дмитриевна объявила Белому, что переписка между ними прекращается; тот ответил, что прерывает отношения с ней и Александром Александровичем.
Вернувшись в Москву, Белый с привычным для него исступлением отдавался новой страсти: революции. Митинговал в университете, кричал в толпе перед Думой, отсиживался в университетском дворе, оцепленном казаками, прятался от выстрелов в кофейне Филиппова. В эти дни он был меньшевик, С. Соловьев – эсэр, Эллис – марксист, Л. Семенов – анархист.
На концерте Олениной-д’Альгейм Белый познакомился с худощавой дамой с полуседыми подстриженными волосами и пристальными глазами. Это была Софья Николаевна Тургенева, урожденная Бакунина. Она представила его своим дочерям – Наташе и Асе – девочкам шестнадцати и пятнадцати лет, прозванным «ангелята». Поэта поразили миндалевидные безбровые глаза Аси и ее «джокондовская» улыбка. Это была первая встреча Белого с его будущей женой Асей Тургеневой.
Разрыв с Блоком угнетает Белого: он внезапно приезжает в Петербург и назначает ему свидание в ресторане Палкина. Происходит радостное примирение: и Александр Александрович, и Любовь Дмитриевна готовы забыть о происшедшем между ними «недоразумении». Белый счастлив: его безумному воображению представляется, что Любовь Дмитриевна догадалась о его любви к ней и принимает ее благосклонно; что Александр Александрович, жертвуя собою, отказывается для него от своей «Прекрасной Дамы». Он верит, что они объяснились без слов и что у всех троих начинается новая жизнь.
Он проводит в Петербурге два счастливых месяца в долгих общениях с Блоками. В душе его безоблачная лазурь. Внезапные приливы восторга ставят его иногда в неловкое положение. Однажды у Мережковских он устраивает «сплошной кавардак»: сначала, взявшись за руки с Т.Н. Гиппиус, кружится с ней по комнате, а потом вертится, как дервиш, в кабинете Мережковского, опрокидывает столик и ломает у него ножку. Дмитрий Сергеевич решает, что это – радение, и испуганно увещевает: «Да бросьте же, Боря, – безумие!»
З.Н. Гиппиус принимает влюбленного под свою защиту и делается его конфиденткой. Она уверяет Белого, что он поступает правильно, что Любовь Дмитриевна и он созданы друг для друга. За это петербургское пребывание Белый близко подошел к Вяч. Иванову, на «Башне» которого начинались знаменитые среды, и познакомил его с Блоком. В то время Вяч. Иванов проповедовал новый театр мистерий, дионисические таинства, воплощенные в жизни. Блок думал о художественной игре с жизнью, Любовь Дмитриевна мечтала о сцене. Устремления их были созвучны, и Вяч. Иванов очаровал Блоков. Решили создать группу – полустудию-полуобщину: в нее входили Вяч. Иванов, Блок, Белый и Г. Чулков. Из этого литературного коллектива возникли впоследствии издательства «Факелы» и «Оры».
В конце года Белый уезжает в Москву. Блок говорит ему на прощание: «Переезжай насовсем к нам сюда», а Любовь Дмитриевна прибавляет: «Скорей приезжайте: нам будет всем весело». Никаких объяснений между ним и Любовью Дмитриевной не было. Но он уезжал торжествующий, уверенный, что она любит только его.
Конец года ознаменовался для Белого «громовой» перепиской с Мережковским, вознегодовавшим на его статьи в «Весах»: «Отцы и дети русского символизма» и «Ибсен и Достоевский». Белый решительно сворачивал с религиозных путей Мережковского и отрекался от своего «соловьевского» прошлого. Он призывал к «трезвости и научности». В первой статье, воздав хвалу «отцам русского символизма» – Волынскому, Розанову, Мережковскому и Минскому, – «дорогим, незабвенным именам» и отметив большое значение Достоевского в истории русского религиозного возрождения, автор довольно прозрачно намекал на то, что «отцов» давно пора сдать в архив. Заключает он статью словами: «Не отказываясь от религии (?!), мы призываем с путей безумий к холодной ясности искусства, к гистологии науки и серьезной, как музыка Баха, строгости теории познания».
Этим заявлением заканчивается первый, «мистический» период Белого – критика и теоретика – и начинается второй период – «гносеологический».
Еще более заносчиво и вызывающе написана статья «Ибсен и Достоевский». Острие ее направлено прямо против Мережковского, автора книги «Толстой и Достоевский». Белый неумеренно превозносит Ибсена, «инженера и механика, строящего пути восхождения». Герои его – «целомудренны, ответственны, решительны, новаторы». «Голос Заратустры, – заявляет автор, – зовет теперь нас туда, на могилы Рубена и Брандта, этих суровых борцов освобождения». И Ибсену противоставляется Достоевский, который обвиняется во всех смертных грехах: у него «мещанство, трусливость и нечистота, выразившаяся в тяжести слога; бездны его поддельны, душа – глубоко не музыкальна, он безвкусный политиканствующий мистик». С удивительной развязностью автор заявляет: «Много мы слышали обещаний в кабачках, где мистики братались с полицейскими, где участок не раз выдавали за вечность, хотя бы в образе „бани с пауками“».
И патетическое заключение:
«Не пора ли нам проститься с такой широтой, подобраться, сузиться и идти по горному пути, где стоит одинокий образ Генриха Ибсена».
Итак, холодная ясность, серьезность, научность, подобранность, ответственность – вот что теперь проповедует Белый. Проповедует то, чего ему самому более всего недостает, что для его хаотической, стихийной натуры – более всего недостижимо. Мережковский не выдержал и, как выражается Белый, «разразился львиным рыком». Он собственноручно (обыкновенно с Белым переписывалась З.Н. Гиппиус) написал ему грозное письмо, обвиняя в «предательстве».
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































