Текст книги "Романтики"
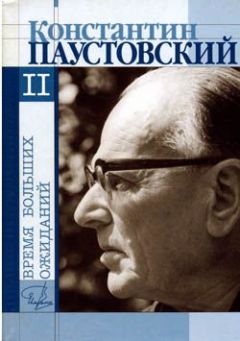
Автор книги: Константин Паустовский
Жанр: Классическая проза, Классика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 14 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
Смерть Оскара
Утром ко мне пришел Сташевский: умер старый Оскар.
Старику не везло – незадолго до смерти он потерял в трамвае единственную партитуру своей оперы. Он был потрясен и пил запоем несколько дней.
Мы пошли к Оскару. На сырой лестнице было темно и пахло мышами. Желтели стены, выкрашенные масляной краской, захватанные грязными пальцами.
В квартире стоял запах уксуса и нашатырного спирта. В передней на подзеркальнике спал жирный кот.
Оскар лежал на письменном столе в вицмундире, с новеньким орденом на груди. Лицо у него пожелтело, лишилось той нервности, что делала его привлекательным при жизни. Горели три свечи. Я взглянул на их желтые язычки и вспомнил почему-то вокзалы поздней ночью, когда пассажиры спят на темных скамьях и диванах, а за широкими окнами наливается сизая холодная заря.
Сташевский, бледный, с перекошенным лицом, долго смотрел на Оскара, и брезгливая усмешка подергивала его губы.
– Да, брат ты мой, – сказал он медленно. – Не люблю эти сентиментальные таланты. Слякоть!
На стене висели портреты Бетховена, Грига, Моцарта, Баха.
Мы принесли цветы. Белые и упругие, лежали они около рук Оскара, пергаментных и сухих. Только теперь я заметил, какие это были тонкие руки.
Было слышно, как на кухне кто-то выговаривал кухарке. Болела голова, ломило в висках, и хотелось поскорее уйти. Сташевский подошел к окну, перелистал пыльные ноты, посмотрел на портрет Баха на выгоревших обоях. Мы поцеловали Оскара в большой выпуклый лоб и вышли.
Ветер сыпал в глаза пыль, шелуху подсолнухов и сено. Преследовал запах уксуса и сладковатый смрад тления.
– Пакость, – сказал Сташевский, помолчал и сплюнул. – Какая пакость!
Хоронили Оскара на следующий день. Все было буднично и бедно. За гробом шла жена в дешевом трауре, черный креп блестел на ее шляпе, как слюда, шел его брат – немец с веселыми глазами, старухи – любительницы похорон, гимназисты и факельщики в брюках с серебряными лампасами, в рыжих чудовищных сапогах. В стороне шли его ученики – Сташевский, Алексей, я и художник Винклер, тоненький, как девушка.
Сухощавый пастор, в элегантном пальто с бархатным воротником, раскрыл молитвенник и прочел по-немецки несколько длинных н скучных молитв. Пасмурное небо сулило дождь.
Битый кирпич стучал о крышку гроба.
Когда могилу засыпали, сразу стало легко.
– Ну что ж, – сказал Сташевский, – стоило жить, чтобы так умереть.
Родные ушли. Винклер написал на сосновом кресте синим карандашом:
Quid aeternis minorem
Consiliis animum fatigas?
Зачем вечными замыслами ты томишь слишком слабую душу?
Темнело. Город рокотал вдали трамваями, гудками пароходов, грохотом ломовых дрог – прекрасными звуками жизни.
Жучок
Комнаты, улицы и пустые дворы пахли осенней листвой, и море шумело, как далекая память.
Осенью нам повезло – у Алексея завелись деньги. Мы втроем – Алексей, Сташевский и я – решили пойти в море со знакомым «рыбалкой». Он был черен и худ, как портовый босяк. Звали его Жучок. Баркас его – одномачтовая байда – совсем обветшал, – просмоленный парус весь цветился заплатами.
Жучок жил на Кривой косе. Ехали к нему степью. На бахчах желтыми горами лежали перезревшие тыквы. Белая пыль дымила из-под копыт лошадей, над балками розовело ленивое солнце. Внизу лежало море, прозрачное, как расплавленное стекло.
Хата Жучка стояла на песке. В ней пахло мелом и хлебом. Тихое море шептало за плетеным тыном.
Жучок был бобыль. Поставили погнутый самоварчик. Дым уходил высоко в небо. Мы долго пили крепкий кирпичный чай. Оранжевый вечер дремал над песками. Далеко пели девушки старую песню:
Ой, в Ерусалиме рано зазвонили, —
Молода дывчина сына спородила.
В хате Жучка, среди бумажных пионов, икон и гравюр неуклюжих кораблей, мы долго обсуждали плаванье.
Решили идти па Малую россыпь, к плавучему маяку – брандвахте.
Жучка мы знали и уважали давно. На косе он слыл за дурачка. За глаза его звали обидным прозвищем «Забродня». Не любили его за молчаливость, за довольство малым, за то, что на «рыскливой» и старой байде он решался выходить на несколько дней в открытое море.
Была давняя вражда между «бережными» рыбалками, осторожными и богатыми, и теми беспутными, «рисковыми», которые выходили ловить на самую «глыбь». Много «рисковых» гибло каждую осень во время ловли белуги. Улов они продавали за гроши грекам-скупщикам и пропивали заработок в дощатых кабаках.
Жучок был рисковой.
В прошлом году на Илью неожиданно задула трамонтана, ветер мчался глубокими порывами, крутил воду и нес полосы черных дождей. Рыбаки стали спешно уходить домой. Шли густо, парус за парусом. Один баркас перевернуло. Все шли своим путем, только Жучок, рискуя потопить свою ветхую байду, как-то извернулся, подошел и подобрал людей. Возвратился он мокрый, посиневший, с трясущимися от холода руками. Развесил сети на тонях и поплелся домой, словно ничего не случилось, словно не спас двоих людей. Старые «бережные» рыбаки, морщинистые, с запеченными от солнца лицами и хитрыми глазами, еще долго говорили по косе:
– Дурной человек, бог его знает. Хоть бы по трешке с них взял.
С утра задула низовка. Море пенилось и шумело в красных берегах. Хлопали темные паруса. День, отлитый из желтого стекла, стоял над бахчами.
Шхуна клюнула осмоленным носом и тяжело пошла в море. Дождь брызг бил в лицо, высоко качались борта, плакали чайки, и громыхала по дну якорная цепь. Казалось, звенело все – и ветер, и чайки, и волны.
Я лежал на носу, на кубрике, вдыхал запах рыбы, шедший от бортов и сетей, и сознание дикой свободы наполняло меня. Я лежал, курил и ждал, когда солнце сядет в волнах и туманах там, далеко, у диких берегов Тавриды. Там – в вечерней мути – седая Керчь, обрывы Киммерии, поросшие чабрецом, одинокие маяки на песчаных побережьях, а дальше – в солнце и дыму – нарядные порты, яркие лица женщин, океанские пароходы, пестрые иностранные флаги, запах богатых земель и преддверье Архипелага.
– Кидай бакан! – закричал Жучок.
Черный флаг бакана замотался на волне. Далеко полетел ржавый якорь на мокрой цепи.
Быстро постукивая деревянными поплавками о полированный борт, бежала в воду черная сеть. В сером небе горел зеленый огонь плавучего маяка. Ужинали в трюме. Мы жадно ели слегка зачерствелый белый хлеб. С жареной рыбы капало масло, маслины жгли десны.
Я выглянул за борт, где в черной воде сжимался и разжимался огонь маяка, прислушался и сказал:
– Великая меланхолия моря.
Жучок покрутил головой и засмеялся:
– Чудно!
После ужина Жучок вытащил из каюты пыльный фонарь, зажег и повесил на мачту. Робкий свет мигнул в суровом небе.
Наползали тучи. Вода пошла чернью. Медленно гасли в ней белые зерна звезд. Шхуна дергалась на дребезжащей цепи. На борту ее белела корявая надпись: «Господи, храни в море плавающих».
Среди ночи я проснулся. Не было вокруг ни моря, ни неба, ни шхуны. Глухая тьма качалась над нами, и кровь внятно звенела в ушах. На носу мигал огонек папиросы. Жучок не спал.
Я пробрался к нему, закутался в пальто и лег рядом.
– Сколько времени? – спросил он сиплым голосом.
– Половина второго.
– Через час ломать будем. Как только зачнет сереть.
Мигнул маяк, и шхуна качнулась на черных цепях.
– Недужный я стал, должно к старости, – негромко пожаловался Жучок. – Грудь заложило. Всю ночь не спится, куришь, свою думку думаешь… Люди про меня брешут – штундист, духобор, Евангелие читает. Евангелие у меня древнейшее. Тут по степу один человек ходил – ни монах, ни странник, – не поймешь, что он такое. Он мне Евангелие продал. Да… Прочел я в нагорной проповеди: «Блаженны нищие духом; ибо ваше есть царствие божие». А где оно? На море, вот где. Иной раз задумаешься – есть ли оно, царствие небесное, райский край? А как глянешь на море, небо над ним ясное, воздух легкий, – думаешь, есть. А может, есть еще и получше моря. Царствие божие далеко, а бога, брат, не видать… Матрос один на косу воротился из флота, – на бога, говорит, рыбачки, теперь не надейтесь, бог теперь в пенсне, вроде, говорит, как профессор, боится руки об вас замарать.
– Да, – сказал Жучок и сплюнул. – Рассказывают всякое. Брала меня раньше злоба на людей: что они из себя сделали – смотреть страшно. Живу я по-своему. Думок много. Боюсь, до смерти всего не передумаешь. А на людей сердиться – пустое дело, себя только портить.
К полудню сорвался ветер. Маяк закрыло холстом дождя. С плеском и гулом проносились шквалы. Мы натянули рваные клеенчатые плащи. Шли по ветру в соседний порт, – домой пути не было. К полудню шквалы уже неслись сплошными стенами, мы мчались в воздушных коридорах между ними, и тучи легли темным дымом на сизую воду. Мокрый ветер бил в лицо, синие рыбы блестели и прыгали в трюме, и соль саднила на лопнувших губах. Шхуна тяжело оседала, по корме хлестала жидкая пена.
– К вечеру дойдем, – успокоительно сипел Жучок и вытирал реденькие усы.
Стыли мокрые ноги. В сумерки море и ветер кричали тысячами голосов. Гул стремительных шквалов стал страшен. Мы попали в полосу шторма. Казалось, что солнце погасло навсегда и не вернется на неуютную землю. Ветры точно сорвались с чугунных цепей. Беспомощные, молчаливые и мокрые, мы всматривались набрякшими глазами в ночную тьму, искали огонь маяка – тусклый дотлевающий фитиль, береговой фонарь.
Но его не было, и только ветер мчал мимо нас, взбивая воду, тусклые обрывки тумана. Сотни поездов гудели под небом на невиданных скоростях. Тяжелые струи дождя слепили глаза.
Ветром сорвало кливер. Я полез на бак, поскользнулся на чешуе и разбил руку.
И в ту же минуту ветер обрушил на меня мутный водопад соли, водорослей и тьмы. Меня бросило о палубу, ударило плечом о толстый проволочный борт.
«А-а-а-ах!» – закричал радостно и взволнованно ветер.
Я хотел обругать его, но он воткнул мне в глотку мое ругательство, и я подавился им, как клубком шерсти, – даже заболело горло. Море ходило головами, мылило шхуну пеной.
Я залез в конуру на баке, «каюту», и закурил. Дергало разбитое плечо. Зябли мокрые ноги, плохо закрывались опухшие и разъеденные солью веки. Я смотрел сквозь выбитую дверцу назад, на корму. Все так же стоял там Жучок, крепко расставив ноги, с мокрым измученным лицом. Все так же мутью и пенистыми столбами ходила волна, и я знал, что ни одного рыбачьего паруса, ни одной птицы не было в этом одичалом просторе.
– Огонь! – закричал снаружи Алексей.
Через час огонь маяка сверкал, синий и равнодушный, у борта шхуны, и сильно пахло рыбой и влагой. Шторм был позади.
Осень у моря, черная осень, как девушка, вымокшая под дождем, блестела лиловыми глазами. Ветер шуршал по палубе ворохом желтых листьев, и музыка из приморского «поплавка» рассказывала короткую повесть об огнях, зажженных высоко над морем, о дожде, пахнущем винной пробкой, о хохоте женщин, выпивших горячего вина.
Мы трое, взявшись за руки, прокричали «ура» и спрыгнули на берег.
Сантуринское вино
Мы остановились в дрянной портовой гостинице. В соседнем номере жили цыгане из хора со своими растрепанными женами. Встречаясь с нами, цыганки смотрели зазывающими глазами и бренчали монистами. Иногда они плясали и пели, и тогда казалось, что гостиница рушится от землетрясения под бешеный грохот бубна.
По ночам бывали облавы на проституток. За них вступались пароходные кочегары, спавшие в коридоре. Ругань и гром не стихали до утра.
Мы решили жить в этом городе, пока хватит денег.
Вечером я ждал в греческой кофейне Алексея и Сташевского. Стены кофейни были выкрашены в канареечный цвет, греки играли в кости. На окне сидел белый кот, мылся и презрительно щурил глаза на греков.
Алексей и Сташевский пришли с шумом, зацепили соседний столик и привели с собой серого человека в мятой шляпе.
– Вот он сидит, наш поэт, познакомься.
– Это новый, недавно нашли – бывший ссыльный, эсер. Теперь служит в пароходной конторе. Садись, выпьем!
Они были уже с ним на «ты».
Пышная гречанка с подвязанной щекой принесла две бутылки сантуринского. Эсер Семен Иванович бледно улыбнулся, положил мятую шляпу на окно и сел. Кот потрогал шляпу лапой, обиделся и ушел за стойку.
Очевидно продолжая начатое, они сразу же шумно заспорили.
– Русская литература прошлого века, – закричал Сташевский, – верное средство нажить мигрень! Мямлят о том, что можно сказать в двух словах. Дайте мне Достоевского, я сокращу его на три четверти, выкину воду, и он зацветет по-новому. Что вы мне бормочете про Гончарова. Согласен, может быть, все это очень хорошо, но не могу я его читать, не могу. Нет у него терпкости, не кружит он голову. Сердце молчит, понимаете, сердце не колотится.
– Ну, Максимов, – сказал мне Алексей, – налегай на вино, Сташевскпй завел волынку на три часа.
– А шуму вокруг них на тысячи рублей! – кричал Сташевский Семену Ивановичу. – И профессорского гладенького шуму, и торжественного, и слезливого, и бахвального. Что Гейне, что Верхарн, что Гюго – соплей перешибем! От нас земляной дух, от нас навоз, Христос, справедливость. Мы покажем человечеству путь к истине. Мы – с колтуном в мозгах, с хулиганами, безграмотные лодыри, мы – мессия! Правда, блеснули два-три. За них я и выпью, за Лермонтова, Баратынского, Пушкина. Их вспомнишь – будто бы солнце взошло над этим болотом. Их убили, облизали, пригладили каждый волосок, подобрали все шерстинки с сюртука и не нарадуются на дорогих покойничков! Только в России были кликуши в литературе. «Учитель, перед именем твоим позволь смиренно преклонить колена». На писателей мы смотрим, как на педагогов. Они нас учат, дурачков, – и на том спасибо. У нас нет людей. У нас нет человека со страстью, смелостью, смехом, простого пленительного человека. Мы все сидим по коробочкам. У нас, видите ли, дорогие товарищи, все эсдеки, эсеры, толстовцы, народники. Все спешат втиснуть себя в ящик с этикеткой и сосать свою принципиальную лапу. Из действительно великих и гневных идей мы выкраиваем свое – великую идею на русский лад и говорим о ней, говорим до тошноты, до того, что самим противно, до подлости. Вот страна грязи, тоски и варваров.
Семен Иванович покраснел.
– Я, собственно, не совсем с вами согласен, хотя, признаться, давно уже отошел от литературы, больше вращался в кругах партийных, и, правду сказать, лучшие люди там редко уживались.
– «Собственно – не признавали, признаться – не уживались», – медленно повторил Стагаевский и яростно посмотрел на Семена Ивановича. – Эх вы, ре-вол-лю-цио-нер! Вам бы в швальне штаны шить!
– Все это самооплевыванье, – вмешался Алексей. – Довольно! Ты мне надоел. Заладил одну пластинку и крутит, крутит, даже в ушах звенит.
– Арестант! – ответил Сташевский и залпом выпил свой стакан.
От сантуринского кружилась голова. Хотелось говорить без умолку. Девушка за соседним столиком пустила к потолку воздушный шар – красный и большой. Дым качался над нами, и дружно хохотали греки. Я встал.
– Вы прекрасны, – сказал я девушке. Ее спутник повернулся ко мне вместе со стулом. – Но вы совсем не знаете, как жить. Сейчас я расскажу вам, одну минуту, вот только налью вина.
– Ура! – крикнул некстати старый грек.
Спутник девушки пожал плечами и отвернулся.
– Довольно философии! – закричал Алексей. – Пей! Залей свои туманные мозги, пока они не разгорелись. Смойся же ты, клюквенный экстракт, чертов революционер! Кто вам сказал, что надо думать? Это совсем не обязательно. Это не продлит вашу жизнь ни на минуту.
Старый грек в котелке и широких брюках подошел к нам и захихикал. Нос у него был кверху широкий, как клюв. Он хлопнул меня по плечу.
– Видал мастику? Видал мастику? – Он завертел перед носом зеленой бутылкой. – Кала мера! Пей!
Маслянистая мастика жгла горло. Ночь шумела ветром и прибоем. Красный воздушный шар сморщился и упал. В углу угрожающе двигали стульями вертлявые юноши в панамах.
– Эй вы, венизелосцы, уймитесь! – крикнул им Алексей, выждал, пока они притихли, и запел:
Наша жизнь коротка,
Все уносит с собой.
Наша юность, друзья,
Пронесется стрелой.
Греки звенели в такт песне пустыми стаканами. Их потные лбы отражали, как тусклые рефлекторы, свет медной лампы. Под самой лампой сидел лысый шкипер, голова его сверкала исполинским бильярдным шаром.
Табачный туман метался по комнате под ударами ветра и рвался, как истлевшая шаль. Мы все качались в такт. Качались лампы, и окна, и акации за ними, и таверна была похожа на каюту старого корабля.
Я встал, подошел к столику, где сидела девушка, и поставил около нее свой стакан:
– Давайте меняться!
Она взглянула на меня с изумлением. Я взял ее стакан и залпом выпил. Ночь ходила размахами, как маятник. Когда маятник падал – коротко и стремительно шумел ветер, когда подымался – занавески на окне улетали на улицу.
Девушка пристально посмотрела мне в глаза. Ее спутник совсем раскис.
– Какой вы глупый и милый, – сказала она; провела кончиками пальцев по моим рукам и сжала ладони. – Ну, успокойтесь, не качайтесь и смотрите прямо на меня. Вот так. Теперь-то вы узнали меня или нет?
– Хатидже! – крикнул я и засмеялся. – Екатерина Владимировна! Пять лет я не видел вас. Откуда?
– Какой вы глупый, – повторила девушка, не выпуская моих рук. – Сейчас я уйду, у меня разболелась голова. Нет, не провожайте. Завтра я буду днем на Приморском бульваре. Приходите, мы вспомним старое.
– Ура! – крикнул теперь уже кстати толстый грек и уронил котелок.
Мы прокричали «ура» – три, четыре, пять раз, и котелок катался кругами по комнате. Хатидже ушла.
– Пью за старого Оскара! – вдруг закричал Сташевский. – За старого пьяницу Оскара.
Меня словно ножом полоснуло по сердцу.
Старый, пьяный Оскар. Ведь он любил нас.
Пили за Оскара, за благополучное возвращение Жучка, за Вилюйскую область, куда был сослан Семен Иванович, за гениального размазню Винклера…
– Максимов, сыпь речь, пусть пиндосы слушают!
По канареечным стенам стекали капли пота, лампа светила в дыму, как полуночное солнце. Я начал.
– Берите жизнь с весельем! – крикнул я и постучал бутылкой о бутылку. – Отдавайте ее с еще большим весельем. Бросайтесь в прекрасные и сомнительные приключения, как в холодную воду. Позор и величие – это одно и то же. Это переживается одинаково. Вы, греки, не нашли золотого руна. Я пью за всех, кто любит искать, но редко находит. Я пью за мастику, за девушек, за папашу Днестропуло, за кефаль, и, наконец, я пью за человечность, которая сопутствует любящим, и за любовь, рожденную вдохновением.
Греки вскочили, заорали, и сквозь десятки жилистых рук я увидел негодующее лицо хозяйки. Котелок снова начал описывать широкие круги. «Ура, Днестропуло, ура, Днестропуло!» – кричал маленький серый грек и подбрасывал в воздух костяшки домино.
– В чем дело? Провэрыть! – хрипло вопил, выкатив глаза, грузин с серебряным поясом. – Зачем на нас указывает? Провэрыть!
Накрашенная девушка, рыжая, как лиса, обняла меня сзади и поцеловала в щеку.
– Бррраво, Мирка! – задохся толстый грек, хлопнул руками по лоснящимся коленям и завизжал от хохота. – Ни черта не понимаешь, целуешь. Брраво!
Из угла гнусаво и нахально засвистела флейта-пикколо. Играл на ней чахлый и свирепый турок. Танец ввинтился в толпу и заставил всех замолчать.
Ха-ха, хотта, хотта!
Ха-ха, хотта, хотта!
Комната закружилась, столики отлетели к стенам, и кот помчался из-за стойки в окно, приседая и вытянув хвост. Я танцевал с Миркой. Она дышала на меня луком и страстью. Ее невозможно красные губы ловили жалкие остатки воздуха, рыжие волосы пахли пачулями.
Ха-ха, хотта, хотта!
Ха-ха, хотта, хотта!
Нас вышвырнули в пять часов утра. Желтое мерцание ламп и рассвет сразу же бросили в сон.
– Подстроэно, провэрыть! – кричал на пороге неистовый грузин.
– Плывем ночевать!
– Плывем!
В порту били склянки двойным мелодичным ударом: там-там… там-там…
Черт его знает, может, и вправду все было подстроено. Но хорошо!
Незнакомый город
Я открыл окно. В комнату ударил ветер. Внизу лежал незнакомый город. Солнце высоко стояло над крышами. После шторма земля пахла особенно крепко.
Я вытащил из-под графина расписание пароходных рейсов – лист желтой глянцевой бумаги – и написал на обороте:
«Быть бродягой, подбирать все, что попадется на дороге, – туман, лица людей с морщинами страданий и болезней, стихи, никем не читаемые, – и думать об этом с наслаждением, находить образы, непривычные, как во сне, и начать вторую жизнь вот на этих листах бумаги. Создать свой мир – необычный и чуждый всему окружающему, царапающемуся, жалкому и смешно неразумному. „Склонись к зеркалу души своей, и ты испытаешь наслаждение. Душа твоя, окрыленная любовью, смирится и вознесется к далеким вершинам, где правда светоносными руками сорвет покрывало с твоего разума“.
Я могу думать об этом персидском изречении часами, находя в нем все новую глубину.
Я помногу думаю о случайном. Вот маленький эскиз маслом. Он лежит у меня в бумажнике. Внизу черная надпись: «Гогену – Винклер».
Гоген.
Я начинаю думать о жизни этого человека.
Мать Гогена была испанка с синими волосами – правнучка флибустьера, умершего от жажды в мексиканской пустыне. Звон медных лат, вино и золото – легендарное, чудовищное золото и сифилис перечеркнули прошлое ее католической семьи. Она отдала сына в иезуитскую школу. Он изучал латынь и гимны, знакомился с непорочным зачатием и перевоплощением крови Христовой в бургундское вино. В сухощавых патерах, в их сутанах, пахнущих ладаном и духами, было нечто от его жестоких предков. Аббаты были конквистадорами великой империи святого Петра.
Из школы он вышел атеистом. Одно время он был моряком. Невнятным голосом предков звали его безграничные пространства. Красные полотна тропических вечеров, их грубая и пышная позолота, дыхание невыдуманной экзотики, как трещина в стекле, прошли через его память. Разве легко носить всю жизнь тоску о почти призрачном, дальнем и жажду выразить все это в новых красках.
Гоген принадлежал первобытным странам – этот парижанин с кофейным загаром и желтыми белками неспокойных глаз.
Все чересчур обыденное – службу в банке, куда он перешел с корабля, семью, маленький дом с зелеными жалюзи в тихом квартале Парижа, воскресные прогулки по реке, – все это он внезапно и легко променял на жизнь нищего художника. Грязная наволочка, небритые щеки, расклейка афиш на бульварах и первые, еще темные картины. Таково начало карьеры.
Он ненавидел бога и культуру. В ней было нечто плоское и неживое. Жить в городе и не знать даже карты звездного неба – это уж слишком! Так он сказал перед бегством из Парижа. Он бежал на острова Таити, к Великому океану, – он, созданный для великого. Бежал и был смертельно и навсегда ранен этими широтами.
Солнце растапливало краски на его картинах. Сок красок, блестящий и радостный цвет, лился с холстов. Черная синева, песок, коричневый, как тело ребенка, девушки с острыми сосками, тяжелые стены прибоев. Золото в лимонах, в мимозах, в вечерах и на бедрах женщин.
Он писал, и лихорадка трясла его за руку. Он остановился, взглянул на свои холсты, на эти гигантские перья птиц, и впервые поверил в библейскую повесть о днях творения. Молчаливый невиданный мпр, перегруженный густыми мазками, жадно смотрел на него, на его слишком слабое для гения тело.
Он умер, и девушка-таитянка – его жена – закрыла ему волосами глаза. Был период ветров, белые облака неслись над островами. Казалось, что Гоген только уснул.
Дикари плакали. Умер прекрасный белый, с таким гневом защищавший их жизнь, их залитый зарею остров от другого белого – в круглых очках, с его политическими системами, абортами, водкой и бухгалтерией.
Перед смертью Гоген испугался нашествия людей с Запада. Они ползли приветливо и спокойно, перебирая в кармане серьги и бусы. Вожделение сочилось из них трипперным ядом, девушки стали закрывать дешевеньким ситцем оранжевые груди, и на островах, где молились раковине и морской воде, затрещали ремингтоны. На свою вторую родину Гоген не хотел пускать ни одного европейца. Он объявил неравную войну Европе. И этого бунтаря, богохульника, пинавшего ногой распятье, хоронили аббаты со всей гнусавой пышностью католических обрядов, признав его верным сыном церкви.
Так окончил Гоген – человек с хмурыми глазами и грудью матроса, с руками, пахнущими смолой и красками, и душою ребенка, измученного вечными думами о возрождении детства человечества.
В теплых, затянутых бледными коврами залах щукинского особняка в Москве я видел его полотна. Я видел подпись:
Paul Gauguin.
Я помню его автопортрет. Спокойно и сурово глядели глаза, блестящие и темные, на угловатом лице. А за окнами шел мягкий и тихий московский снег, ложился на ветки и карнизы церквей.
Полузабытые гении, поднявшиеся до грани сверхчеловеческого, цельные в своей непоследовательности, необычные, капризные, как дети. Я люблю вспоминать о них, перебирать их имена. Думы о них трогательны, как молитвы.
Я вспоминаю многих скитальцев, поэтов. Нищета, чашка жидкого кофе, радость величайших достижений и неутолимая тоска, от которой у менее сильных ржавеет сердце. Их удел – плевки в глаза и странные книги, волнующие одиноких людей.
Каждый хранит в себе возможность быть гениальным. Но тяжел путь. Я хорошо знаю дрожь души. Она приходит неожиданно, то в оживленном разговоре, то во время ночной задумчивости или в тихом утре заспанного порта. Тогда я боюсь судьбы этих людей.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































