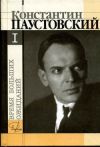Читать книгу "Романтики"
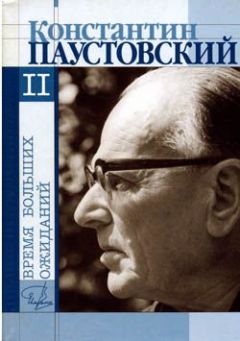
Автор книги: Константин Паустовский
Жанр: Классическая проза, Классика
сообщить о неприемлемом содержимом
Хатидже
В конце сада молоком было налито море. Падали листья. В сумерки в сером небе зашипели калильные фонари и скромные огни зажглись на пароходах. Вечер был сизый, печальный и очень сырой.
Я ждал в саду Хатидже. Я знал ее еще девочкой. Было это на севере, в городке над Окой, где мороз скрипел под ногами, как новая кожа. Оранжевое солнце лежало на вощеных полах, потрескивали фитили ламп, на солнечных полосах спали кошки, и на катке смеялась Хатидже. Щеки ее пылали. Она была гимназисткой шестого класса, я был в седьмом. Я приехал на каникулы к бабушке. У меня на руке был вытатуирован якорь, и я много врал о пароходах, моряках и Александрии. И вот вчера в ресторане – эта странная встреча. Я узнал под вуалью ее глаза, узнал смех и голос.
А теперь? У меня в кармане осталось три рубля. Алексей сидит в участке за буйство. Сташевский пишет в засаленном номере неизвестно для кого монографию о гениальности и фанатизме. У него стиль Пшибышевского. Недавно он написал очерк об Артуре Рембо. О Рембо там не было ни слова. Он писал о слоновой болезни, о преимуществах американских винчестеров, простреливающих Библию с десяти шагов, восхвалял авантюризм и нагло утверждал, что в горах Ливана сохранился готический собор, построенный крестоносцами, перед которым Notre Dame в Париже – детская игрушка. При чем тут был Рембо – неизвестно.
Хатидже пришла лишь к вечеру. От ее волос шел запах ветра. Мы долго ходили по сырым дорожкам.
– Как я жила? После гимназии я жила в Париже. Родные послали меня учиться в Сорбонну. Что делать дальше – не знаю. Вчера в кофейне вы обещали меня научить, как жить.
Она засмеялась.
– Я здесь гощу у родных. Буду много читать, переводить Франса и ходить к морю. В общем, хорошо, что я вас встретила.
Она помолчала.
– Мать у меня недавно умерла, – сказала она спокойно. – Помните сад около собора и каток? Вы рассказывали замечательные вещи. В Париже я встретила одного эмигранта, серба. У него были ваши глаза и нос. Я бывала в том кафе, где он сидел по вечерам, и думала о вас, о забывшем меня Максимове. Когда вы уехали, началась оттепель, дороги развезло, от лошадей шел пар, а я все думала о вас и о море. С кем вы тогда приезжали?
– Со Сташевским и Алексеем. Они сейчас здесь.
– А помните, как мы катались на розвальнях? Сташевский бежал за санями и перекидывал их от одного тротуара к другому, – он ведь очень сильный.
– Это не он, это Алексей.
– Помните, перед вашим отъездом мы сидели в саду над рекой, с веток падал снег, и мы грели друг другу руки.
– Почему вас зовут татаркой?
– Бабушка у меня из Бахчисарая. Я росла среди татар. Моих приятелей звали Амет, Айше и Усейн. Амет мне и теперь еще присылает письма на листах магнолии. Все они звали меня Хатидже – моим именем по-татарски. Это за мной и осталось, хоть я и русская и волосы у меня как солома.
Она усмехнулась и заговорила обо мне.
– Я встречала потом очень много людей. У всех мужчин есть какой-то угол. Ударишься об него, станет больно. У вас этого нет. Вы другой. Каждый чувствует это в вас. Люди редко смотрят. Они или уставятся, или скользят, а вы смотрите просто и спокойно, будто ищете то, чего не видят другие. У вас был тогда глухой голос и застенчивая улыбка, – вы мало изменились.
– Нет, я стал взрослее, а взрослых я сам не люблю. Я бы много дал, чтобы опять быть мальчишкой, бегать на коньках.
Мы вышли из сада. Сырая ночь спустилась на город. За оградами синим пуншем разгоралось море. Язычки газовых фонарей склонялись к югу. Начинался северный ветер.
– Поздней осенью редко бывают такие вечера, – тихо сказала Хатидже.
Наши шаги отдавались среди каменных оград.
– Что это за странный свет?
Я видел в ночном блеске ее глаза.
– Это, должно быть, зодиакальный свет, Хатидже.
Свет поднялся низким куполом над морем, он то разгорался, то потухал, и море то покрывалось приглушенным блеском, то уходило в черноту, в туман.
– Вы знаете, когда зодиакальный свет был виден в последний раз?
– Когда, Максимов?
– В ту ночь, когда Данте встретил Беатриче.
– Какой вы выдумщик.
Она засмеялась и взяла меня за руку. Сквозь перчатку я чувствовал теплоту ее пальцев. Мы шли по чугунному мосту. Он легко лежал над щелями портовых спусков. Веретена огней убегали к черной воде. О такой ночи писал Уистлер, о камне мостов, потерявшем весомость, о воде заливов и небе, прозрачном, как вода. Звезды дрожат и преломляются в этих холодных небесных водах.
– Хорошо, – сказал я Хатидже. – Сырая ночь, милая земля и вы – такая далекая и такая родная. Как все это странно.
Я говорил еще много, мне казалось, что это говорю не я, теперешний, а тот, другой во мне, по которому я тосковал все эти годы. Словно я ждал прихода этой ночи, стелющей над городом свои млечные покровы из сверкающей манны.
Мы прошли краем порта. Синий свет отражался на отмелях. Сонно плескала вода.
Когда мы прощались у белого маленького дома, расплавленное море в упор смотрело в глаза. Среди ветвей сверкала голубая Вега.
Уличный скрипач
Приехал Винклер. Он привез с собой деньги и пренебрежение к нашему плаванию. Он был молчаливее, чем всегда. Мы обрадовались и решили остаться еще на неделю. В первый же день Винклер поссорился со Сташевским.
– Если бы я был художником, – сказал за чаем Сташевский, – я написал бы изумительные вещи, не то что ты. Например, желтую пароходную трубу, черное небо, и больше ни черта! Не правда ли, эффектно? А ты решаешь какие-то световые задачи. Ну, да черт с тобой! Пиши, брат, трудись. Выдумывай новое, настоящее мне уже надоело.
– Ты чудак и слеп, как щенок. Слепому тоже надоела темнота. Постоянно возишься со своим петушиным «я». Все ему надоело. Лорд Байрон из Сквиры. Сам ты надоел себе, а не земля и небо. Тебе надо проветрить мозги.
– Вы это о чем? – спросил Алексей. – Сошлись тут поэты, бальмонты. Винклеру обязательно надо добраться до сути – почему надоело, кому надоело, когда надоело…
В соседнем помере заиграл старый арфист. Гулко и торжественно лилась по коридору неаполитанская песня.
– Итальянец играет, – сказал Алексей и подмигнул. – Чудак старик. Всем кланяется, за номер не платит, на свадьбах играет на арфе и на скрипке. Чем только жив человек?
Старческая тоска по bella Italia подымалась к чердакам, где жены матросов переставали стирать белье, разгибали спины и отирали пот скользкими мыльными руками. Тоска по солнечным дворикам и шумному говору, может быть, великая, как Рим, тоска по теплому мрамору и освежающим фонтанам. Старик тряс головой. Он никому не делал зла, перед всеми он снимал зеленую фетровую шляпу. Ему было очень горько в чужой стране.
– Тащи его сюда, Алексей, – сказал Сташевский. – Купи водки и тащи.
Старик пришел со скрипкой. Лак ее был темен. Солнце тихо сверкало на золотистом грифе. Старик тер ладонью проволочную щетину на щеках и был в меру торжествен и в меру печален. Он сел спиной к свету и выпил рюмку водки. Бахрома свисала с его синих, толстых, как кожа, брюк, и красный шарф был замотан вокруг сизой шеи.
– Моцарт? – спросил старик сорвавшимся голосом и взял скрипку. – Моцарт?
Я кивнул головой.
Мелодия Моцарта тонка, как говор старой Вены. Язычки свечей дрожат на красных клавикордах. Как шепот около исповедален, внезапно затихают струны. Торжественные напевы, глаза венецианских мадонн, осенние огни в воде каналов – обо всем этом, старом, как прабабушкины кружева, рассказывала скрипка.
«А мы? – подумал я. – Мы забыли дружескую моцартовскую жизнь. Где Бах? Где Гайдн? Наши глаза выцветают в невеселом труде. Наш удел – нищета и бесцельное шатание среди людей. Наши лучшие минуты приходят тогда, когда мы плачем о прекрасных днях, прошедших мимо».
Я бросил папиросу за окно.
«А если и у меня в жизни ничего не останется, кроме этих слез?»
Старик замолчал. Я налил ему еще водки. Сухие руки его тряслись, он расплескал рюмку.
– Эх, – сказал Сташевский. – Старика бы Оскара сюда. Ведь это о нем играли.
Итальянец опять заиграл какой-то скачущий танец. Если есть веселье в желчном блеске белков, веселье пьяных тряпичников, беззубых нищих и шарманщиков с искусственной гортанью, то оно гремело в этой пляске. Даже цыганки стихли, прислушались и потом сорвались бешеным треском бубнов:
Эх, раз, еще раз,
Еще много, много раз!
Пароходные дымы
Сквозь стекла сочится мокрое утро. Звон церквей дребезжит над крышами. Мелкий дождь сыплется через исполинское небесное сито.
Со времени встречи с Хатидже случилось много нового. Алексей и Винклер уехали. Я остался один со Сташевским. Он заболел. Как-то утром он взял шлюпку около агентства и поехал в море один. Возвратился домой промокший, раздраженный, с нехорошим румянцем и воспаленными глазами. Врач нашел воспаление легких.
Мы перенесли его из прежнего номера в комнату наверху, тихую и солнечную. За окнами лежала площадь с голыми акациями. Высокими струями поднимались к небу редкие пароходные дымы. Я спал на полу. По утрам бывало холодно.
Арфиста мы прозвали Гарибальди. Я ходил с ним обедать, изредка заходил к Хатидже.
В городе уже устоялась зимняя тишина. Порт был пуст, и я был рад этому – ничто не мешало одиночеству. В трактирах это одиночество было особенно легким – среди красных обоев, пара, белых чайников, гула зеленого утра за дверью. Иногда в воздухе кружился снег. Пахло сосной и мокрыми палубами.
Я писал. Но об этом после. Я, кажется, полюбил Хатидже. Я боялся сказать это самому себе, – ведь невозможно полюбить меня, пустого бездельника, мальчишку. Я знал, что пленительное несчастье подкрадывалось ко мне, и радость слонялась со мной по ветреным улицам.
Как она пришла – любовь, над которой я привык смеяться?
Как-то все смешалось: пустые сады, солнце над морем, синяя вода, красные кузова шхун, радость дышать соленым туманом, и над всем этим – крепнущая любовь к Хатидже.
Каждый день, каждое слово, поворот головы и движения были новыми и уверенными. Был смысл, и была цель в жизни. Волновало сознание, что впереди ждут новые встречи и штормы. Жить бы так без конца!
Был я со своей любовью, были резкие смеющиеся губы Хатидже, Гарибальди – трактирный Моцарт – и худой, как мальчишка, Сташевский.
Город спал в пасмурном небе, в коротком солнце, в запахе рыбы. Загорались и потухали огни, звучали по тротуарам наши шаги, и в церквах звонили так осторожно, будто слепой перебирал четки.
Города из листьев каштана
Тогда я много писал. Писал обо всем, что приходило в голову.
…Я сидел на бульваре и смотрел, как играла девочка. Совсем «капельная», как говорит Алексей. Она посапывала и собирала гладкие морские камни. Из них она складывала дома, строила город, из сухих листьев каштана были сделаны площади, из раковин – дворцы. Девочка громко дышала от волнения и разговаривала сама с собой. В домах жили люди. Они ходили по извилистым улицам, их иногда перебрасывало ветром с одной площади на другую, и это было очень смешно: тогда девочка хлопала в ладоши и смеялась.
Потом пришел, прихрамывая, Жулик. Он был серый, как пакля. На носу у него волосы были расчесаны пробором, язык небрежно свисал. Он пришел, обнюхал дворцы, сел на площадь и раздавил людей.
– Куда ты сел, Жулик? – закричала девочка.
Жулик замотал нечесаным хвостом, и люди с домами полетели по воздуху. Город был разрушен до основания. Девочка рассердилась и ударила Жулика. Он встал, забрался под скамейку и сел спиной к девочке.
Девочка долго стояла, растопырив руки, смотрела испуганными глазами на опущенные уши Жулика и вдруг заплакала. Она схватила Жулика на руки и поцеловала в мокрый нос. Жулик взвизгнул, вырвался и долго носился по клумбам, хрипло лая на воробьев. Опустился туман, и гудки пароходов дрожали, как военные трубы.
Я не потерял еще способности верить в города из каштановых листьев, дворцы из ракушек и плакать вместе с женщиной, незаслуженно обиженной шестимесячным крысоловом.
Я полюбил этих маленьких людей с их слезами о глупом Жулике. Я хотел бы многому научиться у них.
Я сидел с Гарибальди в трактире. Было рано и пусто. За стойкой сердитый хозяин читал газету. Пришел разносчик-итальянец. Он таскал в ящике со стеклянной крышкой фальшивые камни, камни из лавы, раковины и кораллы.
Я купил у него раковину за сорок копеек. Она была покрыта твердой розовой пеной. Гарибальди приложил ее к уху.
– Мер[1]1
Море (прим. автора)
[Закрыть], – сказал он и улыбнулся. Даже небритая его щетина засветилась.
Я тоже послушал. В раковине шумел отдаленный прибой.
– Ее взяли из моря, – объяснил Гарибальди. – Она скучает по морю и все шумит, как волна.
Мы долго курили и думали. Я думал о раковине. Человека тоже взяли от иной жизни и поселили в этом сером чистилище. Каждый томится по своему морю, которое помнит сердце. Я часто прислушиваюсь к себе, и, когда кругом очень тихо, я слышу – неясным пением подымается тоска.
Апельсинная корка
Чаще всего я писал по ночам. Я зажигал свечу, закрывал ее толстой книгой и писал, прислушиваясь к ночным шумам. Часы внизу хрипло били два, потом три. Я слушал тишину, шорох мышей, иногда засыпал за столом и просыпался от протяжного крика парохода. Сквозь дремоту я думал: это – «Неожиданный», или «Батум», или «Афродита» – и засыпал снова. Иногда я подходил к окну и смотрел вниз. Было видно, как поворачивали и уплывали огни – уходил пароход. Огни прыгали в смоляной воде, ветер хлопал черными флагами.
Часто я не мог уснуть до рассвета, думая о Хатидже. Я видел ее на улицах, среди садов и оград, освещенных заходящим солнцем. Пахло грозой и степными цветами. Ложился я поздно, – крепкий, родниковый сон был легок.
Мы живем, как живут тысячи, – в кругу обедов, болезней, службы, смертей и чада. Мы боимся ярких слов. Пафос пугает нас больше, чем револьверный выстрел. Но иногда в этот привычный мир входит тоска и раскалывает сердце. Тогда я думаю о белых ночах – не затасканных вдоль и поперек ночах Петербурга, а об иных, совсем особенных ночах, когда огни полощутся столбами в широких и туманных заливах. Они должны быть, эти ночи, когда в белом молоке едва видны зеленые звезды, сырые паруса обвисают на мачтах, губы женщин становятся влажными, а гавани и города погружаются в великое безмолвие, одеваются в серебряную седую печаль.
Я не люблю писать об этом, потому что это вызывает громкий смех или усмешку упитанных, довольных своей карьерой людей, потому что слишком многие не знают настоящей печали.
Недавно Сташевский сказал мне:
– Ты весь в своем, в выдуманном. Увидишь апельсинную корку – и уже думаешь о небе цвета этой корки, которого никогда не увидишь. Чудак!
Хатидже сказала мне вчера:
– Вы совсем мальчик. Все вас тянет куда-то, в Америку, в Египет, на Новую Землю.
Я ответил нескладно:
– Странствия – лучшее занятие в мире. Когда бродишь – растешь, растешь стремительно, и все, что видел, откладывается даже на внешности. Людей, которые много ездили, я узнаю сразу из тысячи. Скитания очищают, переплетают встречи, века, книги и любовь. Они роднят нас с небом. Если мы получили еще недоказанное счастье родиться, то надо хотя бы увидеть землю.
Горячий песок чужих берегов оставляет глубокие следы на ладонях, теплые волны смывают вязкую слизь повседневной жизни. Своя тоска у каждого дня. Вот сегодня я хочу увидеть серые дни в Балтике, когда занавесью лежит туман по хвойным берегам и в море выходят рыбачьи барки с красной полосой, нашитой на парус. В прибрежных лесах растет по полянам вереск, и сырые дымы больших кораблей идут к песчаным берегам Дании – родине Ола Гансона.
Может быть, этого нет, но я увижу все это, потому что уже давно я стремлюсь замечать скрытое и создавать задуманное.
Свечи и лампы
Керосин, электричество и ацетилен, – писал я как-то ночью, – изгнали свечи восемнадцатого века. Когда глаза жжет свет, когда электрические лампы надоедают, как хроническая болезнь, начинаешь тосковать по свечам и запаху воска.
Тесные венецианские часовни, запах каналов, напевы Чимарозо и чугунные фонари над стертыми порогами – это век свечей.
Тронутые воздушными красками, словно напудренные голубой пудрой наивные плафоны Ватто, серебряный блеск тяжелых подсвечников в Сан-Суси, красноватый отблеск люстр в окнах Версаля, когда у чугунных решеток стоят вычурные кареты и дождь сечет косыми струями плащи лакеев, пышные магические иллюминации восемнадцатого века, сальные огарки в притонах Марселя, где к палубам линейных кораблей привинчены медные пушки и матросы заматывают шеи клетчатыми шарфами, – все это насыщено неярким светом восковых свечей.
Свет ламп и свечей заливает страницы книг наших писателей и поэтов.
Мопассан писал при свете красного абажура, густом, как кровь и страсть, писал в те часы, когда его уже подстерегало безумие.
Верлен писал в кафе при жалком свете газовых рожков, на обороте залитых кофе счетов, и из его как будто бы наивных стихов сочится ядовитый светильный газ.
Бодлер знал только черный колпак над лампой. Колпак просвечивал коричневым светом, как желчь. Опухшее лицо луны вызывало брезгливость. Париж дышал сточными трубами, и путаница символов рождала тоску по скромному закату в деревне, в резеде, в полях. Кружились легкие вальсы, но плясали их не девушки в шляпах с длинными лентами, а старухи в грязных полосатых чулках.
Чехов писал за простым письменным столом, светила лампа с зеленым абажуром, пальцы его холодели от спокойной жалости к людям. Мохнатые зимы, бубенцы, смешная нелепость старой России и – как стон скрытой тоски – песни цыганок у Яра – «Не вечерняя заря…»
Достоевский писал при кухонной лампочке с треснутым стеклом, прикрытым листом обгорелой газеты. Смрадные ночи, безденежье, жестокие женщины, загнившая человеческая душа рождали петербургскую истеричную тоску.
Артур Рембо любил писать в тесной каюте при краденой свече на полях книги со скабрезными стихами. Свеча была воткнута в бутылку. Рембо мечтал о том, чтобы омыть всю землю в пузырящемся сидре.
Уайльд любил сверкающие лампы и камины, золотые, как цветок подсолнечника в его петлице, в туманный и весенний лондонский день.
Келлерман писал за грубо сколоченным деревянным столом при свете очага в рыбачьей хибарке, когда тихо шипела на жаровне рыба, мерцал за окном маяк и гремел океан.
Роса и пчелы Метерлинка в утреннем блеске каналов, сотни торговых флагов во мгле и закатах антверпенского порта – в стихах Верхарна.
Осеннее солнце Булонского леса в дни великой революции, когда женщины носили кольца с профилем Марата, пышное солнце на страницах Анатоля Франса.
Праздничная тишина
Я проснулся среди ночи. Было слышно, как тяжело ворочалось море. Сташевский бредил.
– Максимов, зачем он стягивает одеяло? – испуганно позвал он. – Пускай уйдет этот горбатый.
Я укрыл его своим пальто. Дыхание у него было прерывистое. Лицо горело красными пятнами, глаза сухо блестели.
– Жарко! – крикнул он, сел на постели и сбросил одеяло. – Открой окна, Максимов. Слышишь, открой!
Я пошел к Гарибальди и разбудил его. Он долго кряхтел, искал в темноте ботинки и что-то шептал по-итальянски.
– Мама! – вдруг громко позвал Сташевский. – Максимов! – вскрикнул он упавшим голосом и заплакал. – Не уходи, слышишь, не уходи. Сядь здесь, зажги лампу. Темно, трудно дышать.
Худая грудь его и руки были бледны и прозрачны. Я осторожно уложил его, снова пригладил спутанные волосы. Гарибальди влез на стул и зажег настенную лампу.
Сташевский стих, глядя на меня широко и горестно, и крупные слезы расползались по подушке серыми пятнами.
– Ты не уйдешь?
– Я пойду за доктором. Гарибальди посидит с тобой.
– Ну ладно. Скверно мне, – хрипло и трудно прошептал он и закрыл глаза.
Редкие капли дождя ударяли о стекла. Глухо ворочалось море.
– Пить!
Старик подал ему стакан. Он пил торопливо, разливая воду по груди и по простыне. Снова начался бред.
– Уберите горбатого! – опять вскрикнул он и протянул руку.
Гарибальди растерянно взглянул на меня.
Я оделся и вышел. Блестящие от дождя улицы были пустынны. Ветер ровно дул вдоль них, стряхивая с деревьев тяжелые капли. Во дворах пели петухи, накликая дождь.
Когда я нашел доктора, уже светало. Грязный свет нехотя сползал с рыхлых туч и, потягиваясь, брел по мокрому городу. Ветки акаций стали чернее, полил дождь. Воздух был наполнен монотонным плеском.
Доктор был заспанный, седой. С его бороды падали на пальто крупные капли дождя. Он быстро шел и ворчал, – нигде не было извозчика.
Когда мы пришли, Сташевский лежал тихо, в крупном поту. Я вошел, и сонная теплота и сухость комнаты жаром ударили в голову. Я сидел на стуле и спал наяву, пока доктор грелся у круглой железной печки. Потом он осмотрел Сташевского.
– Прекрасно, – сказал он и посмотрел на меня с укором. – Был кризис, теперь все прошло. Начинается поправка.
Он закурил и сел к столу писать рецепт. Писал он долго, что-то думал, глядя на стену, спросил, сколько Сташевскому лет.
– Двадцать четыре года.
– Да. Молод. Ну что же, это хорошо.
– Который час? – спросил Сташевский. – Когда ни проснешься, всегда горит лампа и никогда нет солнца.
– Скоро пять. Спи.
Зеленоватый сок утра волнами хлороформа вливался в комнату, сон бродил по ней, лампа гасла, и у меня тяжело слипались глаза. Как песня великана, пела за окном сирена. Доктор ушел.
Гарибальди взял меня за локоть.
– Что говорил синьор? Как?
– Все хорошо, Гарибальди.
– О-о, все хорошо, – повторил он, отвернулся, вытащил из кармана черный дырявый платок и ушел в коридор. Голова его тряслась.
Сташевский уснул. Я хотел пойти за Гарибальди, но сон связал меня. Я лег на пол, и высокие волны подняли меня к потолку, где напевал сверчок.
Проснулся я поздно. Солнце било в окна, небо было по-зимнему чисто, и торжественно гремел гарибальдийский гимн.
Старик играл. Сташевский устало улыбался.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!