Читать книгу "То, о чем следовало рассказать с самого начала"
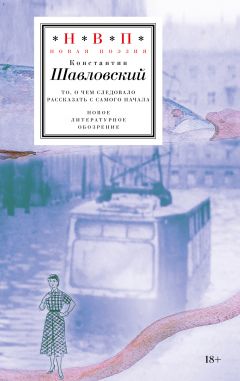
Автор книги: Константин Шавловский
Жанр: Поэзия, Поэзия и Драматургия
Возрастные ограничения: 18+
сообщить о неприемлемом содержимом
Константин Шавловский
То, о чем следовало рассказать с самого начала

Принцип неопределенности
Эта книга стихов выходит в свет осенью 2021 года. Предисловие к ней я заканчиваю в конце мая. И несмотря на все, что произошло весной и будет происходить летом, а потом и осенью 2021 года, – это, видимо, довольно обычный год. Такие годы упоминаются в книгах – серьезных и не очень, – но редко, почти никогда, не попадают в заглавия этих книг. В заглавия попадают годы, в которые случается что-нибудь важное: начинается или заканчивается война («Август четырнадцатого»), случается революция («Девяносто третий год») или, в крайнем случае, Гонконг формально переходит под власть КНР (2046, и это вообще кино).
Поэзия, конечно, тоже интересуется Важными Датами, но – по крайней мере, в наши дни, – меньше, чем проза или кинематограф. На вопрос, почему это так, можно отвечать разными способами, но скорее всего, дело не в том, что поэзия не интересуется временем. Просто она интересуется им иначе – точнее, даже не им, а тем, как оно проходит. И тем, что происходит в то время, пока время идет. «То, о чем следовало рассказать с самого начала» Константина Шавловского – это книга о том, как идет время, – и обо всем, что с ними (с автором и со временем) происходит на ходу. Или, если попробовать зайти чуть с другой стороны, – вот как иногда говорят: по ходу действия происходит то-то и то-то. А «То, о чем следовало рассказать с самого начала» – это книга, для которой основной предмет интереса – как раз сам ход действия. Намеренно или нет, но эта книга, написанная за последние – сколько? десять-двенадцать лет, наверное, – выстроена так, что она оказывается книгой о времени, в течение которого она пишется. Что значит «о времени»? Это не о том времени, которое «времена» (нынешние, прежние, тяжелые, счастливые), – а том времени, сквозь которое живет автор, а с ним – по-разному с разной скоростью – и мы все. Или нет, так как-то широковато получается, – лучше просто мы, какая-то часть нас.
Что это за время? Наверное, для него потом найдутся какие-то слова, они довольно часто, почти всегда post factum находятся. Но это будет потом – а сейчас сойтись, наверное, получится на том, что десять-двенадцать лет, которые проходят в этой книге (и уже прошли вне ее), – они вряд ли были лучшим из времен и весной надежд. Конечно, это не было и худшее из времен, но в каждой его точке впереди у нас (было) не так уж много. Чуть не самым ценным умением оказалась для этих лет компартментализация: здесь у нас «город в солнце и случайные сады» – а здесь аресты. Здесь каждую неделю открываются выставки и происходят очередные чтения – а здесь до смерти забивают человека в камере. Здесь ярмарка «non/fiction», а здесь – пять лет общего режима. Компартментализация – название для того, что позволяет в такие времена поддерживать равновесие, пусть неустойчивое, но достаточное (впрочем, только-только) для того, чтобы идти – если и не вперед, то хотя бы в каком-нибудь направлении. Чем дальше, тем больше внимания – или наоборот, невнимания, – это равновесие требует; чем дальше, тем больше его поддержание отнимает сил и времени жизни. Но вот так взять и прекратить его – очень трудно, – а иногда даже кажется, что и совсем невозможно.
* * *
Историй о нашем мире, как известно, всего четыре. Но вещей в мире много, и все эти многочисленные вещи мира – разные: одни сильные, другие слабые, а третьи – где-то посередине. Поэзия (конечно же) принадлежит к числу вещей слабых – а то и вовсе бессильных. В январе 1939 года Уистен Хью Оден пересекает на корабле Атлантику, чтобы поселиться в Нью-Йорке – и начинает обживаться в новом состоянии, – если не перемещенного, то переместившегося лица; в состоянии – как это называл один философ – беспочвенности. Старший товарищ, подружившийся с Оденом, когда тому еще не было и двадцати, предостерегал его от эмиграции: есть особая опасность для поэта в том, чтобы лишиться корней. Оден отвечал, что его отъезд в США – как раз и есть сознательная попытка научиться жить такой – неукорененной – жизнью. В апреле того же тридцать девятого года в «Лондонском Меркурии» выходит более или менее окончательный, то есть трех-, а не двухчастный вариант элегии «Памяти У. Б. Йейтса». И по крайней мере одна строка из этой новой, добавленной Оденом части, до сих пор заметно тревожит изрядную часть людей, которые, как они (мы) сами часто говорят, занимаются поэзией, – а на самом деле, конечно, пишут стихи.
Если бы мы жили в идеальном мире, книга, которую вы держите сейчас в руках, так и называлась бы: Poetry makes nothing happen. Эта (вырванная из контекста) констатация – что-то вроде цепной реакции в камере токамака, расположенного (не очень глубоко) под поверхностью «Того, о чем следовало рассказать с самого начала»: магнитное поле как-то удерживает ее, эту констатацию, внутри – но только-только: запас прочности очевидно невелик. Эмоциональная текстура книга при этом довольно далека от «левой меланхолии», о которой много говорят и пишут в последние примерно двадцать лет. Она не то чтобы совсем отсутствует в книге, но в этих текстах меланхолия скорее обозначена, чем жива: «мечты об оргиях стали оргиями / шоколадные вафли / берлинским клубом / а революция / свистулькой прилипшей к губе / ни проглотить ни плюнуть». «То, о чем следовало рассказать с самого начала» сложена из более разнообразных, амальгамированных друг с другом пластов злости, непонимания, досады, потерянности, одиночества, angst и просто печали – все это здесь есть. Все – кроме собственно меланхолии (или вот еще слово: acedia); все – кроме усталого безразличия.
Еще одна вещь, зримо отсутствующая в текстах Шавловского, – упомянутая выше компартментализация. Отсутствие ее – не органическое свойство субъекта речи, а результат сознательного усилия, намеренного отказа от разделения потоков жизни, от разгораживания проживаемого ландшафта, который поддерживается в состоянии не совсем, конечно, беспрепятственно проницаемом (пересеченная все же местность), но в каком-то таком, вечно полураспахнутом, продуваемом большими и малыми сквозняками. Проницаемость (но не прозрачность), преодолимость (но не гомогенность) – те самые состояния (свойства?), поддержание которых сопряжено с довольно высоким – честно сказать, с запретительно высоким, как правило, уровнем издержек самого разного рода. Но здесь это усилие, очевидно, имеет высокий приоритет – хотя бы потому, что оно (усилие) предъявляется самой первой строфой первого текста книги: «мы живем в россии / состоящей из снега и пыток / гостеприимства и пыток / книжных магазинов и пыток» («Мы живем в России»).
Здесь, в этой россии, «федя с другом артемом» приезжают кататься на сноубордах «на новый зимний курорт / построенный братьями ковальчуками», а потом «пьют свое пиво / обсуждая кино пытки настольные игры». Здесь рождественская служба – одно со службой исполнения наказаний, «я/мы» превращается в только что вырытые ямы, «животные сворачиваются в зверей», а «вронский дает признательные показания», – и так далее, до самого конца книги. Когда жизнь проницаема, оказывается, что спрятаться особенно негде – и время проживается в постоянном присутствии мучимого (и мучающегося) другого, в ситуации постоянной опасности, связанной с вторжением в жизнь насилия, причем, совсем не обязательно исходящего извне. Обитателю такой жизни – проницаемой по свободному выбору и в результате сознательно прилагаемого усилия – ему из каких-то самых общих соображений о справедливости положено, конечно, что-нибудь хорошее за совершаемую им поэтическую работу. Пусть даже апофатически – «не бессмысленно», «не совсем бесполезно», «хотя бы так». Но ничего такого не происходит, а происходит только необходимость как-то ответить себе самому на вопрос о том, может ли поэзия заставить происходить – хоть что-нибудь.
Оден, только обживающийся у себя на Бруклин Хайтс, отвечает на этот вопрос с того берега, из весны 1939 года, – отрицательно. Но это только часть ответа – предназначавшегося в конце тридцатых, в том числе, европейским левым, которым он, как известно, сочувствовал – иногда деятельно. Ничего в мире не происходит из‐за поэзии, – и утилитаристские моральные соображения не могут быть основанием для подчинения ее той или иной политической необходимости. Слабые вещи бессильны, их инструментализация невозможна, они бесполезны для морального действия. Другая часть ответа обнаруживается в конце той же строфы. Поэзия – не способ сделать так, чтобы что-нибудь происходило. Она – «то, что остается в живых» и одновременно – «то, посредством чего происходит происходящее, уста» (…it survives, / A way of happening. A mouth). Но одновременно обе части оденовского ответа – признание и констатация сути наступающих новых времен: речь в них будет идти не о преобразовании старого мира, но о выживании – и человека, и самой речи.
События происходят сами по себе, но живут (выживают) только будучи рассказанными, только как речь. Речь превращает события в историю, поэзия превращает речь в свидетельство о человеке. Перед вами одно из таких свидетельств, и это свидетельство о тех десяти (или двенадцати?) годах, когда непрозрачный горизонт будущего придвигался (придвигается) к человеку, написавшему эту книгу, – и к нам – все ближе; видимость в это время продолжает ухудшаться. Попытки вглядываться в непрозрачное будущее, предпринимаемые в отсутствие поэзии, ничем не заканчиваются – новые слова, без которых заглянуть за горизонт невозможно, едва начинают появляться. Нет их и в этой книге. Но из нее они когда-нибудь могут появиться: необходимый первый шаг к тому, чтобы они появились, – отказ от прежних слов, на глазах теряющих значение, – и готовность прямо говорить о своем непонимании, ужасе, фрустрации от невозможности что-либо изменить, о страхе от отсутствия сколько-нибудь понятной стратегии (да что там, и тактики) взаимодействия с темным будущим.
Стихи, образующие эту книгу, свидетельствуют состояние человека, который лишается своего места. На протяжении этой книги, по ходу ее движения, ее поэтический субъект, начав с отказа от компартментализации событий, продолжает движение к отказу от попыток адаптации к предстоящему прежних словарей и режимов речи. Горечь от того, что поэзия не может ничего заставить происходить, вынуждает пишущего к медленному, очевидно неохотному отступлению с авансцены, пустота которой заполняется самой речью, – которая получает таким образом возможность происходить. По ходу действия книги из предъявляемого ею мира постепенно, но последовательно исчезают несущие элементы устаревших режимов речи и объяснительных конструкций: если в начале одним из источников внутренней динамики является, помимо прочего, сопоставление свободного стиха с то ли фольклорными, то ли «детскими» регулярными размерами вроде отсылающего к Маршаку четырехстопного хорея – «только руки убери / выйдет мама из двери / машет крыльями и плачет / больше нет меня внутри», – то уже к середине книги метризованные фрагменты почти исчезают. Однако и свободный стих, ко второй трети сборника вроде бы утверждающийся в качестве основного способа авторской речи, вскоре начинает распадаться на отдельные реплики, а иногда и фонемы.
Своего рода ключ, авторское описание происходящей поэтической эволюции обнаруживается, кажется, в последовательности заголовков цикла «Экономика речи»: Шизофазия, Глоссолалия и Эхолалия. Этот ряд прямо называет стадии, которые проходит поэтический субъект, – от шизофазии дробящихся, рассыпающихся смыслов, помещенных поначалу в сравнительно привычные формы, – к глоссолалии, где от речи остаются уже только ритмические и слоговые структуры, – и далее, к ситуации невозможности никакой собственной речи, когда сохраняется только возможность повторения и иногда рекомбинации слов, выхваченных из окружающего пространства.
Важно, что мы говорим не о раз навсегда принятом и последовательно исполняемом решении – скорее о постепенной интернализации логики событий жизни и речи, – и одновременной ее постепенной экстернализации в текст. Важно это потому, что такое в-живание и вы-сказывание не даются легко – это может быть неприятно, тоскливо, наконец страшно, – и потому, что сомнение в «правильности» происходящего предъявляется – снова – открыто, как, например, в стихотворении «#прощайречь», где речь идет о страхе перед тем, что «утопит в болтовне простые слова / Которые мы топчем внутри / Как в детстве / Пока не научимся говорить». Последняя часть книги представляет собой несколько коротких пьес – скорее в том значении, в каком о пьесах можно говорить применительно к Александру Введенскому. Здесь снова отчасти возвращается метрический стих, но пьеса у Шавловского представляет собой в наименьшей степени собственно пьесу, а в наибольшей – машину окончательного дробления речи, ее разделения между чужими и очевидным образом, не всегда человеческими голосами.
* * *
Введенский тут, видимо, не случаен. Предисловие – тот самый момент, когда возникает желание (искушение) сформулировать, хотя бы и для себя, ответ на школьный вопрос: о чем эта книга? В реальности предисловия, конечно, существуют не для этого. Да и вопрос этот, в сущности, странный – а применительно к книге стихов можно сказать даже невежливый и вообще неуместный. Но так, гипотетически, если бы кому-нибудь пришло в голову его задать, то отвечать, конечно, следовало бы цитатой из «Разговоров» Леонида Липавского:
А. В.: ‹…› Поэзия производит только словесное чудо, а не настоящее. ‹…› я убедился в ложности прежних связей, но не могу сказать, какие должны быть новые. Я даже не знаю, должна ли быть одна система связей или их много. И у меня основное ощущение бессвязности мира и раздробленности времени. А так как это противоречит разуму, то значит разум не понимает мира.
Новая книга стихов Константина Шавловского, которую вы держите сейчас в руках, – об этом.
Станислав Львовский
I. Мы живем в России
RRR
1
мы живем в россии
состоящей из снега и пыток
гостеприимства и пыток
книжных магазинов и пыток
подвалы ее трещат
под байкальским льдом
где плывут родители
вскрытые как конверт
с именем лауреата
листья снега тают на языках
на мясном прилавке
но рынок сомнения пуст
и продавщица хочет домой к шести
2
мы живем в россии
где любовь это преступление
с плохим алкоголем в парадной
на чердаке на диване с клопами
в туалетах на дискотеке
на спидах на даче сгоревшей
вместе с подшивкой журналов
искусство кино
в советских фильмах все и закончилось
осталась бутылка шампанского
пузыри лопаются
и жидкость по бедрам течет уходя в песок
3
мы живем в россии
где формы сопротивления
завернуты в радужный флаг
в тихий пикет
на кухне размером с кремль
где опыт заменяют наркотики
и можно касаться не проникая
быть кем захочешь
пока будущее гниет в голубой чашке
со следами красной помады
и мальчики в платьях
спят укрытые фасбиндеровским плащом
и последнее слово само собой
я люблю тебя /
вся власть животным /
скажи россия
Не-место
2019
между кардамоном и мельницей с перцем
деревянная фигурка будды
купленная в магазине «роза мира»
как говорится еще в прошлой жизни
скисшие пельмени «надежда»
изъятая из морозилки хурма
превращенная в мягкий шар
физика твердых тел
квантовый мост
мы действительно по нему ездим?
//
старуха на баре спрашивает:
ты голубой?
//
русские мужчины
думают о прошлом
говорят о прошлом
смотрят в прошлое
пишут и снимают о прошлом
прошлое безопасно
как мертвое тело
утопленная улика
закончившаяся война
когда белые мужчины монтируют
хронику блокадного ленинграда
похороны сталина
или выборы путина
насилуют
и осуждают насилие
в книгах статьях и фильмах
у них все время получается
х. й и война
все время одно и то же
прошлое на штыках
как шашлык в комарово
(41-го, 42-го)
я/мы
белые привилегированные консервы
ангелы бл. дь истории
марионетка с пивным животом
падает на руины
срезанная садовником
с розового куста
чик-чик
//
сладко еще дымит
небо над i
//
по коридору бессмертия ходит апостол петр
в шапочке из фольги
непризнанная республика РАЙ
ежедневно наносит удары
по превосходным
силам противника
//
пацаны возвращаются с кладбищ
им там тесно
а дома
родина дышит в затылок
собирается по сусекам
в колобок из ртути
принимает армейскую форму
за форму жизни
не хочу говорит быть ни женщиной ни мужчиной
не хочу говорить о войне и теле
как мне себя назвать
чтобы меня любили
//
эвелина гранд
бесфамильная инга
саманта килл билл
кабаре-шоу «картонный домик»
танцы дрэг-квин
в подворотнях коломенской и разъезжей
на перекрестке а. скидана
//
тайнопись подворотен
меф на гидре
порнхаб телеграм-каналы
турбович химсекс
шапочка из фольги
//
мечты об оргиях стали оргиями
шоколадные вафли
берлинским клубом
а революция
свистулькой прилипшей к губе
ни проглотить ни плюнуть
мы с тобой
одного пола ягоды
//
спать в гробу
разбухать как утопленница в фонтанке
медленным сном
где люди в мышиной форме
что-то ищут на книжных полках
жирными пальцами
водят по корешкам
между юнгером и буковски
/токсичная маскулинность/
находят мутный пакетик
с розовым веществом
//
таварищ милиписькин
бабер ни винават
мы ехали в сасиське
и врезались в шалаш
следующая станция
мельничный ничей
//
шок-видео
шимпанзе дрочит лягушкой
закадровый меф
смерть от чужого оргазма
подвиг во время чумы
//
мы забудем об этом раньше
чем фрукты
сморщатся на окне
Кольца Юпитера
Надежде
1
зеркало трогает ротдыхание гдераспускается паутинкой
федя был в амстердаме
в музее пыток
показывает на смартфоне другу
способы коммуникации
страдающего средневековья
дыба железная дева испанские сапоги
мы сидим на даче
где алексей балабанов
написал сценарий брата
первого несоветского фильма
с советским ресентиментом
и где теперь его сын
рассказывает о своей работе
на кинокартине стрельцов
про советского футболиста
которую снимает сын
алексея учителя
режиссера фильма матильда
про балерину кшесинскую
любовницу последнего
российского императора
капелька ртутина одеждахнового терминатора блестит
федя с другом артемом
приехали покататься
на сноубордах на новый зимний курорт
построенный братьями ковальчуками
соседями владимира путина
по дачному кооперативу озеро
основанному в 1996 году
на карельском перешейке
гостеприимный курорт игора
открылся ровно через 10 лет
тоже поблизости
под поселком сосново
бывшей финской рауте
снабжавшей железной рудой
петербургский чугунолитейный завод
с 1801 года наладивший выпуск
пушечных ядер и ружей
для русских войн
солдат с нехорошей болезньюспит на постусползая в кривой сугроб
через 200 лет
и через год после первых
выборов путина
в московском метро
развесили билборды
путин наш президент
данила наш брат
плисецкая наша легенда
сергей бодров погиб в кармадонском ущелье
в сентябре 2002-го
алексей балабанов ушел из жизни
в мае 2013-го
великая балерина умерла в 2015‐м
через год после того
как россия присоединила крым
остался путин
его шестой срок
и русские войны
о которых не говорят
кончился деньу трамвайного паркас выгоревшим кирпичным тяжелым лицом
в 2014 году еще было модно
спорить о том
что сказали бы
бодров и балабанов
про крым голодовку
олега сенцова
путина пытки лгбт
но за три года война
перестала быть новостью
она вписалась в хронику
текущих событий
и мертвецов больше
не призывают к ответу
по лестнице мебиуса убегаяв умирающий островзаправленный в брюки вождя
а балабанов все сказал
в своем последнем фильме
который мы смотрели
на премьере в венеции в 2012‐м
когда в россии
еще шли протесты
но болотное дело
уже готовилось в кабинетах
кремля и лубянки
на экране добрые люди
хотели счастья
пели у зимних костров
свободные песни
а потом
навсегда
исчезали
в своей нехорошей зиме
где чиновницы на каблукахпачкая новый ледчертят указы
только сугробы были поменьше
чем в январе 2019‐го в сосново
где мы сидим с федей и его другом
и они пьют свое пиво
обсуждая кино пытки настольные игры
а у меня немного кружится голова
от искусственного тепла
но стынет паника в талой водеи машина без номеровброшена на кольце
2
стынет паника в талой воде
и машина без номеров
брошена на кольце
где чиновницы на каблуках
пачкая новый лед
чертят указы
по лестнице мебиуса сбегая
в умирающий остров
заправленный в брюки вождя
кончился день
у трамвайного парка
с выгоревшим кирпичным тяжелым лицом
солдат с нехорошей болезнью
спит на посту
сползая в кривой сугроб
капелька ртути
на одеждах
нового терминатора блестит
но зеркало не забирает
дыхания паутина
пуста
Красный ковчег
(нарратив о спасении воображения)
* * *
носочки связанные
для маленького мертвеца
когда мы умерли маме приснился сон про двух голубей
и один говорит
мамочка у нас ножки мерзнут
а второй клювом своим
тик-так
холодно безымянным
детям выброшенным в
кости без государства
* * *
птица пошла за смертью
яйца свои клевать
кто не спрятался отпускать
а кто спрятался виноват
в голоса матерей одевали
и топили во внутреннем море
беззаконных щенков
гостеприимства
* * *
четыре буквы по вертикали
ШИЕС ОМОН
переработка
ангелов судного дня
в новые песни
* * *
корнеплод
мать-и-матрицы
с алым цветом внутри
птица с коричневым жалом
над свалкой чудес
стрелки
в кукурусском поле
* * *
опыт и страх
расстелили газетку за гробом
маленьким третьего ищут
потеряли закон
а все равно пьют и поют
вместе
будто бы сон
* * *
тсссс
прислушаемся
* * *
робин-бобин-барабек
скушал 21 век
его первое тело ело
а второе тело пело
пи-пи-пи
пи-пи-пи
пи-пи-пи
нефтяная игла
в животе суверена
корабли пропускает
немая сирена
/а перед тем как
согласно предсказанию
сбросить перья и утопиться
на высохшей коже своих жертв
она записывает текст
своей лучшей песни/
* * *
пи-пи
пи-пи
пи-пи
/будильник судного дня/
* * *
преждевременный текст
на горячий живот
упал
* * *
глотай
* * *
говорящий пуст
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































