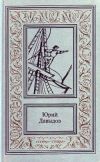Текст книги "Морские рассказы (сборник)"

Автор книги: Константин Станюкович
Жанр: Литература 19 века, Классика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 12 страниц)
И когда однажды мичман, заведующий кают-компанейским столом, заглянув в загородку, спросил Коноплева:
– Что это значит? Все поросята как следует откормлены, а этот белый совсем тощий?
То Коноплев с самым серьезным видом ответил:
– Совсем нестоящий боровок, ваше благородие!
– Почему нестоящий?
– В тело не входит, ваше благородие. Вовсе без жира… И для пищи не должно быть скусный.
– Что ж он, не ест, что ли?
– Плохо пищу принимает, ваше благородие.
– Отчего?
– Верно, к морю не способен, ваше благородие.
– Странно… Отчего же другие все жиреют? Ты смотри, Коноплев, подкорми его к празднику.
– Слушаю, ваше благородие. Но только, осмелюсь доложить, вряд ли его подкормить как следовает к празднику… Разве попозже в тело войдет, ваше благородие!
IV
Между тем время шло.
Северные и южные тропики были пройдены, и клипер уже шел по Индийскому океану, поднимаясь к экватору.
Миновали красные деньки спокойного благодатного плавания в вековечных, ровно дующих пассатах, при чу́дной погоде, при ослепительном солнце, бирюзовом высоком небе, в этом отливающем синевой, тихо переливающемся ласковом океане, слегка покачивающем клипер на своей мощной груди.
Снова наступила для моряков жизнь, полная неустанной работы, тревог и опасностей. Приходилось постоянно быть начеку, с напряженными нервами. Индийский океан, известный своими бурями и ураганами, принял моряков далеко не ласково с первого же дня вступления «Казака» в его владения и чем дальше, тем становился угрюмее и грознее: «валял» клипер с бока на бок, поддавал в корму и опускал нос среди своих громадных валов с седыми пенящимися верхушками. И маленький «Казак», искусно управляемый моряками, ловко избегал этих валов, то поднимаясь на них, то опускаясь, то проскальзывая между ними, и шел себе вперед да вперед среди пустынного сердитого океана, под небом, покрытым мрачными клочковатыми облаками, из-за которых иногда вырывалось солнце, заливая блеском серебристые холмы волн.
И ничего кругом, кроме волн и неба.
Почти все это время «Казак» не выходил из рифов и частенько-таки выдерживал штормы под штормовыми парусами. Жесточайшая качка не прекращалась, и на бак часто попадали верхушки волн. Нередко в кают-компании приходилось на обеденный стол накладывать деревянную раму с гнездами, чтобы в сильной качке не каталась посуда. Бутылки и графины, завернутые в салфетки, клали плашмя. Вестовые, подавая кушанье, выписывали мыслете[22]22
Выписывать м ы с л е́ т е – идти заплетаясь, зигзагами (устар.). («Мысле́те» – устарелое название буквы «М».)
[Закрыть], и съесть тарелку супа надо было с большой ловкостью, ни на секунду не забывая законов равновесия. Выдавались и такие штормовые деньки, в которые решительно невозможно было готовить в камбузе (судовой кухне), и матросам и офицерам приходилось довольствоваться сухоедением и с большим нетерпением ожидать конца этого длинного перехода. Уже месяц прошел… Оставалось, при благоприятных условиях, еще столько же.
Бо́льшая часть «пассажиров» была уже съедена. Их оставалось немного, и тех спешили уничтожить, так как многие из них не переносили сильной качки и могли издохнуть.
Коноплеву уже не было прежних забот и не на чем было проявить свою деятельность. Не без грустного чувства расставался он с каждым «пассажиром», который назначался на убой, и никогда не присутствовал при таком зрелище. «Пассажиры» редели, и Коноплев, казалось, еще с большей заботливостью и любовью ходил за оставшимися.
Многие только дивились такой заботливости о животных, которых все равно зарежут.
– Чего ты так стараешься о «пассажирах», Коноплев? – спрашивал однажды Артюшкин, в ведомстве которого оставалось всего лишь шесть гусей. Остальная птица давно была съедена.
– Как же не стараться о животной! Она тоже Божья тварь.
– Да ведь много ли ей веку? Сегодня ты примерно ее напоил, накормил, слово ласковое сказал, а завтра ей крышка. Ножом Андреев полоснет.
– Ничего ты себе паренек, Артюшкин, а башкой, братец ты мой, слаб, вот что я тебе скажу. И всякому из нас крышка будет. Кому раньше, кому позже. Так разве из-за самого этого тебя и не корми, и не пои, и дуй тебя по морде, скажем, каждый день?.. Мол, все равно помрет. Еще больше жалеть нужно животную, кою завтра заколют. Пусть хоть день, да хорошо проживет… И вовсе ты глупый человек, Артюшкин. Поди лучше да гусям воды принеси. Ишь шеи вытягивают и гогочут: пить, значит, просят. И ты должен это понимать и стараться.
– Это они зря кричат.
– Зря? Ты вот, глупый, зря мелешь, а птица умней тебя… Неси им воды, Артюшкин.
Наконец палуба «Казака» почти совсем очистилась от «пассажиров». Оставались только: черный бык, с которым Коноплев давно уже вел дружбу и которого называл почему-то Тимофеичем, свинья с семейством и шесть гусей. Этих «пассажиров» приберегали к празднику, тем более что все они отлично переносили качку, а пока морякам приходилось довольствоваться солониной и консервами.
Чем ближе подходил праздник, тем озабоченнее и серьезнее становился Коноплев и чаще обглядывал со всех сторон Ваську. Хотя он благодаря особенным заботам своего покровителя и не жирел и был относительно не особенно соблазнительным для убоя, хоть и довольно видным и бойким боровком, а все-таки… неизвестно, какое выйдет ему решение и не пропадут ли втуне все заботы и таинственные уроки?
Такие мысли нередко приходили в последнее время Коноплеву и волновали его.
Тем не менее он по-прежнему занимался со своим любимцем в послеобеденный час в укромном уголке кубрика, заботился о его моционе и с какой-то особенной нежностью чесал Васькины спину и брюхо и называл ласковыми именами.
И белый боровок, значительно развившийся от общения с таким умным и добрым педагогом, казалось, понимал и ценил заботы и ласку своего наставника и в ответ на ласку благодарно лизал шершавую руку матроса, как бы доказывая, что и свиная порода способна на проявление нежных чувств.
V
Настал сочельник.
Моряки уже плыли на «Казаке» пятьдесят пятый день, не видевши берегов, и приближались к экватору. Еще дней пять-шесть – и Батавия, давно желанный берег.
Океан не беснуется и милостиво катит свои волны, не пугая высотой и сединой верхушек. Ветер легкий, «брамсельный», как говорят моряки, и позволяет нести «Казаку» всю его парусину, и он идет себе узлов по шесть-семь в час. Бирюзовая высь неба подернута белоснежными облачками, и ослепительно жгучее солнце жарит во всю мочь.
И моряки довольны, что придется встретить спокойно праздник, хотя и среди океана, под южным солнцем и при адской жаре – словом, при обстановке, нисколько не напоминающей рождественские праздники на далекой родине, с трескучими морозами и занесенными снегом елями.
Приготовления к празднику начались с раннего утра. Коноплев, встревоженный и беспокойный, еще накануне простился с Тимофеичем ласковыми словами, когда в последний раз ставил ему на ночь воду, зная, что наутро его убьют.
Он даже нежно прижал свое лицо к морде животного, к которому так привык и за которым так заботливо ухаживал, и быстро отошел от него, проговорив:
– Прощай, Тимофеич… Ничего не поделаешь… Всем придет крышка!
Ранним утром Коноплев нарочно не выходил наверх, чтобы не видеть предсмертных мук быка. Он поднялся наверх уже тогда, когда команда встала и вместо Тимофеича была лишь одна кровавая лужа. Гуси тоже были заколоты. Оставались живы только четыре боровка. Мать их была зарезана еще два дня тому назад, и окорока уже коптились.
Убирая хлев и задавая корм последним «пассажирам», которых офицерский кок (повар), по усиленной просьбе Коноплева, собирался зарезать попозже, Коноплев был очень взволнован и огорчен и старался не смотреть на своего любимца и ученика, встретившего его, по обыкновению приподнявшись на задние лапы, с нежным похрюкиваньем веселого, беззаботного боровка, не подозревающего о страшной близости смертного часа.
Судьба Васьки должна была решиться в восемь часов утра, как только встанет веселый и жизнерадостный мичман Петровский, заведующий хозяйством кают-компании. Но надежды на него были слабы.
По крайней мере, ответ кока, перед которым горячо предстательствовал за Ваську Коноплев еще вчера, обещая, между прочим, пьянице повару угостить его на берегу в полное удовольствие ромом или араком[23]23
А р а́ к – крепкий спиртной напиток. Приготавливается из сока кокосовой или финиковой пальмы или из риса.
[Закрыть] (чего только пожелает), был не особенно утешительный. Кок, правда, обещал не резать поросят, пока не встанет мичман, и похлопотать за боровка, но на успех не надеялся.
– Главная причина, – говорил он, – что надоели господам консервы, и опять же праздник… И мичман хочет отличиться, чтобы обед был на славу и чтобы всего было довольно. На поросят очень все льстятся. Оно точно, ежели с кашей, то очень даже приятно! И какую я ему причину дам насчет твоего Васьки? Правда, забавный боровок. Ловко ты его приучил служить, Коноплев!
– Служить?! Он, братец ты мой, не только служить… Он всякие штуки знает! Я завтра для праздника показал бы, каков Васька. Матросики ахнут! – проговорил Коноплев в защиту Васьки, невольно открывая коку тайну сюрприза, который он готовил. – А ты доложи, что боровок, мол, тощий… Им и трех хватит, слава богу.
– Доложить-то я доложу, только вряд ли…
В это утро Коноплев не раз бегал к коку, напоминая ему о его обещании доложить и суля ему не одну, а целых две бутылки рому или арака. Наконец перед самым подъемом флага кок сообщил Коноплеву, что мичман сам придет смотреть боровка и тогда решит.
После подъема флага мичман прошел на бак и, нагнувшись к загородке, где находились боровки, внимательно оглядывал Ваську, решая вопрос: резать его или не резать.
Коноплев замер в ожидании.
Наконец мичман поднял голову и сказал Коноплеву:
– Хоть он и не такой жирный, как другие, а все-таки ничего себе. Зарезать его!
На лице матроса при этих словах появилось такое выражение грусти, что мичман обратил внимание и, смеясь, спросил:
– Ты что это, Коноплев? Жалко тебе, что ли, поросенка?
– Точно так, жалко, ваше благородие! – с подкупающей простотой отвечал Коноплев.
– Почему же жалко? – удивленно задал вопрос офицер.
– Привык к нему, ваше благородие, и он вовсе особенный боровок… Ученый, ваше благородие.
– Как – ученый?
– А вот извольте посмотреть, ваше благородие!
С этими словами Коноплев достал Ваську из загородки и сказал:
– Васька! Проси его благородие, чтоб тебя не резали. Служи хорошенько!
И боровок, став на задние лапы, жалобно захрюкал.
Мичман улыбнулся. Стоявшие вблизи матросы засмеялись.
– Васька! Засни!
И боровок тотчас же послушно лег и закрыл глаза.
– Это ты так его обучил?
– Точно так, ваше благородие. Думал, ребят займу на праздник. Он, ваше благородие, многому обучен. Смышленый боровок! Васька! Встань и покажи, как матрос пьян на берегу бывает.
И Васька уморительно стал покачиваться со стороны на сторону.
Впечатление произведено было сильное. И мичман, понявший, какое развлечение доставит скучающим матросам этот забавный боровок, великодушно проговорил:
– Пусть остается жить твой боровок, Коноплев!
– Премного благодарен, ваше благородие! – радостно отвечал Коноплев и приказал Ваське благодарить.
Тот уморительно закачал головой.
VI
Рождество было отпраздновано честь честью на «Казаке».
День стоял роскошный. Томительная жара умерялась дувшим ветерком, и поставленный тент защищал моряков от палящих лучей солнца.
Приодетые, в чистых белых рубахах и штанах, побритые и подстриженные, матросы слушали обедню в походной церковке, устроенной в палубе, стоя плотной толпой сзади капитана и офицеров, бывших в полной парадной форме: в шитых мундирах и в блестящих эполетах. Хор певчих пел отлично, и батюшка по случаю того, что качка была незначительная, не спешил со службой, и матросы, внимательно слушая слова молитв и Евангелие, истово и широко крестились, серьезные и сосредоточенные.
По окончании обедни вся команда была выстроена наверху во фронт, и капитан поздравил матросов с праздником, после чего раздался веселый свист десяти дудок (боцмана и унтер-офицеров) – свист, призывающий к водке, который матросы не без остроумия называют «соловьиным». По случаю праздника разрешено было пить по две чарки вместо обычной одной.
После водки все уселись артелями на палубе у больших баков (мис) и в молчании принялись за щи со свежим мясом, уплетая его за обе щеки после надоевшей солонины. За вторым блюдом, пшенной кашей с маслом, пошли разговоры, шутки и смех. Вспоминали о России, о том, как теперь холодно в Кронштадте, весело говорили о скором конце длинного, надоевшего всем перехода, о давно желанном береге и, между прочим, толковали о боровке, которого так ловко выучил Коноплев, что смягчил сердце мичмана, и дивились Коноплеву, сумевшему так выучить поросенка.
Но никто из матросов и не догадывался, какое доставит им сегодня же удовольствие Васька, сидевший, пока команда обедала, в новом маленьком хлевушке, устроенном Коноплевым. Ходили слухи, распущенные коком, что Коноплев готовит что-то диковинное, но сам Коноплев на вопросы скромно отмалчивался.
Наконец боцман просвистал команде отдыхать, и скоро по всему клиперу раздался храп спящих на палубе матросов, и только одни вахтенные бодрствовали, стоя у своих снастей и поглядывая на ласковый океан, на горизонте которого белели паруса попутных судов.
Бодрствовал и Коноплев, озабоченно и весело готовясь к чему-то и проводя послеобеденный час в таинственных занятиях с Васькой на кубрике в полном уединении. По-видимому, эти занятия шли самым удовлетворительным образом, потому что Коноплев очень часто похваливал боровка и высказывал уверенность, что «они не осрамятся».
Тем не менее надо сознаться, что, когда до ушей Коноплева донесся свисток боцмана, призывавший матросов вставать, и затем раздалась команда, разрешавшая петь песни и веселиться, Коноплев испытывал волнение, подобное тому, какое испытывает репетитор, ведущий своего ученика на экзамен, или антрепренер перед дебютом подающего большие надежды артиста.
– Ну, Вась, пойдем…
Взрыв смеха, восторга и удивления раздался среди матросов, когда на баке в сопровождении Коноплева появился боровок Васька, одетый в полный матросский костюм и в матросской шапке, надетой слегка на затылок. По-видимому, Васька вполне понимал торжественность этого момента и шел мелкой трусцой с самым серьезным видом, чуть-чуть повиливая своим куцым хвостиком.
Плотная толпа сбежавшихся матросов тотчас же окружила Коноплева с его учеником и продолжала выражать шумно свое одобрение.
– Ишь ведь выдумал же что, пес тебя ешь! – сочувственно произнес боцман Якубенков, находясь как самый почетный зритель впереди.
– Ну, Вася, потешь матросиков, чтоб они не скучали. Покажи, какой ты у меня умный.
Предпослав это предисловие, Коноплев начал представление.
Действительно, боровок оказался необыкновенно умным, умевшим делать такие штуки, которые впору были, пожалуй, только собаке.
Он становился на задние лапы, танцевал, перепрыгивал через веревку, носил поноску, «умирал» и «воскресал», показывал, как ходит пьяный матрос, хрюкал по приказанию и, наконец, при восклицании Коноплева: «Боцман идет!» – со всех ног бросался к Коноплеву и прятался между его ногами.
Восторг матросов был неописуемый. Это представление было настоящим удовольствием для моряков, скрашивающим однообразие и скуку их тяжелой жизни.
Нечего и говорить, что все номера были повторены бесчисленное число раз, и после этого все считали долгом потрепать Ваську по спине, и все были признательны Коноплеву.
– И как ты это так обучил его, Коноплев? Ай да молодчина! Ай да дошлый!
Но сияющий от торжества своего любимца Коноплев скромно отклонял от себя похвалы и приписывал все Ваське:
– Он, братцы, башковатый. Страсть какой башковатый! Чему угодно выучится. И не надо ему грозить… Одним добрым словом все понимает!
Когда в кают-компанию донеслась весть о диковинном представлении, Коноплева с Васькой потребовали туда.
И там представление имело такой большой успех, что по окончании все офицеры единогласно объявили, что боровка Ваську дарят команде. И когда старший офицер выразил подозрение насчет благопристойности Васьки, то Коноплев поспешно ответил:
– Обучен, ваше благородие, очень даже обучен, ваше благородие!
Таким образом, разрешилось и это сомнение, и с того дня Васька сделался общим любимцем матросов и во все время плавания доставлял им немало удовольствия. Когда через три года «Казак» вернулся в Кронштадт, Васька, уже большой боров, по всей справедливости был отдан в собственность Коноплеву.
И судьба матроса изменилась.
Мичман Петровский, уже произведенный в лейтенанты, взял Коноплева в денщики и избавил его от постылого плавания. И Коноплев скоро перебрался с Васькой на квартиру лейтенанта в Кронштадте и зажил вместе со своим любимцем относительно спокойно в ожидании отставки, когда можно будет уйти в свою родную деревушку.
1897

Матросик

I
Двое суток русский военный клипер «Жемчуг» «штормовал», как говорят моряки.
Двое суток он выдерживал жестокий ураган в Индийском океане, вблизи западного берега Северной Африки, встретив врага со спущенными стеньгами, под несколькими штормовыми парусами, с наглухо задраенными люками и с протянутыми на верхней палубе леерами.
Положение было серьезное.
В те ужасные долгие часы, когда ураган напрягал все свои силы, с диким воем потрясая мачты и завывая в трепыхавшихся снастях, и когда громадные, высокие и пенящиеся волны с бешенством нападали на маленький клипер со всех сторон, вкатываясь верхушками на палубу, и кидали его, словно щепку, готовые его поглотить, – в такие часы, казавшиеся вечностью, смерть витала перед глазами моряков. Эти водяные горы казались неминуемой общей братской могилой. И сердца даже бывалых и мужественных людей замирали в предсмертной тоске, хотя лица их и были сурово-спокойны и напряженно-серьезны.
К вечеру вторых суток буря несколько затихла, и все на клипере радостно и благодарно вздохнули, понимая, казалось, с большой ясностью, от какой избавились опасности и как были близки к смерти.
Клипер, хорошо построенный, не особенно пострадал во время трепки. Течи в трюме прибавилось, но немного. В нескольких местах волны проломали борт; офицерский катер и капитанский вельбот были сорваны с боканцев в океан – вот и всего.
Несмотря на то что буря заметно стихала и «Жемчуг» был уже вне опасности, и капитан, и старший штурман, видимо чем-то озабоченные, оба с истомленными, осунувшимися серьезными лицами, не сходили с мостика, тревожно вглядываясь в мрак наступившей ночи.
Казалось, теперь можно было бы поставить достаточно парусов и нестись со свежим попутным ветром к югу, но капитан, небольшой сухощавый человек лет под сорок, довольно сурового вида, вместо того приказал на ночь поставить только зарифленные марселя, бизань и фор-стеньги-стаксель и держаться в крутой бейдевинд, чтобы клипер, так сказать, топтался на месте.
Такое решение принято было капитаном потому, что он не знал точно места, где находится в данное время «Жемчуг». В течение двух суток урагана солнце ни на минуту не показывалось, и, следовательно, нельзя было по высоте солнца определить широту и долготу места. Не видно было ни луны, ни звезд, по которым тоже возможно «определиться», как говорят моряки.
А между тем ураган мог отнести клипер к берегам Африки, берега же эти были негостеприимны. Много рифов и подводных мелей было около них, и «Жемчуг», избавившись от одной опасности, легко мог набежать на другую, едва ли не худшую.
И теперь ночь была черна. На подернутом облаками небе ни одной звездочки.
Среди этой тьмы клипер покачивался на волнах, все еще сердито разбивающихся о бока «Жемчуга», и вахтенный офицер, молодой мичман, то и дело вскрикивал часовым на баке:
– Вперед смотреть!
Нередко тоже раздавался его молодой, звонкий голос:
– На марса-фалах стоять!
На эти предупреждающие окрики и часовые на баке, и вахтенные матросы, стоящие у марса-фалов, тотчас же отвечали:
– Есть, смотрим! Есть, стоим!
– Все равно ничего не увидать в этой проклятой тьме! – сердито проворчал капитан себе под нос, ни к кому не обращаясь. И минуту спустя приказал вахтенному офицеру: – Велите разводить пары́!
– Есть!
Мичман послал рассыльного за старшим механиком и вслед за тем дернул ручку машинного телеграфа.
Капитан почти не спал двое суток, позволяя себе вздремнуть в своей каюте час-другой, во время которых на мостике капитана заменял старший офицер.
И теперь его жестоко клонило ко сну.
Но он простоял еще два часа, пока не были готовы пары, и только тогда решил сойти отдохнуть.
Перед уходом он тихо заметил старшему штурману, стоявшему у компаса:
– Береженого и Бог бережет, Степан Степаныч!
– Совершенно верно-с, Иван Семеныч! – подтвердил старший штурман.
– И если, не дай бог, нанесет нас на мель…
Старый штурман угрюмо сплюнул и сурово сказал:
– Зачем наносить!
– Так все же машина поможет. Не так ли, Степан Степаныч?
Судя по тону голоса капитана, ему очень хотелось слышать от старого, опытного, много плававшего штурмана подтверждение своих слов, которым он и сам едва ли очень верил.
Что, в самом деле, могла сделать машина, да еще не особенно сильная, при таком свежем ветре и громадном волнении?
– Конечно-с! – лаконически ответил старший штурман.
Но его лицо, слабо освещенное светом, падавшим от компаса, старое, угрюмо-спокойное лицо, густо поросшее седыми баками, по-видимому, нисколько не разделяло надежд капитана на действительность помощи машины.
И словно бы желая, в свою очередь, успокоить свою тайную тревогу и тревогу капитана, он прибавил:
– Положим, ураган жарил по направлению к берегу, но все же в начале урагана мы были в пятидесяти милях от берега и держались в бейдевинд… Вот, Бог даст, завтра определимся. А теперь вам выспаться следует, Иван Семеныч!
– То-то очень спать хочется. Пойду вздремнуть. – И, обращаясь к вахтенному офицеру, громко и властно сказал: – Хорошенько вперед смотреть! Как бы берега близко не было… Чуть что заметите, дайте знать!
– Есть! – ответил мичман.
Капитан ушел и, не раздеваясь, бросился, как был, в кожане поверх сюртука и в фуражке, на диван и мгновенно уснул.
II
Притулившись на баке у наветренного борта, кучка вахтенных матросов, одетых в кожаны, с зюйдвестками на головах, тихо лясничала.
Чей-то громкий и насмешливый голос говорил:
– Ну разве не дурак ты, Матросик?! Как есть дурак!
Тот, кого звали Матросиком, тихо засмеялся и простодушно ответил:
– Дурак, значит, и есть.
– Да как же не дурак! Сидел бы теперь у себя дома, в деревне, а заместо того взял да и за другого на службу пошел… И хоть бы за деньги, а то дарма! Небось ничего не дали?
– Такая причина была, – оправдывался Матросик.
– Нечего сказать, причина! Вовсе прост ты, вот и причина!
Тот, кого называли Матросиком, словно бы оправдываясь, проговорил:
– Этот самый парень, заместо которого я пошел, братцы, только что поженился и очень приверженный к земле был мужик… Коренной в семье. Без его разор был бы. И так, братцы вы мои, убивались по нем отец с матерью да супруга, значит, евойная, что жалость взяла. Мне, думаю, что? Одинокий сирота, живу в работниках… Ну, таким родом и явился я к барину и в ноги: дозвольте, мол, в некрута вместо Васьки Захарова! Барин даже очень был доволен… Вот она, братцы, какая причина! – закончил Матросик.
Он проговорил эти слова необыкновенно просто, словно бы и поступок его был самый простой и он не сознавал, сколько в нем было доброты и самоотвержения.
За эту бесконечную доброту и готовность помочь всякому на «Жемчуге» все матросы любили этого первогодка. Звали его не по фамилии – фамилия его была Кушкин, – а Матросиком вследствие того, что Кушкин однажды, вскоре после назначения его на «Жемчуг», на вопрос боцмана: «Кто ты такой?» – вместо того чтобы ответить: «Матрос второй статьи Илья Кушкин», простодушно ответил: «Матросик».
Так с тех пор на клипере его все прозвали Матросиком.
И в самом деле, прозвище это подходило к Кушкину.
Это был маленького роста, худощавый, почти смуглый молодой паренек лет двадцати двухтрех, с пригожим, жизнерадостным, добрым лицом, главным украшением которого были большие темные глаза, полные какой-то чарующей ласки и привета. Когда Матросик улыбался, широко раскрывая свой рот с красными сочными губами и показывая ослепительно белые зубы, то невольно улыбались и те, на кого он смотрел.
Вся его маленькая фигурка была ладная и необыкновенно располагающая. Ходил он всегда веселой и легкой походкой и любил одеваться аккуратно и опрятно. Даже его желтоватого цвета руки с тонкими, слегка искривленными пальцами не были пропитаны смолой и грязны, как у других матросов. Матросик, видимо, щеголял опрятностью.
Уроженец одной из северных губерний, Илья Кушкин еще с отрочества плавал по бурному Ладожскому озеру и, поступивши в матросы и затем назначенный в кругосветное плавание на «Жемчуг», скоро сделался хорошим и исправным матросом.
Когда Матросик окончил свой рассказ, кто-то из кучки спросил:
– Так тебе, Матросик, ничего и не дали за твою простоту?
– Предлагали, братцы. Пятичницу давали.
– А ты не взял?
– То-то не взял. Бедные мужики эти Захаровы… Как с их взять? Однако угощение принимал – страсть угощали, братцы! А молодая баба, Васькина жена, так та мне две рубахи ситцевые справила. «Вовек, – говорит, – не забуду, Илья, что ты моего мужика при мне оставил». Небось люди добро помнят! – прибавил Матросик.
С мостика то и дело раздавались окрики вахтенного офицера. То он командовал: «Вперед хорошенько смотреть!», то: «На марса-фалах стоять!»
Эти частые громкие окрики среди ночной тишины несколько раздражали матросов.
– И чего это мичман зря суетится да глотку дерет? – заметил кто-то.
– А может, не зря, – промолвил Матросик.
– Коли встречных судов боится, все равно не увидишь скоро. Слава богу, хоть штурма прикончилась, а все-таки нехорошая ночь! – раздался чей-то голос.
– То-то вахтенный и опасается, что ночь!.. И пары́ по той же причине… И ходу нам нет! – сказал Матросик.
– По какой причине?
– А по той самой, братцы, что неизвестно, в какие места нас буря занесла. Вот он и опаску имеет. В море, братцы, завсегда надо опаску иметь. Я хоть и по озеру ходил, а Бога приходилось-таки часто вспоминать! – проговорил Матросик.
С этими словами он повернул голову к океану и стал зорко всматриваться вперед, в кромешную тьму, окружавшую со всех сторон покачивавшийся на волнах клипер.
Смотрел Матросик минут пять – десять и вдруг крикнул неестественно громким голосом:
– Бурун под носом!
– Марса-фалы отдать!.. – тревожно скомандовал вахтенный мичман.
Марсели бесшумно упали, и в то же мгновение «Жемчуг» остановился, врезавшись в гряду, и беспомощно стал биться, словно птица, попавшая в силки.
III
Капитан мгновенно проснулся и через минуту был на мостике. Старший офицер и старший штурман были там же. Все офицеры и все матросы, наскоро одевшись, выскочили наверх.
Клипер било жестоко о камни, и машина, работавшая полным ходом, не могла его сдвинуть с места. Видно было, что «Жемчуг» засел плотно.
Все были в подавленном состоянии.
Ветер дул свежий, и волны кружились вокруг клипера. Кругом – кромешная тьма.
Прошло бесконечных десять минут, и снизу дали знать, что течь увеличивается. Пущены были в ход все помпы, но вода тем не менее все прибывала. Положение было критическое, и не было никакой возможности высвободиться из него. И помощи ожидать было не от кого.
Однако на всякий случай зарядили орудия, и через каждые пять минут раздавались выстрелы, разносившие по океану весть о бедствии.
Но никто этих выстрелов, казалось, не слыхал.
Верхняя и нижняя палубы осветились фонарями. Молчаливые и сосредоточенно-серьезные матросы торопливо вытаскивали снизу на палубу провизию, паруса, запасный рангоут, разные вещи. У денежного сундука, вынесенного из капитанской каюты, стоял часовой.
Несмотря на работу всех помп, клипер постепенно наполнялся водой через полученные пробоины от ударов о камни гряды, в которой он засел. О спасении клипера нечего было и думать, и потому по приказанию капитана принимались меры для спасения людей и для обеспечения их провизией.
Но ночью при громадном волнении спустить шлюпки и посадить на них людей было бы безумием. Приходилось ждать рассвета.
И в голове каждого моряка, несмотря на спокойные, по-видимому, голоса капитана и старшего офицера, отдававших приказания, проносилась ужасная мысль: «Не исчезнет ли „Жемчуг“ в волнах до рассвета?»
И многие тихо молились.
Наконец забрезжило, и из сотни человеческих грудей вырвался крик радости. Громкое «ура» разнеслось по океану, споря с ревом ветра и гулом бурунов.
Высокий, казалось отвесный, берег неясными контурами выделялся близко, совсем близко. Между ним и грядой, на которой бился «Жемчуг», было не более пятидесяти сажен.
Но радость быстро сменилась отчаянием. Ветер не стихал; волны с грозным ревом разбивались о берег. Буруны пенились вокруг «Жемчуга». Все понимали, что спасение на шлюпках невозможно.
И близкий берег казался недостижимым, а смерть – неминуемой.
Выстрелы о помощи раздавались по-прежнему, но не вселяли надежды, хотя и привлекли на берег кучку арабов, которых можно было рассмотреть в бинокли.
Но что они могли сделать? Как помочь?..
IV
Рассвело.
Утро было серое и печальное. Низкие темные тучи заволакивали небо. Ветер не стихал. Волны по-прежнему были громадны.
«Жемчуг» по временам трещал от ударов, но еще держался на воде.
Утренняя молитва, пропетая, по обыкновению, всей командой, звучала покорным отчаянием.
Бледный, казавшийся стариком капитан, не сомневавшийся почти, что жена и трое его детей, оставшихся в Кронштадте, сегодня сделаются сиротами, все-таки не показывал ни перед кем своего отчаяния и распоряжался, словно бы надеялся на спасение.
И он обошел палубу и говорил, ободряя матросов:
– Скоро ветер стихнет, и мы на шлюпках доберемся до берега. Не робей, молодцы ребята!
И «молодцы ребята» как будто верили – так им хотелось верить! – и отвечали:
– Рады стараться, вашескобродие!
Вернувшись на мостик, капитан сказал старшему офицеру:
– Если бы конец подать на берег и на этом конце укрепить канат!.. Это единственная возможность спасти людей. Но как подать? Шлюпку немедленно зальет. Ветер не стихает. Барометр падает.
– Разве вплавь, Иван Семеныч?
– Вплавь? Но кто решится? Это верная гибель. Если чудом и доплывет, то разобьется о камни. Весь берег ими усеян. Но, во всяком случае, надо попробовать. Арабы могут перехватить конец, и тогда мы спасены. Прикажите поставить людей во фронт. Я вызову охотников.
Когда люди выстроились, капитан подошел к фронту и, объяснив, в чем дело, крикнул:
– Есть ли охотники выручить всех нас, ребята? Если есть, выходи.
Никто не шелохнулся. Всякий с ужасом взглядывал на пенистые волны, гребешки которых вкатывались на палубу.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.