Текст книги "Вот пришел великан (сборник)"
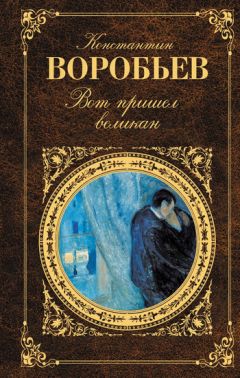
Автор книги: Константин Воробьёв
Жанр: Русская классика, Классика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 36 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Уже почти ночью я поскребся к тетке на веранду. В Камышинке она раз десять за вечер покликала б меня, а тут за все время ни разу не позвала, не поискала. Боялась, наверно, кричать. Да и некогда ей… Она тихонько отворила мне дверь, пощупала в полутьме мой набрякший нос и спросила:
– Ревел, что ль?
По сырому, осипшему шепоту я догадался, что она тоже недавно плакала, и не стал признаваться.
– Гречишного чибричка хочешь?
Холодный клеклый чибрик горчил и прилипал к деснам. Я ел его, стоя у дверей, и как только чибрик кончился, тетка сказала:
– Горячие-то они смачнее. Со сковороды если…
– А гдей-то ты взяла? – спросил я.
– Да тут… одна знакомая баба дала, – с запинкой ответила тетка.
– Дунечка, наверно, – догадался я, а тетка отвернулась и всхлипнула. Я притянул ее к себе за фартук и сказал то, о чем давно хотел ей сказать: – Пойдем домой, слышишь? Я не хочу тут больше… А за сундуком потом когда-нибудь приедем. С Момичем…
Она вырвала из моих рук подол фартука.
– Ты ж большой! Подумай только: как же мы явимся? Ить нас засмеют там! Проходу не дадут… Пешком, скажут, прибегли! Стыдобушки не оберешься! Ох, головушка моя горькая!..
– Момич не станет смеяться! – сказал я.
– Ох, нет, Сань! Давай потерпим… До Покрова хоть погодим. А по осени соберемся и… В непогоду нам будет справней. Люди тогда по домам сидят, а мы подгадаем под вечер… Протопим хату, каганец засветим, и все узнают, что мы дома. Зимовать, скажем, пришли. Какая ж тут оказия! Ну давай погодим! За-ради Христа прошу!
Мы посчитали, сколько осталось до Покрова дня, и я побежал спать. На крыльце коммуны в вершинах колонн что-то металось и посвистывало – летучие мыши, наверно, и я подумал, как это председатель Лесняк не боится там один, наверху? А если пролезть к нему и – «ррр!», взять Царев кожух, надеть шерстью наружу и – «ррр!».
В общежилке было темно, хоть выколи глаз. Зюзя сидел на своей койке и чего-то ждал. Я юркнул под одеяло, а он махнул на меня рукой – «тихо!» – и сказал в пахучую темноту:
– Это шкет тут зашел! Давай!..
В общежилке так было неживо тихо, что я испугался – чего надо давать? Зюзя опять сказал: «Ну, давай», – и тогда Кулебяка негромко и жалобно запел:
В воскресенье мать-старушка
К воротам тюрьмы пришла
И в платке родному сыну
Передачу принесла.
Д-передайте д-передачу,
А то люди говорят…
– Игвень, а Игвень! – предостерегающе позвал бывший повар. Кулебяка замолк.
– Ну чего ты там ветреешь? – озлело спросил Зюзя.
– А то. Тюрем-то тепереча нету? Нету! – сказал бывший повар.
– Ну?
– Вот и «ну». Теперича они называются домзаками!
– Человек про тюрьму спевал, а не про зак твой, кляп ты моржовый! – заглушенно, из-под подушки, видно, проговорил кто-то в конце общежилки.
– А мне какое дело, – смиренно сказал бывший повар, и тогда Кулебяка позвал его протяжно и ласково:
– Сём, а Сём!
– А! – готовно и доверчиво отозвался тот.
– Хрен на! – сказал Кулебяка. – А завтра придешь, остальное возьмешь!
На женской половине захихикали, а бывший повар восхищенно и завистливо сказал:
– Ну и бродяга! Ну и сукин сын!
– Игвень! А чего остальное аж завтра? Пускай бы разом все забирал! – крикнул Зюзя.
Уже сквозь сон я слыхал, как одна коммунарка говорила другой:
– Не бугородица, а Бо-го-родица. Бога потому что родила, а не бугор…
Мне приснился тогда Покров день. Он был похож на Момича, – большой, с черной бородой…
Тогда несколько дней шел обкладной теплый дождь. В коммунарском саду непролазно разрослась крапива. Головки ее выметнулись в толстые желтоватые кисти, – цвела, и тетка сказала, чтобы я натянул на руки шерстяные чулки и нарвал крапивных листьев. Побольше. Чтоб сварить щи.
– А председатель Лесняк? – спросил я. – Заругается, как тогда.
– Да лихоманка его забери! – гневно сказала тетка. – Нам-то что? Мы тут с тобой не вечные! А люди за все лето зелени не пробовали. Ни снытки, ни щавеля…
Я нашел палку и стал рубить крапиву прямо под корень. Зимой в школе Дудкин три дня читал нам вслух про красного командира Ковтюха и белого генерала Улагая, и когда я считался Ковтюхом, крапива рубилась начисто и аж подскакивала выше моей головы, а как только делался генералом, она лишь гнулась и даже не ломалась под палкой: красной конницей была. Я не заметил, как врубился в самую гущину зарослей, где вместе с крапивой ползуче расселись кусты бузины и засохлого крыжовника. Там я и увидел неглубокую, выложенную круглыми камнями яму, а в ней черно-белого, мокрого и грязного теленка. Он полулежал, подогнув передние ноги и стоя на задних, и я разглядел, что это бычок. Я поторкал в него концом палки, и он чуть слышно замычал, но голову не поднял…
Я долго сидел на краю ямы, свесив в нее унизанные белыми волдырями ноги, – обстрекался о поверженную крапиву, потом встал и пошел к коммуне. Тетка стояла на веранде – ждала меня с крапивой, и я сказал ей издали, что иду за чулками. Голос у меня был хриплый и толстый. Он всегда делался таким, если я собирался залезть в чужой огород или сад. Боялся и хотел залезть. Коммунары в тот день не работали и сидели в общежилке. Кулебяка, одетый и обутый, лежал на койке. Я подошел и незаметно тронул его за ногу. Он покосился на меня одним глазом, а я кивнул головой и подошел к дверям. На крыльце я прислонился к колонне и стал глядеть на мокрую крышу конюшни. Кулебяка вышел и тоже посмотрел туда.
– Дядь Ивгений… там в саду теленок сидит в яме, – осиплым шепотом, глядя на крышу, сказал я, и ноги у меня чуть не подломились в коленках.
– В яме? Кто ж его туда посадил? – без интереса спросил он и цыкнул через зубы длинную кривулину слюней. Когда хочется есть, они как вода бегут. И откуда только берутся!
– Он сам залез, – сказал я. – Нечаянно ввалился.
– Ну и что?
– А ничего. Сидит и все, – еще тише сказал я. – Давно, наверно, ввалился, дурак…
– А чей он?
– Не знаю, – сказал я. – Саломыковский, может… Неш его найдешь там? Крапива такая, что… А он чуть мычит.
– А кто еще знает? Ты кому-нибудь говорил? Мать знает? – быстро и тоже шепотом спросил Кулебяка.
– Нет, – ответил я.
– А отец?
– Он не отец. Он только дядя, – сказал я. – Отца у меня на войне убило, а мать померла сама. От тифа…
Я впервые в жизни говорил об этом, и мне захотелось зареветь, и тогда я опять сказал о теленке:
– Неш про его узнают когда? Сроду не найдут…
– Значит, Татьяна Егоровна тебе не мать, а тетка?
– Ей про все можно говорить, – сказал я. – Она хорошая…
– Уж ты, ковырялка моя! – сказал Кулебяка, приподнял меня и переставил на нижний порог крыльца. – Иди, посиди у пруда. И цыц! Понял? Никому!
Я отнес на веранду охапку крапивы и побежал к пруду, на свое всегдашнее место. Вскорости показался Кулебяка с Зюзей, и по своей крапивной просеке я провел их к яме.
– Тю! Да мне одному тут нечего делать, – недовольно сказал Зюзя. Они с Кулебякой полезли в яму, а я отошел в сторону и загодя приготовился засвистеть, если кто-нибудь покажется в саду.
Теленок мыкнул два раза, а потом в яме что-то засипело, и запахло хорошо и уютно, как от Момичевой закуты…
Я так никогда и не узнал, что сказал Кулебяка тетке про мясо. Она сварила его все сразу, ночью, в том же котле, где всегда готовила горох. Мясо мы спрятали в сундук, а дверь из веранды в сад оставили открытой, чтоб председатель Лесняк не учуял утром в столовке негороховый дух.
Впервые за время жизни в коммуне я не слыхал утром звон рейки, – проспал. На дворе было погоже, росисто и радостно, и тетка тоже была веселой. Она достала из сундука кусяку отвердевшей телятины, я спрятал его под рубаху и побежал в сад. Подломанные, но не срубленные вчера крапивные стебли успели привять, а от ямы уже ничем вчерашним не пахло. Я съел мясо и пошел в поле, мимо конюшни, куда всегда уходили коммунары с тяпками на плечах. Я шел и думал, как быть с дядей Иваном: дать или не дать ему попробовать телятины? Откуда он догадается про яму? Лучше б дать… Он ни разу не сшалопутил тут. И даже перестал надевать кожух. Только шапку не сымал. Ни днем, ни ночью. Как председатель Лесняк… Царь всегда кланяется ему три раза – сперва низко, в пояс почти, потом помельче, а в третий раз кивком головы, будто с разгона остановиться не может. Председатель Лесняк по-военному прикладывал тогда руку к козырьку своей выпуклой фуражки. Нравился, значит, ему Царь за это. А мне нет, хоть он и свой… Наверно, он останется тут, когда мы с теткой уйдем на Покров день домой…
Коммунары окучивали картошку. На саломыковских огородах она давно цвела, а эта не собиралась даже. В глинистом месте на берегу ручья потому что росла, а тут пырея полно. Да и навоза в коммуне нету. Кто ж его у нас наделает!
Когда я подошел, Кулебяка кинул тяпку и сказал:
– А ну-ка, Сашок, показывай свой рожок, годится ли он для спевки нашим бабам и девкам!
Он подморгнул мне – дескать, молчок, а я подморгнул ему.
Дяди Ивана на картошке не было. И Дунечки тоже. Она, наверно, пошла отсюда в Саломыковку побираться, – будто мы, мужики, не знали, откуда у баб-коммунарок появлялись разномастные куски хлеба к гороху на ужин. И чибрик, что дала мне тогда тетка, тоже был побируший! Я подумал: хорошо, если б Дунечка сманила побираться Царя. Тогда б тетка враз различила, какой стыд хуже, и мы бы ушли в Камышинку завтра или нынче вечером!.. Но дядя Иван, оказывается, ходил к ручью за водой. Ведро он нес вихляючись, то и дело переменяя руку, и я побежал к нему, отобрал ведро и сказал, что ночью дам ему большую порцию мяса и что есть его надо в саду или лучше в конюшне.
С этого раза я стал ходить на работу вместе со всеми, – теперь, когда мне не хотелось все время есть, а помогать тетке не полагалось, целый день жить совсем одному было трудно…
До того дня, когда я нашел в яме теленка, Зюзя не замечал меня, кликал «шкетом», сторонился дяди Ивана и тетки, как будто раньше не знал нас, а мы его. Наверно, он боялся, что мы возьмем и расскажем тут, как его били в Камышинке за Момичева жеребца. После теленка, пока Кулебяка, тетка, я и Зюзя украдкой ели мясо, он быстро научил меня разговаривать «шир-на-выр», чтобы кроме нас никто больше не знал, о чем мы говорим. «Шир-на-выр» не разумел даже председатель Лесняк. Как-то утром, когда он только что кончил бить в рейку и коммунары становились в строй, Зюзя громко сказал мне:
– Шанька-сац, шуй-дуц в шеревню-дец и шогляди-поц шассе-купац. Шочью-ноц шудем-буц шед-мец шасть-крац. Шонял-поц?
– Шадно-лац! – сказал я.
Председатель Лесняк послушал, повел левым плечом и скрипуче сказал:
– Товарищ Бычков! Молодому коммунару не подобает болтать на попугайском языке!
– Шиди-тыц на шен-хрец! – глядя мимо председателя Лесняка, внятно сказал Зюзя. Кулебяка засмеялся и первым направился в поле мимо конюшни, – наверно, он прежде нас с Зюзей знал по «шир-на-выровски»…
Мед я любил зимой и летом, днем и ночью, потому что за всю свою жизнь ни разу не наедался им досыта. Я пошел в Саломыковку тем же путем, каким относил туда курицу, и возле окраинного сарая свернул в концы огородов, подальше от людей и собак. Там была узкая, крепко утоптанная тропинка, и я пошел по ней, пошел и пошел. В конопляниках пахло душно и хорошо, как в церкви, и свет там был смурно-голубой и текучий, как в камышинской речке, когда, бывало, нырнешь с открытыми глазами. Я шел и «узнавал» по огороду, на кого похож его хозяин. Когда ботва картошки доходила мне аж до плеч, и цвела бело-бело, и над ней кружились пчелы, – саломыковец был у меня все равно как Момич. Только чуть пониже ростом. И без черной бороды. А если росло абы что – кукуруза, табак, бураки-семенники, повилика, осот, веники, – мне становилось тоскливо и чего-то жалко, потому что тот мужик, что развел его, был точь-в-точь как наш Царь. Или как бывший повар Сёма… Я подумал, какой огород выдался б у Кулебяки. Наверно, все засадил бы одними подсолнухами!..
Пасеки все не попадались, да и какой дурак станет держать ульи прямо на огороде. Их надо было подглядывать возле палисадников, поближе к клуням, но мне не хотелось бросать голубую дорожку в конопляниках. Я шел и шел и незаметно очутился возле голубого обрывистого лога, поделившего Саломыковку напополам. Тут была чья-то бахча. Дыни только завязались недавно, а их уже стерегли: возле куреня у обрыва сидел большой грустный кобель и двое ребятишек с меня ростом. Кобель не загавкал, но я остановился и стал глядеть в ту сторону лога, будто мне нужно было попасть туда, а я не знал как. Я стоял и думал о своем совсем еще новом картузе, о ситцевой рубахе, что была на мне, и про то, что я коммунар и живу в барском доме, а они вот сидят тут на жаре возле лога и глядят на меня и небось завидуют, как тот мужик на возу сена… Они ж не знают про председателя Лесняка, про Царя, про Дунечку-побирушку, про горох и общежилку… Они знают про другую коммуну. Про мою с теткой коммуну, что бывает по вечерам в пруду… И пускай глядят и завидуют. Коммунар все-таки я, а не они!..
Назад я шел еще медленней, – спешить было некуда и не с чем. Вечером я сообщил Зюзе, что пасек в Саломыковке нету. Он сказал, что я шен-хрец шоржовый-моц, и ушел куда-то один. Я немного посидел возле пруда и, когда в столовке закончился гороховый ужин, сходил на веранду за мясом. Зюзю я ждал до полночи и все думал на своей койке, что зря не сказал ему, в чего завернуть мед, чтоб не вытек из сота. В капустные листья. Или в лопухи, как тетка тогда…
Он пришел, тихонько залез под одеяло и стал там хряпать не то яблоки, не то морковку, и я заснул аж под утро.
Самым скучным днем – длинным, пустым и трудным – выходило у нас воскресенье. Тут ничего нельзя было поделать, потому что на работу мы не шли, а в саломыковской церкви с самой зари начинал звонить колокол, и у нас все просыпались и узнавали, что на дворе солнце, роса и праздник. Может, нам веселей было, если б скорей наступила осень. Осенью в праздники, когда туман и дождь, некуда ходить и не нужно наряжаться, а летом дело другое. Летом хочется – и все, я хорошо знал это по себе и тетке. И воскресенья у нас всегда начинались одинаково. Сперва кто-нибудь один доставал из-под койки свой сундучок, отмыкал замок и начинал возиться там, тишком что-то разглядывать и перекладывать с места на место. Потом сундучки доставали все – и бабы, и мужики, и даже Кулебяка, и только мне, Царю да Зюзе нечего было доставать и перекладывать.
На тот наш с теткой последний день в коммуне тоже пришлось воскресенье. Я проснулся от колокола и увидел, что Зюзя грыз ночью не яблоки и не морковку, а огурцы, – в проходе между нашими койками валялись их пупырчатые жупки, а сам Зюзя спал, укутав голову пиджаком, заляпанным не то свежим коровяком, не то конопляной зеленью. Молча и неприветно, как будто все тут были виноваты в чем-то, а он один прав, коммунары возились в своих сундучках. Царь тоже сидел на койке и сердито разглядывал кожух. Плановал что-то. Может, воротник думал отпороть, – совсем обтерхался…
В саду, на корягах засохшего вишенника, я наколупал сосулек затвердевшего сока, – с виду он все равно что мед, – потом нарвал пучок дикой мяты, посидел у пруда и пошел в столовку: по воскресеньям тетка не варила, а парила горох, и тогда он не вонял плесенью. Я зашел в столовку через веранду, чтоб положить на теткину койку мяту, и от плиты увидел председателя Лесняка и всех коммунаров. В открытые окна солнце било прямо на столы, и пустые цинковые миски блестели как стеклянные, и орден на председателе Лесняке тоже хорошо сиял и лучился. Я побоялся идти через кухню, раз она какой-то пищевой блок, и остановился, и в это время председатель Лесняк сурово и раздельно сказал:
– Придет время, товарищ Бычков, и на всем земном шаре раскинется цветущий сад одной великой коммуны! Это вам давно надо знать!
У него покраснела шея, но к Зюзе он не обернулся, потому что глядел на мои ноги. Я повернулся и побежал назад и во дворе коммуны, прямо напротив дверей конюшни, где висела железная рейка, увидел – знакомую повозку… знакомого, черного, с желтыми шматками пены на пахах жеребца… знакомую кумачную рубаху… Самого Момича. Я никуда не пошел и сел на нижний порог крыльца между колонн, в проходе. Я сидел, глядел на Момича и ничего не хотел, кроме одного, приплюснувшего меня к широкому теплому камню: чтобы Момич пошел в коммуну, к нам в общежилку. Тогда б я кинулся к нему, вцепился б в рубаху и повис, и не пустил бы!
Но Момич не пошел. Он глядел, глядел на меня, потом позвал, не отходя от повозки:
– Александр! Ходи-ка сюда!
Я еще немного посидел и пошел к нему, и руки у меня размахивались разом, в одну сторону – назад и вперед, и идти совсем было трудно, и я не знал, как их заставить раскачиваться порознь.
– Ну, здорово тебе! – сказал Момич и протянул мне руку, а я так и подал ему обе свои, и, когда он сжал их и потряс, я оглянулся на коммуну и заплакал. – Ну во-от, встрел гостя! – протянул Момич. Он не отпускал мои руки и стоял, наклонившись, и от бороды его несло чем-то сладким и веселым, – наверно, той желтой медовкой, ехать-то пришлось через Лугань.
– Чего это ты? А?
– Живот все время… болит и болит, – пожаловался я, а он лапнул меня за плечи, пощупал их зачем-то и сказал:
– Ну-к и что? Ревом-то его не вылечишь небось!
– Да я и не реву, – сказал я и опять оглянулся на коммуну.
– Животы, они часто болят у людей. Вроде бы ел тогда человек молоко, а отрыгается чесноком, – сочувственно проговорил Момич, глядя на меня испытующе и весело: пил, наверно, ту медовку, раз ехал через Лугань.
Я отвернулся от него и стал глядеть на жеребца и на немую рейку в проеме дверей конюшни. Мне было как в тот раз на парине возле Кашары, когда Момич сказал, что под наше добро подвод и подвод нужно, и скажи он теперь еще чего-нибудь насмешливое про нас с теткой или про коммуну, я б повернулся и ушел от него, может быть, навсегда. Но он шагнул ко мне, опять облапал плечи и сказал настойчиво, сердито:
– Ну ладно, не дури!.. Живешь-то как?
Если б он спрашивал не про меня одного, а про всех разом, – про тетку, про Царя, про всю коммуну, тогда б дело другое было, тогда бы я вытерпел и не признался, а тут… Тут я ничего не мог поделать – ни молчать, ни говорить, и я заревел снова, оглянулся на коммуну и крикнул Момичу:
– Ну чего стоишь? Давай скорей поедем отсюда! А то увидит председатель Лесняк и… Вон туда давай, за сад!
Он молча вскинул меня в повозку на бугристый мешок, набитый чем-то упруго-податливым, вспрыгнул сам и, крутнув петлей вожжей, приглушенно и озорно прикрикнул на жеребца:
– У-у, Змей Горыныч, дава-ай!
Роса уже подсохла, и следы от колес повозки не были заметны, – я только и думал, чтоб они не виднелись на траве. За садом, возле развалившегося каменного вала, Момич придержал жеребца и, полуобернувшись ко мне, шепотом спросил:
– Тут, что ль?
– Тут, – кивнул я.
– Ну?
– Больше ничего, – сказал я, – за теткой теперь надо сбегать… А за сундуком потом когда-нибудь приедем, ладно?
– Да на черта он сдался вам! – нетерпеливо и бесшабашно, медовку потому что пил, сказал Момич и сразу же посерьезнел: – А насчет этого самого… Петрович-то ваш как? Вместе думаете ехать или…
– А ему только тут и жить! – твердо и в какой-то неосознанной обиде на Царя повторил я слова Кулебяки. – Мы с теткой одни собирались. На Покров день аж… А за сундуком потом хотели…
– Хотели! – недовольно хмыкнул Момич. – До Покрова, брат, далеко. Вы б лучше взяли и… – Он не сказал, что нам надо было взять и сделать, и распорядился, будто у себя возле клуни: – Беги за Егоровной! Жива!
Уже шагах в пяти от повозки я почувствовал все то, что бывало со мной, когда я собирался перелезть чужой тын, – пустоту в животе, полынный холод в груди, сердце под самой шеей и еще хрипоту: голос тогда у меня делался толстым и низким. Я толчками вошел на веранду и оттуда, через порог, опять увидел всех коммунаров, блескучие миски с радужными завитушками пара над ними и сияющий орден на оттопыренном кармане председателя Лесняка. Председатель Лесняк гонял ложку, будто наматывал клубок ниток, – стербал, и глядел исподлобья на мои ноги. Я не переступил порог в пищевой блок, и тетка сама пошла ко мне, торопясь и оглядываясь. Я попятился в глубь веранды, к сундуку, и там привстал на цыпочки, чтобы сразу, в ухо под косынкой, сказать ей о Момиче. Она, наверно, подумала про что-нибудь плохое со мной, потому что тоже, как и я на веранду, двигалась ко мне толчками и шептала:
– Ох, Сань! Ох, Сань!
– Дядя Мося приехал! – хриплым шепотом сказал я ей в ухо под косынкой. – На жеребце! Мы вон там за садом спрятались! Иди скорей!..
Я выбежал в сад, обогнул угол коммуны и прошмыгнул в общежилку. Это было все равно что рвать помидоры или огурцы, когда уже перелезешь межу: хватаешь какие и как попало, и думаешь совсем о другом, и глядишь не под руки, а совсем в иную сторону. Оттого я и захватил только подушку да одеяло, а пиджак забыл. Я еще в общежилке знал, что не взял его, но это вспомнилось уже после того, как я закатал в одеяло подушку и побежал. Это тоже как в чужом саду. Раз ты уже держишь зубами и руками подол рубахи, то никак не остановишься, чтобы сорвать самое, может, большое и красное яблоко, виси оно прямо над твоей головой, – тогда только и знаешь – бечь и бечь, хотя за тобой никто и не гонится…
Тетку я увидел за садом, в спину. Она шла, закинув руки за голову и расставив локти, – развязывала и опять завязывала концы косынки. Она, как при игре в жмурки, когда не знаешь, на что наступишь, высоко поднимала ноги, – наверно, обстрекалась в саду об крапиву и все боялась опять обжечься, хотя крапива возле вала не росла. Момич стоял у задних колес повозки и глядел на тетку. Они даже не поздоровались, потому что тетка остановилась шагов за пять от повозки и не отняла от головы руки. Момич стоял, одергивал на себе рубаху и молчал. Потом он переступил с ноги на ногу и сказал, будто оправдывался, не отводя взгляда от тетки:
– Еду, а там, гляжу, нынче ярманка… В Лугани. Так что… сундук, к примеру, можно сторговать любой.
– Да этот-то был… хороший, – прерывисто сказала тетка и беспомощно опустила руки. – С разводами…
– Ярманка ж, говорю, в Лугани! – просяще сказал Момич. – Так заодно и иное протчее приглядим. Одеялы, подушки какие ни на есть…
– Господи, да как же мы без всего поедем, Сань! – обернулась ко мне тетка, а Момич опять сказал, но уже нам обоим:
– Ярманка ж, говорю, по пути! Что ж нам тут теперь!..
Тетка все же дважды прокрадывалась на веранду и возвращалась с незаметными узлами.
Как только мы сели в повозку и Момич погнал жеребца, мне, как и тогда в Камышинке, стало жалко и обидно за всех, кто не уезжал вместе с нами.
Тетка зря боялась, – никто над нами не смеялся, потому что приехали мы ночью. А если б и днем заявились, тоже ничего. Даже лучше б было. Сгружали-то мы все новое – и сундук, и два одеяла, и две подушки, и Момичев мешок, набитый чем-то съестным, а я как оделся в Лугани в городской полусуконный пиджак, так и сидел всю дорогу. Всякий бы подумал тогда, что это нам в коммуне выдали. Какой же тут смех!..
Каганец мы все-таки засветили. Хата показалась мне невеселой, чужой. Она совсем занужила и даже ростом умалилась, будто присела. И пахло в ней как в погребе, хотя окно было выбито. Ужинать мы не стали, – в Лугани всего-чего наелись, – и, когда легли, я сразу притаился, будто заснул, а сам стал думать о коммунарском пруде, о Кулебяке, потом о Дудкине, о школе, об утильсырье, о своей хате. В печке под загнеткой у нас все время жили два сверчка. Теперь их не было. Ушли куда-то. Слушать-то некому… Когда я о них подумал, тетка засмеялась и сказала:
– Да спи ты, дурачок! Придут наши чурюканы… Как обживемся, топить начнем, так и явятся. Спи!
На заре, до просыпа села, Момич принес новую застекленную раму, – загодя до нас, наверно, сделал, – и торопливо владил ее в пустые лутки окна.
– Ежели хату обновлять задумаете, то возле клуни белая глина лежит. Воз целый, – сказал он по выходе.
Хату мы побелили внутри и снаружи, и она сразу стала похожа на тетку в праздник. Мы целыми днями работали, никуда не отлучаясь, и никто над нами не смеялся, тетка зря боялась. Только один раз, когда я подметал двор, Момичева Настя подозвала меня к плетню и, оглянувшись на свою хату, спросила:
– Али не сладко было на чужой стороне?
– Много ты понимаешь! – сказал я и сплюнул как Кулебяка. – Там знаешь какой дом? С десять или двадцать хат! А пруд, а все!
– Чего ж прибегли?
– Захотели и… приехали! – сказал я. – Перезимуем тут и опять уедем! Шоняла-поц?
– Ну-ну! – недобро засмеялась Настя и пошла прочь, потому что Момич появился на крыльце и встал к нам боком. Запоздай он немного, и я бы рассказал Насте, что нам навыдавали в коммуне…
Меня манили ракитник, речка, луг. За ними, в полях, прибойно ластилась и выпрямлялась, ластилась и выпрямлялась спеющая рожь. Стояла истомная преджнитвенная жара. Мы с теткой чуть дождались воскресенья. Она нарядилась, выставила надо лбом белый куль носового платка и попросила:
– Сань, ты меня дуже не жди. Возьми вон из мешка, чего знаешь, и поешь. Ладно?
В церковь, наверно, торопилась, – соскучилась по своим страшным картинам. Я пожалел, что картуз и ситцевая рубаха сильно заносились в коммуне, и надел новый пиджак. Через улицу я прошел в нем, а в ракитнике снял – тут его некому было видеть. На берегу речки меня ждали мои давние потаенные закоулки, заплетенные по бокам лозинами и хмелем, заросшие прохладной травой-купырем. Таких мест-церквушек я знал не одно и не два, и в каждом мне сиделось одинаково – не хотелось думать и знать, что все тут росло и береглось само, без меня. Я сидел в купыре, а ноги держал в воде, и в пятки мне то и дело щекотно торкались пескари – осмелели без меня! Мне ничего не хотелось – сидеть и сидеть и ни о чем не думать и не помнить. К моим ногам подплыл большой, кривой и совсем целый огурец, – наверно, в том конце Камышинки кто-то упустил нечаянно. Он застрял у меня между щиколоток, и я вытащил его ногами и съел весь целиком – холодный, не то горький, не то сладкий, первый в то лето. В ракитнике я просидел до полудня, а потом меня потянуло на выгон – к ветрякам, к околку и ко всем знакомым местам, чтобы все видело и знало, что я опять тут, в Камышинке. Трава на выгоне подсохла и уже побурела, зато у канав и прясел цвели розовые метелки придорожника. На них качались черные волосатые шмели, и, когда я проходил, они ворочались и сердито гудели, и я прозвал их «момичами». Я постоял у каждого ветряка, обошел вокруг обмелевшего околка и завернул на дорогу, по которой мы с Момичем ездили метать парину возле Кашары. Дорога совсем обузилась – с обеих сторон на нее навешивалась желтая поветь колосков. Я сделал из них толстый и важкий кропильник – тетку хотел повеселить, нарвал беремя васильков, – тоже ей, и незаметно подошел к лесу. Тут сразу стало прохладно, – все равно как в сенцах, когда выбежишь за чем-нибудь из душно натопленной хаты, и пахло молозиевыми орехами, разомлевшим дубом и земляникой. Она уже переспела и опадала сама, чуть дотронешься, и ее надо было искать в гущине кустов, где поменьше солнца. Там она росла на высоких былках, и их можно было рвать под корень, чтоб получился пучок для тетки. Мне мешали пиджак, кропильник и васильковый веник, и я выбрал купу ореховых кустов, какие погуще, чтобы спрятать там все, а потом найти. Я все так и сделал, как хотелось, – тихо и пригнувшись, чтобы незаметней быть одному в Кашаре, и когда вылез из кустов, то совсем недалеко, под низким толстым дубом на поляне, увидел тетку и Момича. Они сидели бок о бок, и голову Момича криво опоясывал величиной с решето лохматый венок из ромашек вперемежку с колосьями ячменя, – тетка, наверно, сплела, не сам же Момич! Они сидели прямо, строго и молча, будто только что поругались, и неожиданно тетка сказала:
– Мось, давай скричим песню!
Момич искоса взглянул на нее, но ответил сипло и мягко:
– Ну-к что ж!
Тетка умостила ногу на ногу, подперла ладонью щеку и завела никогда не слыханное мной:
– Ах ты, ягодка-а, самородинка-а…
– …распрекрасное мое деревцо-о! – широким, притушенным голосом встрял сразу Момич. Я присел за кустами, и спина у меня похолодела отчего-то.
– Ты когда взошла, когда выросла, ты когда цвела, когда вызрела? – томительно-протяжно пела-спрашивала тетка, а Момич низко и раздумчиво гудел:
– Я весной взошла, летом выросла, я зорей цвела, солнцем вызрела…
И снова ласково-печально спросила тетка:
– Ах ты, ягодка, самородинка, распрекрасное мое деревцо! Ты почто рано позаломана, во пучечики перевязана, по дикой степи поразбросана?!
Что собирался пропеть-ответить Момич – не услышалось: сомлевший от благодарной радости ко всему, с чем мне довелось встретиться в этот беспредельный день, я вышел из-за кустов, подошел к тетке и Момичу и сел у них в ногах…
Домой мы возвращались вечером и шли гуськом – сперва я, потом тетка, а далеко позади – Момич. Венок свой он повесил в лесу на дубу.
В хате нас с теткой поджидал дядя Иван. Он, видно, только что заявился, потому что сидел понуро и уморенно. Кожух его был без воротника – спорол.
– Сманили, змеи, а сами драла! – беззлобно сказал он нам и попросил есть. Я почему-то решил, что теперь он не будет шалопутить.
4
Трудное это дело – найти, когда ты совсем не ждешь того, а потом почти сразу потерять и долго не знать об этом и ходить и думать, что оно есть у тебя. Тогда лучше не находить, чтобы не жалеть себя и не обижаться на потерянное…
Я лишь осенью, придя в школу, узнал, что Саши Дудкина нету в Камышинке, – наверно, как ушел тогда весной в какой-то волкомпарт свой, так и остался там… А я приготовился к встрече и нес ему все в той же сумке с петухом большой кусок сота, – Момич когда еще дал, а я все берег, – обернутый пятью капустными листьями; нес свой новый, на погляд ему, пиджак; таил длинный, заученный наизусть рассказ о коммуне, – не о председателе Лесняке, общежилке и пищевом блоке, а о моей ком-муне, потому что только такая она и годилась бы тому, кого ты любишь, и хочешь, чтобы ему хорошо слушалось и радовалось. А заместо Дудкина к нам пришла новая учительница. Она не виновата была, что приехала в Камышинку, да только мне оттого проку не виделось, – я не хотел глядеть в ту сторону, где она стояла, – коротконогая, с водянистыми выпуклыми глазами и рыжая, как одуван, и не хотел помнить, что зовут ее Евдокия Петровна. Дунечка!.. Она задала нам урок по вольному сочинению, кто, где и как провел лето. Это было то, чего я хотел, идя в школу. Я бы исписал про свою коммуну целую тетрадь, а потом на перемене, чтоб никто не видел, отдал бы Дудкину мед. Мы могли попробовать его вместе. Отойти за школу, где утильсырье, и там съесть… На дворе был сухой и яркий день. От окна и к задней стене класса тянулся через парты круглый и толстый, как матица в Момичевой клуне, солнечный столб. Дудкин бы ходил и ходил в нем, а Дунечка опасалась его и стояла сбоку, в тени, как одуван в холодке подворотни. Я все время помнил о меде и незаметно залез правой рукой в сумку – вытек или нет? Учительница колыхнулась и пошла к моей парте, минуя луч, а я уже вонзил пальцы в отрадную клеклость сота, и они там завязли и не хотели вылезать.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































