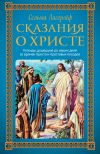Текст книги "Одинокое место"

Автор книги: Кристина Сандберг
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 18 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Я отменяю рабочие встречи, одну за другой. Пишу, что у меня рак. Не хочу ничего скрывать, чтобы меня не начали упрашивать, приходится говорить твердое «нет, не получится». Никакой книжной ярмарки. Никаких семинаров. Никаких библиотек. Я не приду. Из всех запланированных на осень мероприятий оставляю только Джамайку Кинкейд на Стокгольмском литературном фестивале. На самом деле хочу отменить и ее, ведь встречаться придется сразу после третьей химии и я наверняка буду паршиво себя чувствовать, но Матс говорит, что это глупо, что я потом буду жалеть. «Я помогу тебе».
Я хочу сделать это с ним вместе. Если мне станет совсем плохо, Матс сделает это сам. Мне необходимо, чтобы он был рядом. В конце концов, это он открыл для меня Джамайку Кинкейд.
Я оказалась заперта в теле, на которое больше не могу положиться. В таком беззащитном теле. Дырявом, как решето. И выбраться из него я не могу. Так же, как не могу его игнорировать, махнуть рукой. Мне не вырваться, так что я должна попытаться выжить. Болезнь превратила меня в биологический организм, но я никак не могу понять, что именно от меня требуется.
Так хочется снова писать. Было бы слишком высокомерно утверждать, что критические заметки, статьи, эссе – это не литература. Еще какая, в высшей степени литература. Но это не писательская деятельность как свободная игра, где я сама могу устанавливать правила. Это не моя вселенная, не мое прибежище. Другие тексты выполняют определенные обязанности, они заданы извне. В личной, художественной, биографической литературе обязанность только одна – быть правдивой по отношению к тексту. Открыться ему. Стать податливой. Но после Май мне это не удается.
* * *
На следующий день после того, как я узнала диагноз, была наша четырнадцатая годовщина свадьбы. Мы отправились в город, решили пообедать в «Голубых вратах». Вареный лосось и французский картофельный салат, солнечно, тепло. Мне дали телефонный номер Центра груди на случай, если возникнут вопросы, и они возникли. Тысячи вопросов, из которых самый насущный – эта боль, у меня никогда так не болело тело, кости, живот. Как быстро разрастаются опухоли? Может, во второй груди уже тоже что-то растет, а если оно распространилось, что тогда делать? Я надиктовываю свой номер на автоответчик, чтобы они перезвонили. Но до конца дня так никто и не перезванивает. Я не спускаю глаз с телефона на пароме по пути на Юргорден, а потом и в ресторане. Не успели мы сесть, как тут же налетели осы. Они ползают по каперсам, картошке, по майонезу с укропом и по рыбе, у меня аллергия на осиные укусы, не хватало только проглотить осу. Я выхожу из ресторана, солнце припекает, после холодного лета вдруг пришла жара. Матс догоняет меня. «Идем на паром, пора возвращаться», – говорю я. И тут звонят с незнакомого номера. Женщина, которая говорит, слегка раздражена, что-то пошло не так, они не нашли мой номер, не смогли проверить, идентифицировать меня, поэтому не могли перезвонить. Меня трясет, я сажусь на скамейку у воды, так много туристов, народ толпится у входа в парк аттракционов, а мне что, так и сидеть, выкрикивая свою панику? Я спрашиваю, насколько велик риск, что опухоль перекинется на вторую грудь, распространится по телу. Она говорит, что все зависит от того, что человеку довелось пережить раньше. Некоторым трудно принять известие о том, что у них рак, может случиться кризис, если психика неустойчивая. Да, я много чего пережила в жизни, но когда и при каких обстоятельствах вообще может быть легко принять новость о том, что тебе отрежут грудь и подвергнут химиотерапии? Кому легко услышать онкологический диагноз, особенно если твои дети еще учатся в средней школе? Я говорю, что у меня страшно болит все тело, что я не могу нормально сидеть. Она не может толком ответить почему, нужны дополнительные обследования, биопсия лимфоузлов, рентген. Хорошо уже то, что на УЗИ в лимфоузлах ничего не нашли. Я прекрасно слышу, как она это произносит, но я только что узнала, что у меня три опухоли, которые быстро растут, а тут еще и боль во всем теле?
Насколько помню, до начала лечения я успеваю еще раз встретиться с доктором Аннели Блад. Хотя, возможно, это был все тот же первый раз.
Я испытываю животный страх смерти.
Я все время ощущаю внутри огромную опухоль.
Ее ничто не остановит.
Она будет расти, сколько захочет.
Нет, наверное, я все-таки встретилась с доктором Аннели еще раз. Когда она рассказала об исследовании, в которое вписываются опухоли моего типа. Мне кажется, что она представила его как исследование с целью разработки более направленного лечения. Широко известно, что в наше время терапия для онкологических больных излишне жесткая. Поэтому ученые начали разработку, где больных разделили на группы, чтобы проверить, действительно ли это так. У участниц берут множество дополнительных анализов, неоднократно делают биопсию опухоли, в частности перед самым началом лечения. Участие в таком исследовании дает много преимуществ, говорит Аннели. К пациентке относятся с особым вниманием. Она даст мне почитать брошюру.
Я киваю. Разумеется, я могу поучаствовать в исследовании, если это поможет другим… я не хочу умирать, уходить от детей. У меня вдруг возникает ощущение, что доктор Аннели – компетентная, деятельная, опытная, циничная – видит мое загорелое лицо с макияжем, мои длинные волосы и думает: «Эта самодовольная дамочка переживает из-за того, что облысеет». А в ее власти мое спасение, и она будет меня спасать, эта Аннели. Это она тут решает – исследование, операция, а я лишь испытываю жуткий страх. Я не сплю, тело отказывается подчиняться. Я должна поддержать детей. Выдержать их страх. Сердце колотится, бьется, стучит. Интересно, человек всегда слышит свое сердце? Я теперь слышу его все время – и особенно по вечерам, когда пытаюсь уснуть. Было бы здорово приглушить этот стук. Чуть-чуть уменьшить страх, чтобы я могла немного передохнуть. Я не принимаю ни снотворного, ни успокоительного, никаких антидепрессантов. Не потому, что в них не верю, напротив, эти лекарства могут быть жизненно важными. Но я знаю, что пациенты клиники расстройств пищевого поведения, где я работала, испытывали жуткую тревогу, когда их заставляли регулярно принимать пищу, доедать все, что положено на тарелку, есть жирную пищу, чувствовать сытость и не испытывать при этом рвотных позывов, и я знаю, что доктор выписывал им «Атаракс», мягкий транквилизатор. Сейчас мне вспомнилось название, и я думаю, может, доктор Аннели мне его выпишет, я спрашиваю ее еле ворочающимся языком: «Может, мне стоит попринимать какое-нибудь успокоительное, пока я жду окончательного вердикта?»
Она отвечает, что, разумеется, существует много разных препаратов, но она не хочет их выписывать. Говорит:
«Вы оказались лицом к лицу со смертельной угрозой, и рано или поздно вам все равно придется пережить этот кризис. Медикаменты лишь отложат неизбежное».
Да, конечно. Естественно, а я что, думала, получится избежать этой боли, этих зверских мучений, тревоги, паники – могу выписать вам снотворное, например «Стилнокс», чтобы было легче уснуть. «Еще у меня аллергия на осиные укусы, – говорю я, – вы не выпишете таблетки кортизона – на всякий случай, раз такой осиный год выдался?» Да, это можно, «Бетапред», шесть таблеток при укусе осы – развести в небольшом количестве воды.
Вы оказались лицом к лицу со смертельной угрозой. Вы оказались лицом к лицу со смертельной угрозой. Вы оказались лицом к лицу со смертельной угрозой.
* * *
И вот уже пора встречаться с медсестрой отделения онкологии в больнице Святого Йорана, это ведь она должна рассказать мне о самом лечении? Обо всех этих лекарствах, которые придется принимать во время химиотерапии. Кортизон, а еще сильнодействующие и адски дорогие таблетки от тошноты, «Алокси», «Эменд» – все по подробно расписанной схеме – перед началом химии. Потом количество постепенно снижается – тридцать две таблетки кортизона «Бетапред», потом двадцать четыре, потом двенадцать. Шесть от укусов осы. Боже мой, какие дозировки. «Омепразол» от изжоги, вызываемой кортизоном, «Примперан», если тошнота все-таки не уйдет, а еще средство от запора. Что же там вызывает запор, кортизон? Капли от вздутия живота, тоже в качестве профилактики. И в придачу к этому лекарство от грибка и раствор для полоскания ранок в ротовой полости, масло или таблетки от сухости во рту, защитные капли для слизистой глаз и носа. Промежности, кишечника. Все, что может пострадать, пострадает. А все, что пострадает, может начать кровоточить.
Обезболивающие. От боли в костях и мышцах. И в суставах. «Альведон», «Цитодон», «Ипрен». Инъекции «Нивестима», уколы в живот, делать дома самостоятельно, во время каждого курса химиотерапии, чтобы помочь лейкоцитам. Лейкоциты погибают всего за пару дней, эритроциты более устойчивы, там показатели ухудшаются не сразу, а с каждым новым курсом химиотерапии. Иногда требуется переливание крови. А вот лейкоциты – иммунная защита – исчезают сразу же, и их нужно восстановить перед следующим курсом. Восемь уколов, или десять в течение двадцати одного Дня.
Огромный список побочных эффектов. Изменение вкусовых ощущений, на вкус все может казаться как металл или слаще, чем обычно. Усталость, я забыла про усталость. То, что человеку буквально не подняться с постели, тоже относят к побочным эффектам. Утомляемость. Снижение когнитивных функций, проблемы с памятью, рассеянность. Головокружение. Мышечные боли. Скованность суставов. Сухость кожи, особенно на ногах. Грибок, ломкость ногтей, кровоточивость пальцев ног. Аменорея, отсутствие овуляции, климактерический синдром, приливы, резкая смена настроения. Ну и, конечно, выпадение волос.
Я могу что-то сделать сама – я имею в виду, чтобы ослабить все эти побочные эффекты? Она отвечает: доказано, что заметно помогают движение и физическая активность – ежедневные прогулки, даже если кажется, что совсем нет сил. И вот тут для вас многое может сделать семья – муж и дети, если будут вытаскивать вас на улицу, даже если вы говорите, что не можете и не хотите.
И вот я гуляю. Несмотря на то, что ноги пронзает жгучая боль. И на то, что трудно дышать. Черт! Я же ходила все лето, я была в прекрасной форме, почему же теперь так остро не хватает воздуха?
* * *
Сроки сдачи «садового» текста для журнала «Мы» поджимают. Точнее, не самого текста, а фотографий. Они должны быть летними, демонстрировать сад во всей красе, хотя сам номер выйдет только весной. Поэтому через два дня после того, как я узнала о трех злокачественных опухолях, у меня съемки. Я уже знаю, что буду писать о папе, растениях и смерти. А еще о том, как я поливала и чистила сад в Молидене этим летом. И о том, что мой собственный сад совершенно запущен и заброшен. Аппетит пропал. Вместо него в желудке возник тревожный комок. Утром наношу макияж, чуть ярче обычного, объектив камеры как будто съедает всю косметику. Я знаю, что скоро останусь без волос, ресниц и бровей. Но пока не выгляжу больной. Никаких мешков под глазами, никакой желтизны на коже. Я выгляжу ужасающе здоровой. Загорелой. Я делаю то же, что и обычно, только более тщательно – коричневый карандаш вдоль линии ресниц, черная тушь. Помада. Консилер под глаза. Собираю волосы на затылке, закручиваю пучок. Закрепляю шпильками. Я столько раз это проделывала.
Корнуолл, один из дождливых июньских дней. Кажется, в саду Трелиссик? Мы собираемся перекусить. Во всех садах есть кафе: бутерброды, несколько несложных блюд, салаты, чай со сливками, мороженое. Суббота или воскресенье, в саду многолюдно, помимо пенсионеров попадается немало семей с детьми. Матс, мама и Эль-са караулят столик на открытой террасе, под крышей. Можно завернуться в шерстяные пледы. Мы шутим над героическим отношением англичан к тамошней летней погоде – как приятно перекусить на свежем воздухе, в плащах и сапогах, под зонтами, при температуре двенадцать градусов. Середина июня, мы греемся горячим чаем. Сейчас мой черед стоять в очереди перед крошечным прилавком, Эстрид протискивается ко мне – хочет проследить, чтобы я опять не заказала какую-нибудь гадость, например булочки с изюмом. Мы стоим перед холодильником, откуда можно достать напиток, сосиску в тесте, бутерброды с тунцом. В морозильнике – рожки с мороженым, которые сразу привлекают внимание Эстрид. Она долго не может выбрать, я стою лицом ко входу, и тут в дверях появляется мужчина, который… да, он смотрит на меня и выглядит ошарашенным. Как будто мы близко знакомы, сто лет не виделись и вдруг случайно встретились. Странное, мгновенно возникшее ощущение интимности, его открытое беззащитное лицо. Кажется, он краснеет, но берет себя в руки и продолжает смотреть на меня, пока мы стоим в очереди. Словно не в силах оторвать взгляда. Мы с Эстрид говорим по-шведски. Он считает меня красивой, приходит мне в голову, чувство именно такое, будто я привлекла его внимание самым естественным образом. Он примерно моего возраста, в дутой спортивной куртке красного цвета. Теперь я стараюсь больше не встречаться с ним взглядами, такое ощущение, что еще миг – и он что-то скажет. Я пытаюсь это предотвратить, но при этом мне очень лестно. Все весьма банально, в то самое мгновение мне просто хочется, чтобы он считал меня красивой. Возможно, мое лицо показалось ему знакомым или странным, сейчас это необходимо мне как никогда, словно я знаю, остались считаные секунды – и все будет потеряно. Разве не снилось накануне, как хирург отрезает мне грудь? Прежде чем выйти, мужчина еще раз оборачивается и серьезно смотрит на меня, стоя в дверном проеме. Когда мы с Эстрид выходим к остальным с подносами в руках, я вижу его в большой компании – жены, детей, друзей? На фотографиях из сада все мы выглядим немножко замерзшими, но довольными.
Лена Гранефельт фотографирует меня рядом с усадьбой «Нюкельвикен», на востоке Стокгольма. Старые яблони, красочные предосенние клумбы. Она только что написала книгу о том, как умирают растения. Запечатлела их на снимках в стадиях, следующих за бурным цветением. После созревания плодов. Когда они увядают, образуют семена. Становятся почвой, перегноем. Я стою, опираясь на лопату – этот реквизит одолжил нам садовник. Теперь я должна присесть на корточки, пройтись, обернуться, постоять на месте. Господи, как болит все тело. Несмотря на «Альведон». Я много говорю. Почти непрерывно. Почему я не могу помолчать? С Леной очень легко, она не предлагает ничего безумного или такого, что казалось бы странным. У меня сейчас нет сил отстаивать свои границы, отвергать неудачные предложения – я просто делаю так, как велит Лена. Она хочет запечатлеть меня в бескрайнем цветочном море. Для этого мне нужно встать на четвереньки или зайти в полумрак тоннеля из бамбука. Удивительно, что я могу столько болтать, задавать ей вопросы и в то же время быть полностью поглощенной своим страхом. Идея о создании книги о саде в духе «Моего сада» Кинкейд. В большей степени политика и философия, нежели практические советы садоводам. А Ленины снимки поэтичны сами по себе. На самом деле они не требуют текста. Но, наверное, было бы интересно, если бы она фотографировала, а я писала? Если буду жива. Она подвозит меня до дому в Ханинге. Лена и раньше спрашивала, не можем ли мы поснимать у меня в саду, но я отказывалась, он слишком запущенный. Хотя теперь, подъехав к дому, мы обходим мои владения. Она кивает, конечно, можно было бы фотографировать и здесь, но атмосфера получилась бы совсем иная, более мрачная.
Когда Лена присылает снимки, я пытаюсь разглядеть, заметно ли на них, что я больна. Фотографии очень красивые – все эти цветы, Ленино незримое присутствие как фотографа, только на нескольких снимках у меня один глаз, кажется, больше другого. По Матсу всегда заметно, когда он устал – один глаз становится меньше – а я на съемках была жутко уставшая. А может, это опухоль так влияет на глаз и на взгляд? Для меня эти снимки всегда будут нести в себе особый заряд: длинные волосы, пока еще густые ресницы, четкие дуги бровей, обе груди… Последнее трепыхание перед навсегда наступившим после. Когда-нибудь, когда мое отражение в зеркале станет призрачным и чужим – желтоватая как воск кожа, отекшее от кортизона лицо, ранки повсюду – на губах, в носу, на нёбе, красные воспаленные глаза, голые дрожащие веки, пустое место там, где раньше были брови, бледная кожа на голове. И тогда я взгляну на эти фотографии и подумаю: когда-то, еще совсем недавно, я была такой.
* * *
Я должна была обсуждать спектакль «Деформированная персона» режиссера Маттиаса Андерссона в рамках Бергмановской недели в театре «Драматен» вместе с Юнасом и Маттиасом. Вечер накануне операции на лимфоузлах, мне надо быть в больнице Святого Йорана в половине восьмого утра, значит, из дома придется выйти в шесть. Я очень боюсь. Или даже так – я переживаю, смогу ли досидеть до конца спектакля, ведь боль только усилилась. Мы с Эстрид только что посмотрели «Красавицу и чудовище» в кино, и, несмотря на обезболивающие, я промучилась весь сеанс. В эти дни голова заполнена страхом смерти и ощущением беспомощности, с которым мне трудно справиться. Никогда в жизни я не чувствовала себя настолько беззащитной. В какие бы сложные ситуации я ни попадала, всегда находились пути решения или утешение в том, что время лечит. Но против агрессивных раковых опухолей у меня нет внутренних защитных средств. И черт бы побрал всех, кто лезет с советами по поводу питания, йоги и позитивного мышления. И всех, кто говорит, что я должна бороться с раком. С этим-то как раз проблема – я не могу воевать в одиночку, мне остается лишь положиться на врачей и медицинскую экспертизу. И нужно быть готовой принять их помощь. У меня нет необходимых знаний, чтобы оценить их методы, – я не онколог, не специалист по раку груди. Разумеется, я много узнала – оказывается, есть немало различных типов опухолей в груди. И болезнь может развиваться очень по-разному. И существуют разные схемы лечения. Одно меня утешает – яд, проникающий в мое тело, будет убивать раковые клетки. И хотя мне от этого будет очень плохо, все это ради моего же блага.
Исследование. Я внимательно читаю бумаги. Методом случайной выборки пациенты разбиваются на две группы. Первая группа получает стандартное лечение – то, которое, как подозревают, оказывает излишнюю нагрузку на организм. Людей, как говорится, «залечивают», что вызывает множество побочных эффектов. Вторая группа получает химиотерапию другого типа – точнее, везде это называют лечением цитостатиками. Это более современное лечение. От него, если повезет, не выпадут волосы, зато больше нагрузка на печень. Но в таком случае химиотерапия назначается и после операции. Тогда мне пришлось бы лечиться цитостатиками всю осень и продолжить лечение весной, после операции.
Но если в исследовании речь идет об избыточном лечении, нет ли риска, что человека также могут недолечить? Если они хотят найти оптимальный объем лечения и давно заметили, что многие люди получают слишком много цитостатиков, значит, все-таки существует риск, что новая, более низкая дозировка, или интервал, или тип лекарства окажутся недостаточно эффективными для некоторых пациентов из набранных случайным образом групп? Иначе как вычислить золотую середину? Но я совершенно не хочу получить недостаточное лечение. В моей жизненной ситуации я просто не могу себе позволить так рисковать. К тому же когда-то я сама занималась исследованиями – в основном количественными, но кое-что в методах смыслю.
Матс звонит Хенри (тот работает педиатром) и Стефану (у его жены Маргареты был гормонозависимый рак груди). Оба советуют поучаствовать в исследовании, ведь это дает столько преимуществ. Например, более внимательное и заинтересованное отношение со стороны медицинского персонала.
И все же меня терзают сомнения – а вдруг я попаду в группу, где лечение окажется не таким эффективным, как они рассчитывают? Можно ли будет поменять группу?
Второй момент, который меня настораживает, – то, что участницам исследования приходится сдавать намного больше анализов, в частности биопсию. Я не какая-нибудь недотрога, но биопсия означает, что в опухоли втыкаются иглы для забора жидкости. Я хочу пройти химиотерапию – ладно, или лечение цитостатиками – прямо сейчас. А не ждать еще несколько месяцев, пока проведут дополнительные обследования. Я довольно быстро поняла, что самая распространенная схема лечения – это сначала операция, затем химиотерапия. Но при крупных опухолях приходится начинать с цитостатиков, чтобы проведение операции стало возможно в принципе. То есть сначала надо уменьшить опухоли в размерах и убедиться, что подобранные цитостатики эффективны. Если нет опухоли, по которой можно измерить результат, трудно понять, требуется ли замена препарата.
Мое нынешнее положение – относительно молодая пациентка, сорок два года, с раком груди статуса HER-2 – напрямую связано с исследованием. В результате различных научных изысканий выяснилось, что на сегодняшний день существуют прекрасные схемы лечения. Антитела в сочетании с традиционной химиотерапией. Препараты более направленного действия. А я не могу поучаствовать? Я так устала. Думаю о доме в Молидене, о папе, чей прах до сих пор не предан земле – урна все еще ждет нас. Думаю об отце Матса, которому становится хуже. Теперь он живет в больнице, и хотя лицо его расплывается в улыбке, когда мы приходим его навестить, отчетливо видно, как он слаб. Его преследуют инфекции, он плохо ориентируется в пространстве, стремительно худеет. И в этой ситуации постепенно вырисовывается моя главная задача – обуздывать свою тревогу насколько хватит сил, чтобы поддержать детей. Душевно и физически быть рядом. Да, я психолог, но при этом я обычный человек. Нависшая угроза потерять родителей – это в любом случае кризис, и неважно, сколько тебе лет. Но кризис этот намного глубже, если ты еще не достиг возраста, когда точно знаешь, что справишься сам. Если ты ребенок, школьник. Разумеется, я буду делать все, что скажут врачи, – принимать нужные лекарства, двигаться, хорошо питаться. Но приплетать сюда научное исследование, связанное с риском… мысли постоянно крутятся в голове.
* * *
Антисептик. Подготовка к пункции лимфоузлов. Чистое постельное белье, чистое полотенце, чистая одежда, конечно. Я так же готовилась к операции по удлинению ноги в 1984 году – та операция длилась много часов и проводилась для устранения последствий травмы, полученной сразу после рождения. Задолго до предполагаемой даты родов у мамы открылось кровотечение, пришлось делать экстренное кесарево. Меня как недоношенную несколько недель держали в кувезе, и в ранку, в которую был вставлен зонд, попала внутрибольничная инфекция. Придя в себя, мама каждый день навещала меня в госпитале, и, когда после Рождества меня выписали, она чувствовала себя бодрой и отдохнувшей. Мама с ностальгией вспоминает первые годы, когда мы жили в квартире в Шёнеберге, а летом снимали у Эмиля бывший курятник, где папа столько всего выращивал. Уже потом, продолжает она, когда мы переехали в дом, начался грандиозный ремонт, потом папины вечные командировки. Вот тогда все пошло наперекосяк. Для папы это стало чрезмерной нагрузкой, и я тоже чувствовала себя ужасно.
Оказалось, инфекция повредила зону роста ноги, меня ежегодно показывали врачам, возили на рентген из Сундсвалля в Хернёсанд. Персонал в свинцовых фартуках, нужно лежать неподвижно, пока камера фокусируется на ноге. Этот левый ботинок с надставкой, который мне не хочется надевать в школу. После каникул одноклассники дразнят меня из-за разных туфель, и я говорю: так много играла в классики, что правая туфля попросту стерлась.
К двенадцати годам рост завершился, левая нога оказалась на пять сантиметров короче правой, и меня записали на операцию в университетскую больницу Уппсалы, далеко от дома. Мама чувствовала себя неважно после затянувшегося расставания с мужчиной, с которым встречалась после развода. Папа отвозит нас в Уппсалу, но в больницу с нами не идет. Ортопед, подготавливающий меня к операции, очень любезен – или это был хирург? Профессор, которого мы с мамой уже встречали раньше, выглядит как пародия на профессора – белый халат, развевающиеся седые волосы. По его словам, новый метод весьма многообещающий – люди наконец научились удлинять конечности. Есть и другой вариант – укоротить ту ногу, что длиннее, но ведь я как будущая женщина не хочу быть маленького роста? Я ведь хочу остаться высокой и красивой? Эти вопросы он задает мне, представляя новый метод удлинения ноги. Неужели я к тому времени уже настолько очарована идеалом красоты и модельной внешностью из глянцевых журналов, что даже не пытаюсь спорить с его утверждением? Просто сглатываю – разумеется, я хочу быть высокой. Если встать на длинную ногу, во мне будет целых 166 сантиметров росту, а если ее укоротить, получится всего 161 сантиметр. Но нет – правда в том, что профессор не оставляет мне выбора. Ему не приходит в голову, что я по какой-то причине могу отказаться от нового, простого и интересного способа удлинить ногу. А еще он спрашивает: «Кем ты хочешь стать, когда вырастешь?» Писателем, отвечаю я. «Ну вот и славно, тогда не страшно, если нога немного поболит». И вот вопрос с операцией уже решен.
Накануне операции я беседую с молодым врачом. Он из тех, кто не считает, что с двенадцатилетней девушкой, у которой уже два года как идут месячные и которая на самом-то деле уже перестала расти, можно разговаривать как со взрослой – поэтому он обращается ко мне как к ребенку, отмечает ручкой на ноге, в каком месте будут оперировать, говорит, что мне установят небольшой аппарат, который придется носить несколько месяцев и самостоятельно подкручивать, зато потом все будет хорошо!
Ну, небольшой аппарат можно как-нибудь вынести. Мне не показывают ни картинок, ни фотографий – и я представляю себе некий аппарат размером с губную гармошку. Он плотно прилегает к ноге, и на нем есть крючок, за который я буду дергать. Ну я же не знаю, как выглядят аппараты по удлинению кости.
Сколько часов длится операция? Много. Когда я отхожу от наркоза, уже вечереет. Я пытаюсь сесть – и вижу белую простыню, скрывающую нечто огромное. Я приподнимаю ее. И кажется, сразу теряю сознание? «Маленький аппарат» оказывается гигантской стальной конструкцией, охватывающей всю левую ногу ниже колена. Кровь, блестящий металл, бинты. Стальные дуги с обеих сторон, до самой стопы – кажется, я уже замечаю, что ногу пронизывают четыре длинных мощных гвоздя? Два под коленом и два чуть выше щиколотки. Никто не предупреждал, через какую пытку мне предстоит пройти. Между тем иначе как пыткой это было не назвать.
После операции я четырнадцать дней провела все в том же университетском госпитале. Меня должны были перевести в больницу в Сундсвалле, но я оказалась слишком слаба даже для перевозки санитарной авиацией. У меня высокая температура. Держится и не спадает. Каждый день перевязки, чтобы отверстия не зарастали кожей. То ощущение, когда медсестра смачивает мне ногу соляным раствором, чтобы отодрать кожу от стальных прутьев. Все восемь отверстий обрабатываются ватными палочками. Это ужасно неприятно. Но необходимо. Я вяжу свитер пастельных тонов со снежинками из розовой, голубой и белой пряжи, приходится все время считать, чтобы получился рисунок. По его мнению, прекрасно, что я занялась вязанием. Когда металлическое постукивание спиц прекращается, он сразу понимает – мне слишком больно. Он лучший в мире медбрат. Учит меня, как пользоваться отверткой для подкручивания аппарата – на миллиметр в день, не больше. Весь первый год в старшей школе мне придется ходить на костылях. Про верховую езду можно забыть, заботиться о своей любимой лошадке Тиффани я не смогу. Моя взбалмошная Тиффани, которую другие, крутые, девчонки на конюшне называют «больной на голову». Я знаю, что это не так, но иногда Тиффани подолгу не выходит из стойла. Если ее владелица, одна из больших девочек – правда, добрая – допускает ошибки в общении с Тиффани, лошадь может простоять в стойле не один день и становится нервной и нетерпеливой. Школа верховой езды не использует ее на занятиях, ведь Тиффани принадлежит частному лицу. Я обожаю ее, хотя порой побаиваюсь. Однажды, когда мы должны были делать вольт, я только успела сесть в седло, как она начала наклоняться вперед. Я оказалась совершенно к этому не готова. Она бывала строптивой, излишне оживленной, но такого не было никогда. Она все наклонялась и наклонялась. Между прыжками, в галопе. Я буквально висела у нее на шее, пока она мчалась по кругу, понимая, что надо отпустить поводья и просто шлепнуться на попу. Но с больших лошадей падать куда больнее, чем с пони. Наконец я все же упала. В плотно утрамбованный песок. Она не убежала, но я поняла, что пытаться снова оседлать ее сейчас бесполезно. Пусть побегает по шатру. Я веду Тиффани туда, вовсе не будучи уверенной, что смогу ее удержать. Но она послушно следует за мной. Никогда не видела более счастливой лошади. Я отпускаю ее, разумеется, без сбруи и седла, и она может бегать, прыгать, приседать как ей вздумается. Я стою у ограждения, время от времени Тиффани радостно подбегает ко мне, я поглаживаю ее гриву, и она снова пускается вскачь. Неудивительно, от такого избытка энергии можно сойти с ума. Но когда ее объезжают регулярно, она прекрасно слушается. Мы можем скакать рысцой, перейти на галоп, с наклоном корпуса. Она норовистая, но не злая.
* * *
Операция на лимфоузлах перед началом химиотерапии проводится под наркозом, но я смогу уехать домой в тот же день. Я знакомлюсь с медсестрой, анестезиологом, хирургом. Сначала лабораторное исследование: в лимфоузлы – или в опухоли – введут синюю жидкость, чтобы проверить, задеты ли лимфатические узлы. Каким-то образом синяя водичка помогает это определить. Я знаю – лечение все равно может пройти успешно, даже если они будут задеты. Рак необязательно распространился по всему телу. У мамы лимфоузлы были затронуты, при этом после мастэктомии ей хватило «одного только» облучения. Предоперационная комната, жду своей очереди. Есть ничего нельзя. Когда я оказываюсь в операционной, одна из медсестер спрашивает меня, кем я работаю. Я отвечаю, что пишу. В тот же миг передо мной возникают сразу три человека в зеленых бумажных шапочках и медицинских масках и заводят беседу о Май. Кажется, последнее, что я слышу, прежде чем погрузиться в наркоз, это вопрос: «А четвертая часть о Май будет?»
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!