Текст книги "Завещание Шекспира"
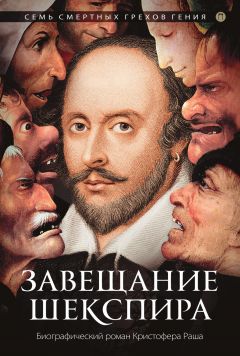
Автор книги: Кристофер Раш
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 32 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
– Вот эта магия тебя, наверное, и зачаровала.
Одним значимым жестом они сеяли зерна слов и мгновенно пожинали отклик зрителей. Заполненный до отказа зал волновался, как ячменное поле, от одного произнесенного слова. Вот она, истинная власть – в вибрации воздуха, в эхе нескольких фраз.
– Но ты ведь не в первый раз видел актеров?
К нам приезжали из столицы «Слуги Эссекса», «Слуги Стаффорда», «Слуги Лестера» – во главе с Бербиджем и «Слуги Вустера» с блистательной звездой Недом Алленом.
– А «Слуги королевы»?
В июне 87-го года у нас гастролировали «Слуги королевы» со своими комедиантами – Диком Тарлтоном и Уиллом Кемпом. Кемп только начинал свою карьеру, а карьера Тарлтона завершалась – старик с печальными глазами больше не мог рассеять королевскую хандру, и он близился к закату своей славы. Его ждала нищета, королевская немилость и смерть от пьянства. Вглядевшись в его расплывшееся лицо, можно было бы прочесть его будущее. Но, как и многим стрэтфордским зрителям, мне не удалось повидать его с близкого расстояния. Зато я увидел, как он встречает свой неминуемый закат шутовской остротой и обаятельной ухмылкой, насмешничающей над той, что глумится над всеми нами – оскалом смерти.
Его слава была так велика, что, желая хоть издали увидеть его, стрэтфордская толпа высадила окна Гилдхолла. Всем хотелось хоть одним глазком взглянуть на приземистого толстяка лицедея, который приводил в восторг королеву. Его остроты и проделки на сцене приводили ее в такое благодушие, что в последний момент она миловала осужденных на казнь. Своей жизнью они были обязаны бедняге Тарлтону, которому, однако ж, самого себя не удалось спасти. Публика внутри и снаружи Гилдхолла и не подозревала об этом. Не знали они и о том, что ожидало комика. Мы смотрели, как озорно он играл «Семь смертных грехов» и делал адское пламя не таким страшным.
– Прощай, Тарлтон, adieu, Стрэтфорд!
Когда повозка с актерами скрылась из виду в туче пыли, у меня на душе стало на удивление пусто. Эхо замерло, и Стрэтфорд казался опустевшим.
Я взобрался на Велькоумский холм и взглянул вокруг. Я глядел на бесконечную ширь равнины, испестренную крестьянскими угодьями, под беспокойной армадой облаков в вечных уорикширских небесах. Дядя Генри говорил, что они плыли так низко, что, казалось, можно вскочить на любое и поплыть над крестьянскими домами в дальние края. Кем быть – вот в чем вопрос. Я уже четко знал, кем не быть. За пределами Уорикшира лежала вся Англия, а дальше – синяя пустота и непознанный мир. Я стоял на вершине холма очень долго, медленно поворачиваясь, снова и снова, как будто вращаясь в центре гигантского круга. Этот круг очерчивали манящие горизонты, которые обрамляли картину, сгущали ее, обозначали ее границы и одновременно выталкивали ее в будущее, в неизвестность. Как же вырваться из этого круга? Поймать бы облако и направить его в синюю ширь.
Я рухнул на спину в траву среди полей, которые приняли меня, как дыба, и тончайшее, как сусальное золото, небо Англии приняло мою душу. В голове у меня все бешено завертелось и перемешалось: униженное прислуживание в отцовской лавке, скотобойня, зеленая тоска, жизнь, ускользающая, как песок сквозь пальцы, сварливая жена, назойливо жужжащая мне в уши. Если я останусь здесь еще хоть на неделю, я уже никогда отсюда не вырвусь. До конца своих дней я буду подчиняться круговому движению стрелок гигантского зеленого циферблата полей и слепой смене времен года, которые усыпляют сниттерфилдских земледельцев. Я тоже лягу в этих полях, моя могила присоединится к могилам моих предков, и я не узнаю лучшей доли.
– А ведь тебе было всего-навсего двадцать три года!
Шел 1587 год. Настало время поступить, как Джон, а до него Ричард Шекспиры. И теперь вслед за ними предстояло мне – сменить небо над головой. Что хочется, то надо исполнять, покамест есть желанье. Иль счастье упустить. То был мой миг прилива, который домчит меня к счастью, и нужно было им воспользоваться. Нужно было проявить свободу воли.
– Свобода или все-таки безумие?
Клокочущая похлебка из одиннадцати человеческих душ бурлила под крышей дома на Хенли-стрит. Отец избегал смотреть матери в глаза, читая в них упрек из-за пущенного на ветер приданого. Яд капал с языка Энн, и полынная горечь по капле вливалась в мои уши. Дети-близнецы капризничали, у них резались зубы. Для меня здесь не было будущего.
А вокруг зеленый июнь буйствовал, как разорвавшаяся бомба, как размеренное извержение жизненной силы. Голуби и вороны орали в лесу как оглашенные, грушевый цвет облетал под настойчивое щебетание синиц, пчелы слепо кружили среди снежного вихря многочисленных бабочек, густые облачка семян чертополоха парили в воздухе, а крапивная и белая дорожная пыль обжигали ноздри и кололи глаза. Муравьи торопливо разбегались по раскаленной земле, как шарики черной слюны, которые отскакивали от зимнего очага, падая с губ сниттерфилдских стариков. Я выбежал в поля, сбросил с себя одежду и снова рухнул в траву, глядя ввысь со дна океана растительности. Сквозь заросли зелени все казалось синим: запутанные переплетения синеголовых лютиков, голубые башни чертополоха, выглядящие на фоне неба как силуэты замков, сиреневые пули стрекоз и синее дрожание воздуха, которое полевым пожаром омрачало солнце. Где-то за полями было море – синяя вода и громадный мир. За солнцем была бесконечность. И во всем Уорикшире, дразня женатых людей, слышалась кукушка со своей беспощадно-монотонной вестью – ку-ку, ку-ку, ку-ку[62]62
Во времена Шекспира считалось, что кукушка пела мужьям о том, что они рогоносцы.
[Закрыть].
Ночью шаловливо-грешное золото звезд плавилось и лилось в мои бессонные глаза, а через открытые окна удушливой комнатушки на Хенли-стрит запах дикого чеснока ножом ударял мне в ноздри и заполнял мои легкие. Соломенная крыша потрескивала, как будто вот-вот загорится. Когда выходила луна, я вставал, как помешанный, и гляделся, будто в зеркало, в ее безумное, печальное лицо. Я не мог разглядеть свою путеводную звезду, но верил в ее существование. Она освещала мне путь в изгнание, отлучение от дома, от домашнего очага. Стоя у окна, я взглянул на спящую Энн, окутанную в серебряный свет, как труп. Под свежим белым ситцем дышало то самое тело, которое пять лет назад сводило меня с ума томлением сладострастия. Куда ж подевалась та любовь?
Рассветало. Я слышал, как с Эйвона взлетали лебеди, их длинные шеи кометами проносились в даль, которая принадлежала им. И река, с которой они взлетали, текла из Стрэтфорда в свое удовольствие – спокойно и размеренно, как она текла каждое утро, каждый миг каждого дня, прохладная и безумно свободная.
Такая же свободная, как «Слуги королевы», которые покинули Стрэтфорд пять дней тому назад в туче белой пыли. В оседающей пыли удалялись боги и люди, ангелы и дьяволы, шуты и короли, куртизанки и придворные влюбленные, дамы и благородные рыцари, унеслись, как прекрасные лебеди. То был другой мир, мир на четырех колесах. Я представил себе их телегу, которая катилась по Англии под звуки трубы. Окружавшая их зелень ничего не значила для актеров. Им не нужны были ни дуб и ни сова, чтобы отмерять годы или определить время суток. «Слуги королевы» принадлежали не месту и времени, а лишь себе. Они принадлежали всем временам, времени грез. Они были хроникерами нашего времени и его бытописателями.
– И ты принял решение.
Я уходил с Хенли-стрит под бурю слез. Не в силах поверить в то, что происходит, мои домашние рвали на себе волосы и одежду. Заверив их, что я не сошел с ума, я отрекся от стези земледельца и удела уорикширского простолюдина и направился к Клоптонскому мосту.
Его поддерживали восемнадцать массивных арок, и это был единственный выход из Стрэтфорда на юг. Мост был построен из дорогостоящего камня предприимчивым стрэтфордцем Хью Клоптоном, который уехал в Лондон, стал там лордом-мэром и с триумфом вернулся титулованным «сэром Хью». Он построил роскошный особняк, назвав его Новый Дом, и мост – на радость местным пьяницам: раньше берега реки соединяла допотопная деревянная конструкция, многие забулдыги при падении проламывали ее ветхие перила и тонули в Эйвоне. Теперь я стоял над последней аркой, собираясь покинуть город. Я часто бывал там мальчишкой, подолгу глядел в бурлящую воду на стыках, где вода протекала под мостом, ударялась об изгиб берега и несколько секунд кружилась в водовороте, а потом меняла направление и устремлялась назад, к той самой арке, из-под которой она только что пришла. Мы, бывало, бросали веточку или клок сена и смотрели, как они плыли под восемнадцатой аркой прочь из Стрэтфорда, но потом меняли курс и возвращались назад. Это была детская игра. А теперь мост стал пограничной чертой между юностью и всем тем, что ждало меня впереди. Я обернулся в поисках веточки или мха и увидел безутешных людей, стоящих в конце Бридж-стрит и глядящих вслед мне, уходящему из их жизни: мать, отца, сестру, детей, жену. Увидев, что я обернулся, как будто чтобы перейти мост в обратном направлении, моя четырехлетняя дочь Сюзанна вырвалась из рук матери, побежала было ко мне, но резко остановилась. В тот миг гигантская волна с глухим шумом поднялась из-под моих ног и захлестнула, задушила, ослепила меня. Мой рот раскрылся в крике, но не издал ни звука. В стрэтфордской земле остались три моих сестры, и трое моих детей тоже могли лечь в нее, прежде чем мы увидимся снова. Окаменевшая Сюзанна была потерявшейся девочкой, Утратой[63]63
Персонаж пьесы Шекспира «Зимняя сказка».
[Закрыть].
Усилием воли я заставил себя повернуться и поспешил перейти мост до конца, даже не помахав на прощанье. В детской игре веточка всегда возвращалась к арке. На этот раз я не играл. Побег, возросший гордо, отсечен[64]64
Слова хора из финала «Доктора Фауста» К. Марло (пер. Е. Н. Бируковой).
[Закрыть]. Мне нужно было решиться – сейчас или никогда. Остаться и работать на уорикширской земле, умереть в Уорикшире, стать Уорикширом – его полями и погодой – для меня было смерти подобно. Облака сгустятся и навалятся на меня, как комья земли, хороня меня заживо, с каждым днем все глубже, неспешно сожрут меня, как смерть. Тучи говорили мне: «Зачем с такой поспешностью бросать жену, детей – бесценные залоги и узы неразрывные любви?» Я бросил испуганный взгляд назад, все еще видя крошечную алебастровую руку Сюзанны, трепещущую, как платок на ветру, на том берегу реки. Я помедлил, поворотился и, не разбирая от слез дороги, пошел в Лондон.
21
Два пути вели в столицу: дорога через Оксфорд направо и дорога через Банбери налево. Возчики с упорством и пьяным занудством спорили, какая лучше, толкуя на своем извозчицком наречье и клянясь Медведицей над дымовой трубой в ночном небе. Оксфордская дорога была короче, но и та и другая были в ухабах и колдобинах. Зимой они были сплошным потоком грязи, а летом утопали в пыли, как песчаная пустыня. Войны и огораживания породили особую породу никому не подчиняющихся людей: злобных, ожесточенных существ с неистовой жаждой мести за разоренные семьи и свою одинокую, поломанную жизнь. В них недостатка не было, как и в бездельниках, которые не нуждались в оправдательных обстоятельствах, чтобы совершать злодеяния: обычные воры, бродяги с палками в руках, готовые напасть на кого угодно из-за каких-то шести пенсов, отчаянные головорезы, гнуснейшие отребья даже среди грабителей с большой дороги. Кроме них были разбойники с притязаниями, которые гнались лишь за богатой добычей. Они срезали кошельки, а не перерезали горло, в отличие от неотесанного сброда, который делал и то, и другое. Власти вешали тех, кого смогли поймать, но таких были единицы. Актеры-любители, которые не принадлежали к труппам, даже когда им удавалось избежать внимания грабителей, путешествовали по этим дорогам на свой страх и риск: власти их не жаловали. В глазах властей они были немногим лучше преступников. Во имя блага общества с их спин, не покрытых ливреями, срывали одежду и стегали плетьми до крови. Для такого, как я, одинокого путешественника безопаснее было нанять лошадь или упросить возчика подвезти – тогда, в первый раз, мне это было не по карману. Я рассчитывал провести четыре дня на своих двоих, ночуя в дорожных трактирах за один пенс и обедая за шесть.
В Стрэтфорде шутили, что, если бы Адама и Еву изгнали не из Эдема, а из Ардена, они выбрали бы дорогу через Банбери, а не Оксфорд. А бабушка Арден добавляла, что они, должно быть, отправились в Лондон, подчиняясь божественному наставлению идти, плодиться и размножаться. Когда я увидел толпы на улицах столицы, я мысленно с ней согласился.
Если бы Бог последовал за парой первых людей, чтоб посмотреть, что же они делают (а Лондон был бы для него всего лишь одной из прогулок), он не одобрил бы их выбора идти туда оксфордской дорогой. В Оксфорд шли те, кто, вопреки Богу, выбирал умные книги и ученость. Вероятно, поэтому в дальнейшем я предпочитал именно тот запретный путь. И в первый раз я тоже пошел через Оксфорд.
Я весь день шел на юг через Азерстоун и Ньюболд до реки Стаут. Там впервые с той минуты, как покинул Стрэтфорд, я повстречал людей. До этого я видел лишь отблеск солнца на лезвии косы вдалеке в полях или слышал возгласы в воздухе, наполненном песнями жаворонков.
Пройдя Шипстон, я направился через Котсволдс в Лонг Комптон. Я с большой неохотой сделал крюк на запад – повидать в Бартонена-Пустоши сестру матери тетю Джоан и дядю Эдмунда Ламберта. Когда я уходил с Хенли-стрит, посреди всхлипов и рыданий прозвучали жалкие – и безжалостные – мольбы отца повидать его свояка и упросить его вернуть обратно дом и пятьдесят шесть акров в Вильмкоуте. Он принадлежал моей матери и был заложен ему девять лет назад за сорок фунтов. Я должен был пообещать выплатить эту сумму, как только подзаработаю в Лондоне. Если бы не эта последняя надежда и еще одно небольшое поручение по пути в Лондон, мое семейство скорее привязало бы меня к позорному столбу для сожжения, чем выпустило на волю. Только отец с пониманием отнесся к моему уходу из дома.
Когда я объявил, что направляюсь в Лондон, тетя Джоан открыла рот от изумления и недоверия, у Эдмунда Ламберта просто отвисла челюсть, а его светло-голубые невидящие глаза, казалось, сверлили меня насквозь. Ему явно недолго оставалось жить на этом свете, и это прибавило мне смелости. Но когда я заговорил о делах и о закладной и подкрепил свои слова враньем, что я отправился в Лондон против своей воли для того, чтобы поправить семейное положение, он указал белым трясущимся пальцем на хмурого юнца, который сидел в полутемной комнате, а тетя Джоан кратко пояснила, что во всем разберется Джон Ламберт, сын и наследник ее супруга. После нескончаемых споров и недобрых покачиваний головой с его стороны, в ответ на поджатые толстые губы своей матери и усугубившуюся пустоту бесцветного взгляда отца, хмурый юнец согласился взять еще двадцать фунтов сверх первоначальной суммы закладной, обещание, которое три месяца спустя скользкий сукин сын отрицал перед моим отцом в суде.
Я говорил за всех четверых и давно бы уже потерял терпение с этой унылой троицей, если бы не прибытие проездом двух гостей – двоюродного брата Эдмунда, судьи из Пебворта, с его кузеном из Глостершира, из безмолвных туманов которого он, кажется, не совсем еще выбрался. Два старика заверили меня скрипучими голосами, что знают в Стрэтфорде и старых и малых, и потребовали, чтобы я рассказал им в мельчайших деталях все о каждом жителе. Умер? Господи помилуй, все мы там будем. Никто не вечен!
Мое неожиданное появление в этом унылом доме подстегнуло приятные воспоминания двух братьев об их детских шалостях и проказах. Чтобы продолжить предаваться воспоминаниям, они вызвались сопровождать меня на следующем отрезке моего пути до гостиницы, где я мог бы остановиться на ночлег. И речи не было о том, чтобы Ламберты оказали мне гостеприимство в собственном доме. Старики приехали верхом, чтобы поберечь свои старые ноги, и согласились подвезти меня милю-другую. Я охотно согласился и оставил Ламбертов наедине с их алчностью и приближающейся смертью, запах которых витал в стенах их дома.
На следующий день я без остановок и передышек прошел Чиппинг Нортон, Энстоун, Вудсток и Червельскую долину и наконец-то прибыл в Оксфорд. На постоялом дворе «Корона» на Корнмаркет-стрит я не мог заснуть в двух шагах от того самого места, где на костре Кровавой Мэри когда-то корчился от боли Латимер.
На следующее утро я отправился в путь еще раньше, намереваясь достичь Аксбриджа до наступления темноты. Весь день я провел в дороге: Хеддингтон Хилл, Витли, Тетсворт, Стокенсерч, прошел через Чилтернс, по Хай Викоум и дальше на восток через Биконсфилд и Джерардс Кросс. Уже смеркалось, когда в поздние июньские сумерки я добрался до Аксбриджа и заночевал в омерзительнейшем клоповнике на всем моем пути в Лондон. К утру, искусанный, как собака, я проснулся от зловония застаревшей мочи среди вчерашней золы в очаге и плодящихся с беспощадной деловитостью клопов. Я воспринял это как прощание с провинциальной жизнью и, когда добрался до Саутола и Актона, увидел впереди такую завесу дыма, что сначала подумал, что в Лондоне пожар и он сгорит раньше, чем я его увижу. Я спросил об этом хромого солдата, которого обогнал по пути, но тот ухмыльнулся и заверил меня, что в Лондоне это привычное дело. Дым, который я лицезрел, был лишь отблеском ежедневного ада.
– Поживешь здесь чуток – перестанешь его замечать и сам станешь частью этой преисподней, – произнес он. – Ты тут быстро позабудешь деревенские ароматы.
И он спросил у меня денег на выпивку.
Оставив его позади, я прошел Шеперд Буш и наконец дошел до ужасного Тайберна. Я остановился посмотреть на печально знаменитое тройное дерево[65]65
Эшафот, на котором можно было повесить сразу несколько человек.
[Закрыть]. «Везде есть своя скотобойня, – подумал я, – эта вот – лондонская». Вся разница была лишь в том, что здесь лилась человеческая кровь. Скотина умирает с выражением совершенного ужаса и боли. В ее смерти есть какая-то жуткая чистота. А это место было осквернено проклятиями жертв и глумлением зрителей. Что за публика приходила сюда? Неужели кому-то хотелось поглазеть на зрелище человеческой бойни с таким же жгучим нетерпением, с каким я когда-то пожирал глазами Кенилвортский карнавал?
Но вскоре зловещие виселицы сменились восхитительными лугами, где царила сладкая какофония грачей и кукушек – исполнителей лирических песен и скорбных элегий, и они в очередной раз убедили меня в странном переплетении горя и радости. На траве около церкви и больницы для прокаженных сидело несколько арестантов в цепях. Я вошел в деревню Святого Эгидия-в-Полях. По дороге в Холборн я встретил еще несколько человек в цепях, они следовали парами в обратном направлении.
– Эй, сэр, не в ту сторону идете! Настоящее зрелище будет вон там! – прокричал один из узников. – Неужто вам не хочется посмотреть, как нас вздернут?
– А потом вывернут наизнанку, – ухмыльнулся его товарищ. – Приходите похлопать нам в последний раз.
Я долго смотрел им вслед. Они направлялись в Тайберн. Они напьются «адамова эля» – воды из источника во дворе церкви Святого Эгидия, и это будет их последнее подкрепление в этой жизни. А перед тем, как взойти на эшафот, отдохнут на лугу вместе с другими преступниками. Но они шли туда с дружеской шуткой в адрес прохожего, только пришедшего в Лондон, пока сами готовились расстаться и с городом, и с жизнью. Они встречали шуткой смерть и страх. Я содрогнулся и ускорил шаги, спеша прочь от обреченных с их бравадой. Я пошагал по Холборн-стрит, перешел реку Флит по Холборнскому мосту, прошел мимо церквей Святого Андрея и Гроба Господня и наконец очутился в Ньюгейте.
Я достиг цели своего пути.
22
– Где тебя ожидали слава и шлюхи.
Много чего ожидало меня в Лондоне тридцать лет назад. В то летнее утро я очутился не просто в незнакомом городе. Лондон был средоточием эпохи, раскаленной добела историей и шлюхами.
– Он тебе таким показался…
Я оказался в эпицентре жизни, в огнедышащей щели величайшей из блудниц – Англии.
– В окне, распахнутом в ад.
И ад, как щель проститутки, был бойким местом, беспокойным миром коммерции и желаний, вселенной, в которой нужно было крутиться, если не хотел очутиться на обочине жизни, пока твои гениталии и тесемки кошелька праздно колыхались на ветру, обдувавшем Англию того времени. Прервав брачные игры в канавах, бродячие собаки задирали морды, унюхав почти ощутимую новую эпоху. Даже жирный дождевой червь, казалось, извивался деловито, как будто дрожа от возбуждения, которым полнилась земля, от удовольствия предвкушения, любопытства и веры в будущее.
– Над нами реет в вышине надежда.
Я чувствовал ее в своей плоти, я вдруг ощутил себя свидетелем таких великих свершений, каких по мере старения Англии мы уже никогда не увидим.
– Эх, молодость, молодость!
Мир блестел, как спелое наливное яблоко, и мог отмахнуться от времени и обстоятельств, как от несущественных деталей. Ощущение простодушной силы молодости витало в воздухе, и, когда время сорвалось с поводка, даже немыслимые злодеяния были пронизаны отсветом мечтаний и бесконечных возможностей.
О, какое ж то было время! Эпоха производства белья и кружев, шелковых одежд и шелка слов, дублетов из тафты и цветистых фраз, бархатных метафор и обтягивающих мужских панталон с гульфиком, ярких личностей, смелых гипербол, вычурных образов тех, чей дух метался по океану, эпоха флотилий купеческих кораблей с наполненными ветром парусами, с итальянскими купцами и зажиточными бюргерами на борту.
– Ведь в то время многие озолотились, да?
А бедный люд был попран, унижен и растоптан. И плевать хотели аристократы на бездомных и неимущих, трудами которых были построены богатые дома, увешанные тирскими коврами, уставленные ларцами из слоновой кости, набитыми деньгами, и французскими сундуками из кипариса. Груди их супруг заставляли лопаться пуговки на тугих лифах. Турецкие подушки, расшитые жемчугами, венецианское шитье, бургундские вина – молоко Франции, золотые вышивки, оловянная и медная утварь, сотня дойных коров в стойле и в придачу сто двадцать быков, производящих наилучший навоз во всем христианском мире.
Роскошь на стенах и тучность в полях означали богатство.
– Да, Уилл, это не могло тебя не подзадоривать.
В эпоху богатства мне не хотелось быть бедным. Бедняков всегда было как грязи. Большинство из них работало за один шиллинг, а некоторые и за шесть пенсов в день. Даже за семьдесят лет жизни (что само по себе было редкостью) через натруженные мозолистые руки бедняка не проходило и двухсот фунтов.
– А когда он ложился в могилу, у него оставалась лишь шкура, в которой он жил и умер.
А иногда не было и ее, Фрэнсис, потому что попадались такие священники, которые вытаскивали простыню из-под умершего, если в его четырех голых стенах не было ничего другого в уплату церковной десятины. Негодяи заживо спустили бы с него шкуру и пустили бы его жир на масло для ламп, если б таковой имелся на костях бедняка. В ту эпоху было два вида денег – богатой и бедной чеканки, и бедняк явно зарабатывал не те деньги.
– И ты пришел в Лондон не за бедняцкими деньгами.
Это точно! Но если б знать, что нас ожидает!
Что ж меня ожидало? Для чего я вообще отправился в Лондон? Чего хотел я больше, чем денег? Лишь одного – пространства. На уорикширских просторах я чувствовал себя как в тюрьме.
– Но та эпоха была полна опасностей.
Лондон был смертельно опасным для жизни, но в одном он был безвреднее Стрэтфорда. В Лондоне ты был песчинкой, тебя окружали незнакомые люди. Здесь можно было стать другим человеком, человеком с другим прошлым. Можно было быть кем угодно, в том и заключался соблазн Лондона, особенно лондонской сцены, где и король, и простолюдин находились в одном пространстве, вместе потели и один и тот же актер мог играть и того, и другого. Это не только уравнивало, но и в корне меняло жизнь, как Овидиева метаморфоза.
– В Стрэтфорде не так.
Стрэтфорд был бесконечной далью за семью горами, куда ни глянь – пестрые волнистые одеяла полей, покрывающие моих копошащихся в навозе родственников и моих предков, которые сами стали перегноем. Я не хотел так жить, не успев пожить для себя. Мне это было не по нраву. Стоя в то утро на окраине бурлящего передо мной Лондона, я ощущал игру открытого пространства и неограниченные возможности. Язык пощипывало, как в детстве, когда, подняв лицо, я ловил ртом снежинки и капельки дождя. Разговаривая на улицах Лондона, я чувствовал себя свободным. Я улавливал звучание своих слов, они слетали с языка и падали к моим ногам, позвякивая, как золотые монеты. Я был убежден, что можно взять перо и в этой замечательной новой полноте пространства начертать на небе какие угодно стихи и пьесы и каждый звук пронзит небеса, как звезды. Лондон действительно был блудницей, но блудницей, охочей до слов и падкой на обольщение языком.
– Ну-ну, дружище, веди себя пристойно. Не забывай, сколько тебе лет.
То были годы сделок с совестью и компромиссов: протестантский молитвенник покойного Эдуарда, разговоры с Богом не на латыни, а на родном языке, один на один, накоротке и без посредников; невзрачная королева-протестантка, отсутствие окон в душах людей, зато их наличие в животах[66]66
Елизавета объявила, что она «не хотела открывать окна в душах людей», подразумевая право подданных выбирать ту веру, которая была им ближе. «Окна в животах» – публичные казни на религиозной почве путем вспарывания животов.
[Закрыть], и проклятия на устах. Верь, чему хочешь, чему тебя обязывает долг, – только подчиняйся условностям, и избежишь удавки палача или, еще хуже, – лезвия его ножа. Пусть лицо станет забралом души.
То была эпоха видимости, кажимости. Прибавь к этому заговоры и массовые расправы, ученых-богословов, папскую буллу об отлучении суверенной королевы от церкви, католических агентов из французского Реймса и Дуэ, проникающих сквозь английские границы, тайники в подпольях домов, священников в нужниках по шею в густых вонючих папистских экскрементах, страну, испещренную, будто пчелиными сотами, тайными католическими ячейками и покрытую липкой слизью испанского влияния. Мало кто в Англии спал спокойно. Испания убила сон, испанец был ночной совой. Он лишил нас сна, положив нож под подушку королевы Марии[67]67
Король Испании Филипп II, супруг королевы Марии, руководил заговором против Елизаветы.
[Закрыть].
То было время заговоров. Елизавета выросла среди них. Она сама была плодом печально известного заговора своего царственного отца, и, как только он умер, плод дал семена. Она, как блестящая муха, находилась в трепещущем центре сплетенной пауками паутины – и не только испанскими: в Англии хватало и своих, доморощенных пауков, прячущихся по щелям. Они замышляли зарезать ее, удушить, взорвать, подсыпать яду в ее еду и питье, отравить ее стремена, одежду, обувь, гребни для волос, уничтожить ее еще каким-нибудь изощренным итальянским способом. Они производили смертоносные парфюмы, самовзрывающиеся масла, чтобы поджечь ими королевскую кровать и в мгновение ока отправить спящую королеву на тот свет в пламени огня. Поверь, замыслы их были ужасны: изощренные, кровавые, бесчеловечные – и вполне осуществимые.
То была эпоха Марии Стюарт. Но хотя наша английская королева и была гневлива, она не спешила отправить свою шотландскую кузину в мир иной. Двадцать лет она раздумывала, и в тот год, когда я приехал в Лондон, решение наконец-то созрело. Но даже когда яйцо треснуло и католические змеи выползли из него к ее кринолинам, она все еще сомневалась, полагая, что власть короля в ограде Божьей.
То была эпоха Бабингтона. Заговор, который привел Марию на эшафот, заменил вялые метафоры на острый топор и вбил гвозди в крышку ее гроба. Четыре месяца спустя после заговора, когда я прибыл в столицу, в Лондоне все еще о нем говорили.
Все началось со священника Балларда и некоего господина по имени Полей. Баллард подкупил Бабингтона, который был пажом Марии в ее бытность в Шеффилде. Никому не запрещается взглянуть на английскую королеву, даже кошке, и пажу разрешили приблизиться к бедняжке, такой хорошенькой и призывно мурлычущей, а Мария была мастерицей мурлыкать. Бабингтон принадлежал к старинному богатому роду священников, и для паписта нет приятнее звука, чем мурлыканье католической киски. Он был человеком пьющим и легко внушаемым. Мария была для него чем-то вроде Богоматери, с которой он мечтал слиться в небесном союзе. Его политические мечты были предельно просты. Он собрал вокруг себя с десяток заговорщиков, шестерым из которых с письменного соглашения Марии повелевалось убить королеву Елизавету. Уолсингем был в курсе каждого слова – письма перехватывали, расшифровывали и отправляли дальше по назначению, а заговорщикам позволили продолжать копать себе могилу и угодить в захлопнувшуюся западню. Вот тут-то шпионские пауки взялись за свое дело.
Изменников было так много, что понадобилось два дня, чтобы казнить их всех – по семь человек на эшафоте за раз. Первая казнь оказалась такой бесчеловечной, что, когда пришел черед второй семерки, толпу пощадили и осужденных решили не подвергать мучениям в полной мере, как то предписывал закон. Ведь королева походатайствовала о применении новых методов, чтобы причинить заговорщикам максимальные страдания. Даже завсегдатаи Тайберна, регулярно посещающие казни и обычно подначивающие палача, – даже это закоренелое меньшинство было потрясено жестокостью расчленений и потрошений. Бабингтон не избежал причитавшихся ему мучений. Он и его соратники лишились жизни – вернее, того, что палач Топклифф соизволил оставить им от их жизни, – в жесточайших страданиях. Поговаривали, что крики с эшафота слышались в шести графствах Англии и разносились даже дальше, чем вопли Эдуарда II, когда раскаленная добела кочерга воткнулась ему в задний проход и в одно мгновение сожгла его внутренности[68]68
По замыслу убийц, Эдуард, имевший гомосексуальные связи, должен был умереть унизительной и бесславной смертью преступника, так как в елизаветинской Англии гомосексуализм считался извращением и карался смертной казнью.
[Закрыть]. Нам в Стрэтфорде не слышно было криков Бабингтона, и, если б мы их услышали, я держался б подальше от Лондона. Заговорщики умирали громко и медленно, крики их мучений подняли в небо стаи перепуганных птиц, которые черной тучей устремились на север. Птичий клекот вторил воплям казненных. Крестьянин поднял голову от сентябрьского жнивья и посмотрел на небо, старая карга в сниттерфилдском нужнике услышала птичьи крики, оба увидели темные очертания в небе и боязливо пробормотали: «Души Бабингтона и его товарищей далеко не улетят – их заграбастает дьявол». И так погибнут все враги королевы.
То была эпоха Елизаветы. Она была царицей английского бала и королевой английской сцены. Она пропела песнь, которую Англия хотела услышать, песнь, которая воодушевляла и наполняла ликованием мужские сердца. Она нащупала в сердцах англичан струну святого Криспина[69]69
День победы при Азенкуре приходится на день памяти святого Криспина.
[Закрыть] и сыграла на ней так же искусно, как на Робине Дадли.
– Робин родной мой, вся радость моя… А ты слыхал, как пела та пташка?[70]70
Игра слов: Робин – уменьш. от «Роберт» и «снегирь».
[Закрыть]
Слыхал, хотя к 87-му году эпоха Лестера ушла в небытие, да и самому Дадли оставалось жить меньше года. Он был алчным мошенником из породы выскочек. Его изменщик дед был казнен палачом Генрихом, его заговорщик отец – королевой Марией, а сыновей отправили в Тауэр. Там Дадли встретился с будущей королевой Елизаветой (она же Бесс), тоже в то время узницей, и совместное заключение сблизило и привязало их друг к другу.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































