Текст книги "Афганистан"
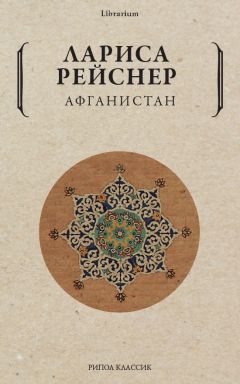
Автор книги: Лариса Рейснер
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Глава седьмая
Про науку, англичан и канат
Эмир всегда неспокоен в присутствии англичан. Их белые шлемы, их непринужденные манеры, в которых чудится презрение господ, не стесняющих себя в присутствии людей низшей расы, – все злит Амманулу.
Его лоб горит – сбросив каракулевую шапочку, эмир надевает соломенную шляпу местного производства. Обмахивает залитое краской лицо конским хвостом, вделанным в деревянную ручку.
У придворных кислые лица. Властелин, с которым вообще шутки плохи, содрал с них новенькие европейские костюмы, заставил облечь жирные, трепещущие складками животы в колючую и топорную машин-хане – ткань, вырабатываемую первой и пока единственной кабульской фабрикой. На последней охоте, развеселясь, со своей ярко-красной усмешкой, взял и вырезал ножницами из кокетливых английских костюмов придворных огромные лохмотья. Министр просвещения уехал домой, прикрывая носовым платком голое колено. Были и другие прорехи, менее пристойные.
Все это очень напоминает московских бояр, возвращавшихся с царевой пирушки в старинные свои дома кто с урезанной бородой, кто без пол на кафтане. В конце концов ножницы укрепили любовь двора ко всему национальному – сорокапудовых франтов не узнать сегодня в спартанском одеянии цвета песка, верблюжьей шерсти и помета.
Покончивши с френчами и галифе, властелин принялся за старинное невежество своей страны. У эмира Амманулы-хана огромный природный ум, воля и политический инстинкт. Несколько столетий тому назад он был бы халифом, мог бы разбить крестоносцев в Палестине, торговать с папами и Венецией, сжечь множество городов, построив на развалинах новые, с такими же мечетями и дворцами, опустошить Индию и Персию и умереть, водрузив полумесяц на колокольнях Гренады, Царьграда или одной из венецианских митрополий. Но в наши дни, затиснутый со своей громадной волей между Англией и Россией, Амманула становится реформатором и обратился к преобразованию и мирному прогрессу. Само собой понятно, что мир этот нужен властелину только как передышка, чтобы подготовить Афганистан к грядущей войне с добрыми соседями… Цивилизация и прогресс используются им как орудие, которое должно быть обращено именно против этой враждебной европейской культуры и цивилизации. С деревянными стрелами, луками и мечами не повоюешь против Винчестеров и Круппов. Для этого нужно привить восточной стране не только известные технические навыки, но и грамотность, способность хотя бы механического подражания и некоторой ориентировки.
В маленьких восточных деспотиях все делается из-под палки.
Слон несет бревна, потому что его колют за ухом острием анка; солдат глотает пыль, обливается потом в своем верблюжьем мундире, съеживается, как сморчок, под лучами беспощадного солнца, а зимой пухнет от холода и голода, подгоняемый хлыстом и кулаком; палка устраивает в одну ночь сады на голом и мертвом поле, убирает для праздника флагами, коврами и фонариками какую угодно нищету… При помощи этой же палки Амманула-хан решил сделать из своей бедной, отсталой, обуянной муллами и взяточниками страны настоящее современное государство, с армией, пушками и соответствующим просвещением, нечто вроде маленькой Японии, – железный милитаристический каркас со спрятанной в нем, под сетью телеграфных и телефонных проволок, первобытной, хищной душой. К сожалению, эмир, при всем врожденном уме, при огромных способностях, выделяющих его из среды упадочных, вялых династий Востока, сам не получил правильного образования, не имеет полного представления о европейских методах воспитания, о средствах и людях, пригодных для школ вообще.
Во главе военного училища стоит турецкий офицер, ныне генерал, известный в Кабуле своими выходками, увеселяющими придворных, и животною жестокостью в обращении с учениками, отданными в его власть. Во время последнего праздника весны он развлекался тем, что направлял к своим красным генеральским лампасам всю дождевую воду, сбегавшую с верха палатки на мокрые ковры. Генерал сидел посреди лужи, багровый, похожий на пьяного Фальстафа, и заглушал оркестр своим ржанием и непристойностью. Женитьба этого придворного шута произвела огромный скандал даже в Кабуле. Но с подчиненными паша мгновенно изменяется. На головах учеников его разнузданный кулак выстукивает все свои унижения и обиды. Горе воспитаннику, упавшему с лошади во время барьерной скачки, сорвавшемуся с трапеции, оступившемуся на параде.
Итак, в 24 часа приказано устроить просвещение, обучить наукам сотню подростков, всеми корнями вросших в жирный слой купечества и знати. Мальчиков взяли, засадили, били, били и били.
Так поступал в свое время и Петр, но тот, кроме учеников, умел находить и учителей. Его арапа учили профессора Сен-Сира; молодые дворяне, весьма скупо снабженные деньгами, принуждены были пешком странствовать по Европе от одной знаменитой кафедры к другой. Корабельные же мастера, боцманы и сведущие в математиках приказчики голландских купцов не раз бивали по шее сыновей Шереметевых и Баратынских. Учили насильственно, раздвинув судорожно стиснутые скулы бояр, где рукоятью кнута, а где и топором, но учили.
К сожалению, отсутствие европейского образования помешало эмиру найти учителей для своей страны. Старые дворцовые дядьки, въедчивые вредные муллы, мелкие чиновники Министерства иностранных дел, особенно шустрые по части внешних заимствований, взялись уместить в черепа маленьких афганцев всю европейскую премудрость. И наконец наступил день испытания.
Ничего нет легче и радостнее кабульской весны – наступающей медленно, длящейся бесконечно, такой долгой и томной, от слабой дымки на горах и до торжествующих медовых метелей, когда цветут фруктовые деревья. Экзамен устроили в одном из садов, под навесом палатки, край которой то обжигало солнце, то мочило счастливой майской грозой. После нескольких ударов грома, после минутной влажной темноты день становится еще более блистательным, пропитанный запахом земли, оживленный трепетом вишен, дрожащих перистыми белыми ветками от прикосновения пчел, чистотой неба, незапачканного фабричным чадом.
Съехался двор в своих домотканых костюмах. Англичане вошли и сели в небрежнейших позах. Обменялись поклонами, ненавистями и любезностями. Один из придворных вздулся в кресле фиолетово-синей горой жира и нездоровой крови. Испуганные, с черными конскими хвостами на шапках, промаршировали музыканты. Замолчали – стало опять слышно пчел, которым со всех сторон машут яблони белыми рукавами.
Среди тишины, – «раз-два, раз-два»: один шагает к палатке и дергается церемониальным маршем мальчик лет четырнадцати, в тесном, жарком мундире. Рука к козырьку, ноги – как палки, внутри налит крахмал, от благоговейного ужаса не может начать.
Учитель одергивает его в последнюю минуту: надо стоять не на траве, а на самом краю ковра, разостланного перед зрителями. Затем длинная заученная речь (около часу) о просвещении, о недосягаемом величии ислама, о невинной мусульманской крови, ожидающей возмездия. Все это громким голосом, однообразно, без смысла и выражения, без передышки, без возможности обернуться на свои скачущие мимо слова. Патриотический крик, выученный наизусть.
Меняются ученики, меняется содержание их спичей. Но крик неизменно торжествует. Лица мальчиков сливаются в один рот, судорожно разинутый, испускающий пронзительные и высокопарные хвальбы. Двор рукоплещет. Эмир радуется, как ребенок, замечательным успехам молодежи. Между тем авторы произносимых учениками приветствий шмыгают в задних рядах, подобрав длинные полы, смакуя свой косвенный успех в кругу старших конюхов, чайдара и особо почтенных соглядатаев. Английский посол прячет двусмысленную улыбку за листком программы и не без искреннего чувства аплодирует этому знанию, еще на пятьдесят лет гарантирующему полную безопасность британской Индии.
Торжество прерывается короткой молитвой на лугу. Толпа спускается равномерными поклонами – один, как все. Молятся заходящему солнцу, цветущим садам, влажной траве, пока звонок не возвещает испытание по химии.
Два смышленых подростка показывают химические опыты; зрители следят за их таинственными манипуляциями с затаенным страхом и любопытством.
Пробирки с красными, белыми, зелеными жидкостями. Мальчик потрясает ими над седобородыми головами мулл, перед круглыми, выпуклыми, влажными глазами придворных. «Да поможет мне господь! Соединяю две бесцветные жидкости, и получается красное». Сенсация. В благоговейной тишине хихикают молодые атташе английского посольства и деловито и нежно жужжат пчелы.
Вспыхивают какие-то газы, порошки превращаются в воду, вода в огонь; несколько миниатюрных взрывов довершают успех. Что, почему и зачем – неизвестно. Да никто и не интересуется причинами. Эмир доволен; он страстно любит треск, огонь и осколки. Стороной посматривает на англичан: вот, дескать, эти дети узнали все ваши секреты и чудеса; дайте срок, они и вас взорвут на воздух.
За ученой алхимией – хоровое пение. За пением – наизусть выученная, заранее решенная задача. Крохотные мальчики, лет пяти-шести, выступающие правильным военным шагом, декламируют на совесть длинные, сладкие мадригалы. И напоследок – канат. Его величество не может без игры и азарта.
Праздник ему не в праздник, если закладка мечети обойдется без конского скаканья или ученое торжество – без игры в канат.
Эмир – большой человек, настоящий герой азиатского Возрождения.
И, как некогда флорентинцам и римлянам, милы ему в равной степени алхимия и ристалища. Ученики всех разрядов, без различия премудрости и отметок, делятся на две равные партии и тянут в противоположные стороны концы толстой веревки.
Двор и дипломатический корпус держат пари на молодых Менделеевых и будущих Реклю, а весеннее солнце благодатно смеется со своей голубой башни.
Глава восьмая
Наука в гареме
IЕсли прищурить глаза или смотреть через занавес солнечного света, может показаться, что это выпускной акт института – так этот зал с колоннами, ряды нарядных девочек, эстрада с важными начальствующими дамами похожи на старый Смольный.
Институток наших возили в старомодных каретах, а этот маленький женский народец приехал на экзамен в громыхающем деревянном ящике с опущенными занавесками, запряженном парой флегматических серебристых волов. Просвещение вообще шагает медленно, но вряд ли есть у него упряжка тише этих волооких, добрых и невозмутимых животных.
Наших институток охраняли почти бесполые классные дамы, здесь среди свежих детских лиц мелькают безволосые, желтые и опухшие маски кастратов. Есть какая-то наглая животная развязность в их движениях: придворные лакеи и полулюди, они без церемонии копошатся в шелесте женских юбок, сплетничают и соглядатайствуют, толкают локтями более бедных учениц, через их головы подают чай или упавший платок своим госпожам – словом, вносят в учебную комнату весь душок спальни, всю двусмысленность своего привилегированного положения.
Зал разделен эстрадой на две половины. Внизу рядами ученицы в пестрых форменных платьях, кончающие сегодня полный курс своего образования (один год), девушки-невесты в шелковых желтых платьях, с легкой белой фатой на растрепанных черных волосах. У них тяжелые, преждевременно созревшие груди, горячие глаза восточных женщин и лицемерная чопорность богатейших невест базара, жестокая детская спесь и в то же время длинные шершавые руки, пальцы в чернильных пятнах, застенчивая походка школьниц. Возле девушек «мунши» (учительница) в европейской громадной шляпе и, как мне кажется издали, с орденом Красного Знамени на пышной груди. Кончающих всего пятнадцать, все остальные гораздо моложе – от шести до восьми лет. Эти прелестны. Совсем маленькие, они не умеют еще ханжески опускать глаза, не рассматривают с нездоровым любопытством трех желторожих дядей, каким-то чудом попавших на женскую половину, не поджимают губы и не складывают ладони блюдечком при виде Корана.
В толпе детей, тяжело переступая ногами слоновой толщины, прогуливаются старухи-мамки. Это пожилые вольноотпущенницы, у которых на желтом морщинистом лбу, под складками прозрачной ткани еще видно голубоватую звездочку, – знак их рабства, упраздненного всего три года тому назад, – память далекой родины: Индии, Аравии или Турции. Для этих старух, сохранивших свой старинный костюм – на плечах дивной яркости кашемировую шаль, на голове белоснежную фату и такие же шаровары, обшитые внизу гремушками, – этот первый в Афганистане праздник женского просвещения – нечто непостижимое и незабываемое.
С трясущимися головами, с глазами, которые туманит дряхлость и волнение, они пробираются вперед, слушают, смутно чувствуя, что с этим днем их старая жизнь окончена. Они утирают слезы и сквозь слезы улыбаются не то чуждому будущему, не то кивают смерти, которая стоит и ждет за плечами этих девочек. Толстые и добродушные слонихи умиленно дремлют, когда солнцу сквозь вечно юные узоры индийской одежды удается прогреть горы их ленивого жира – спины и груди, раздутые до чудовищных пределов, лоснящиеся под бледно-розовым, сиреневым и лимонным шелком. Но есть и другие: сухие и подвижные, до сих пор сохранившие следы когда-то небывалой красоты. Их брови выгнуты, как агатовые арки на высохшем лбу, их глаза лежат в глубине сухих впадин, как черные ночные драгоценности. Это те, которые умели в жизни только любить и создали целую науку любви, целый культ нежных ухищрений: они подбирали оттенки страстей, как пестрые шелка на праздничном ковре.
Они состарились, но их лица сохранили какую-то мудрую грацию – улыбку жриц, служивших мучительному, но прекрасному богу прихоти. И вдруг вместо того, чтобы учить девушек тайнам взгляда и улыбки, искусству пляски, сопровождаемой двумя серебряными гремушками, двумя поющими у пояса серебряными голубями, их учат решать задачи с ценой на ячмень, «сабзу» и рис. Старые куртизанки неприязненно позванивают запястьями, шелестят своими шелками, как опавшими осенними листьями, и думают о том, что из этих воспитанниц не выйдет ни одной царицы улья, способной жалить и любить, расточать смерть и счастье, похожие на старинные песни.
С нашей точки зрения, то, чему научили этих девочек, неверно и немного страшно. На карте они знают только границы старых, когда-то непобедимых мусульманских царств и, пожалуй, еще те эфемерные пределы, которые до сих пор грезятся яростным панисламистам. Девочка четырнадцати лет отвечает урок по географии. Она находит на карте всего мира крохотный Тунис, Алжир, Марокко и Бухару. Для нее это страны, подпавшие под рабское иго неверных и ожидающие нового пророка и воина, который бы вырвал их из-под европейской пяты. Черные глаза горят фанатическим огнем, а крохотная смуглая ручка грозно сжимается над двумя грешными, неправоверными полушариями. Придворные дамы, преподавательницы, старушки и даже евнухи отирают слезы. Мы, представительницы другого, презренного человечества, сидим очень тихо, сочувственно киваем маленькому фанатику в желтом шелку и втихомолку радуемся, что время великих Аббасидов и Омайядов прошло и вечность успела перевести свою стрелку на четыре века. Мертвые не встают, песок не отдает старой крови, и мы не воюем за гроб господень.
Вот она, первая розовая заря просвещенного абсолютизма, брезжащая над Кабулом. Мелькают громкие слова: прогресс, культура, автомобиль, телефон, телеграф; кроме того, подразумеваются носовой платок и зубной врач, уже прибивший на базаре свою драматическую вывеску. Затем, в перерыве между двух речей, вторая девочка решает у доски арифметическую задачу. Лицо ее серьезно освещено изнутри мыслью, ей не до этикета, не до дам, даже не до награды. Мнет в руке мелок, старательно выводит свои каракули, пугается, думает, пальцем стирает цифры, и из этой первой задачи, решенной афганской девочкой, некий бес истории втихомолку приготовляет нечто, через какие-нибудь сто лет имеющее взорвать на воздух и этот зал с колоннами, и непроницаемые занавески гарема. Наконец задача решена, и девочка, поцеловав руку эмирши и получив от нее подарок, спустилась с трибуны. Но ее место занимает сама Арифметика, чтобы сказать несколько слов о своей глубине и пользе. Да, Арифметика, всем знакомая и памятная с детских лет. Ее чело голо и желто. Глянцевитые волосы примазаны к костистому черепу, полному вычислений. Глаза спрятаны за синие автомобильные очки. Свет играет то на одном, то на другом стеклянном зрачке, что придает этой науке сходство со смертью. Совершенная абстрактность этой фигуры усиливается ее удивительным красочным нарядом. Поверх волос, очков и желтых скул струится чадра нежнейшего сиреневого цвета, а плечи, деревянная грудь и руки с пальцами, сухими, как кусочки мела, обтянуты ярко-зеленым, искристым шелком. Дети в полной панике не сводят глаз с лица математического фантома, а старушки-наложницы, дожившие свой век в неге и пораженные таким безобразием, при столь великом красноречии снова чувствуют себя растроганными и утирают слезы. И весеннее солнце золотит яркие шелка, детские подвижные лица и Математику, ее круглые глаза-лупы – словом, прошлое и будущее.
Совсем в другом роде директриса училища. Это – немолодая уже женщина с правильными, даже приятными чертами лица. У нее спокойный, внимательный взгляд, привыкший видеть многое, ничему не удивляясь. Кружевное покрывало не закрывает ее умного лба и осторожной улыбки. Как только ее зоркий черный глаз замечает где-нибудь на ковре носовой платок, оброненный Шах-Задэ-Ханум, или пустую чайную чашку, сейчас же величавость сменяется величайшей торопливостью. Она спешит поймать и поцеловать на лету руку и вложить в это прикосновение все тонкие оттенки интриги, разделяющей двор.
Дети, удостоенные награды, вызываются на трибуну по особому списку. При этом учительницы тщательно справляются о положении и имени их отцов. «Дочь сердара… дочь генерала… дочь мусташира…» Между эстрадой и залой устанавливается патриархальный тон: придворные хорошо знают дворянство, делают покровительственные или критические замечания по поводу известных семей, имен, лиц. Дети напряженно слушают то с тайным соревнованием, то с недобрым смехом, когда шутки касаются какого-нибудь неуклюжего червячка, дикой и некрасивой девочки из далеких горных кишлаков.
Наконец программа приходит к концу. Прочитаны молитвы, показаны европейские рукоделия, в тысячу раз хуже афганских вышивок, продаваемых на базаре, тех простых и ярких орнаментов, которыми обшиты шаровары и широкие шелковые рукава служанок. География и арифметика унесены кастратами, и молоденькие дамы начинают зевать в корсетах, безжалостно сжимающих их пышные восточные бедра.
Черные европейские платья и шляпы двора тонут в живом потоке детей, похожих на смуглые ландыши, в белых облачках-фатах, в пестрых старинных шалях, в красном, зеленом, голубом и желтом, такой неувядающей яркости, каких не выдумать и не сделать теперь никому. И завтрак, к счастью, накрыт не на столах, а прямо на полу. По коврам разостланы полотняные скатерти, и среди блюд в одних чулках бегают служанки, в своих пестрых шароварах с бубенчиками у щиколоток. Ни стульев, ни подушек – все садятся на корточки и едят руками, старухи рвут на части целых курят, утирают рот пальцами, на которых блестят брильянты и капли бараньего жира. Пожилые женщины предпочитают перец, нежное мясо ягнят и сладости. Рис осыпается из их медленно жующих полных ртов на исполинские груди, на равномерно дышащие животы. Ах, жизнь все еще хороша, когда плов заправлен шафраном, а бараньи ножки утопают в янтарном, клейком соку.
Поодаль танцовщица раскладывает свой ковер. Ей четырнадцать или пятнадцать лет, одета она – увы! – в европейское платье, но грива ее распущенных волос мрачна, тяжела и длинна, как ручей, падающий в горах с одного угрюмого камня на другой. Лицо крупное, правильное и яркое. Старая индуска отбивает такт на барабанчике своими сухими когтями, выкрашенными в красный цвет, – это мать, всю жизнь плясавшая на больших дорогах свой танец, древний, как религия, пока голод и старость не сделали ее похожей на мертвое дерево.
У танцующей в руках две серебряные гремушки. Они щелкают, как молодые птицы, прыгающие по снегу, но уже чувствующие раннюю весну.
Как она пляшет! Почти не двигаясь, едва переступая белыми тяжелыми ногами. Но при каждом ударе барабанчика ее плечи дрожат и опускаются, опускаются длинные ресницы, опускаются руки с их серебряной музыкой. И вдруг в томлении вздрагивает ее целомудренная грудь – так внезапно и страстно, что сердце летит в какую-то невыразимую пропасть. А она смотрит, скосив пристальные, длинные зрачки, улыбаясь красными, как у бога любви, губами, которые одни цветут костром на снежном, неподвижном, окаменелом лице. Она чиста и молода, как ее серебряные игрушки, но каждое движение ее глаз и сосцов причиняет физическую боль своим гордым, неподвижным и неудержимым сладострастием.
Какое счастье! Азия упорно не хочет умирать! Вот она снова прорвалась наружу и околдовывает тоскливую иностранщину.
Кончилась пляска, и возобновился прерванный французский разговор, но она, старая, как мир, неувядающая, держит кальян желтыми маленькими ручками рабыни и подносит этот тонкий дым к губам курильщиц с такой зыбкой, спокойной усмешкой, с таким мерцанием опущенных ресниц, точно ей совсем не страшны ни беспламенный свет, ни знаменитое просвещение; надо всем этим чертит неуловимые, насмешливые круги ее кальян, переходящий из столетия в столетие. И когда афганки одни, без чужих наблюдательных глаз, они томятся, скучают, торжественно хоронят свое неумолимо и бесцельно уходящее время, как истые азиатки, как их матери и бабки, жившие в давно умершие времена, когда были молоды стены Кабула, построенные на непроходимой высоте.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































