Текст книги "Афганистан"
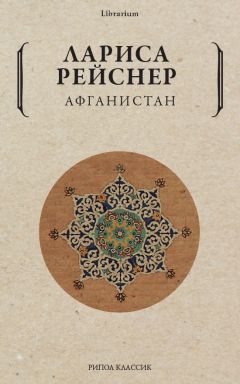
Автор книги: Лариса Рейснер
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Глава пятая
Хина, карболка и мази из бараньего жира
Было бы смешно подходить к первой афганской больнице с европейским масштабом. Важно самое ее существование, самый факт появления градусника под мышкой афганца, высохшего и черного, как те ужасные бродячие собаки, которыми кишат все базары Востока, – они настолько ленивы и измучены, что ни окрик всадников, ни автомобильный гудок не может их поднять с середины дороги, где они спят в теплой, усыпляющей пыли, постоянно оглашая воздух всхлипывающим воем. Реомюр под мышкой такого афганца – пограничный столб, единица, с которой начинается новое культурное летосчисление.
Кроме того, больница в жизни беднейшего населения – первая оседлость, первая долгая остановка в пути.
Ведь всю жизнь афганец кочует, еще ребенком с подведенными сурьмою глазами, на ослице, которая несет его мать. Если он уроженец племен, то ежегодно, через горные перевалы Гиндукуша, от границ Индии к альпийским лугам Хазареи, от английского колониального шлема, от стройных телеграфных столбов Ост-Индской компании, как ряд черных берез, взобравшихся на самые крутые вершины, – к глиняной крепостце афганского наместника, его серебряной плетке, чеканенной в Газни, к медным грошам гератского базара, где щепотку риса и хлебную лепешку еще продают за динарий Александра Македонского.
Если он крестьянин, то по бледным от жара дорогам он всю жизнь ведет продавать пару баранов, лениво потряхивающих курдюками и оставляющих за собой острый запах навоза и мускуса. Он вечно едет в город со своим хлебом к мелочному скупщику, у которого мука пополам с пылью, но новый, спесивый, как его чалма, из грязи и воды слепленный домик рядом с постоялым двором, где вечно ржут лошади, где прохожие пьют и моются из грязного арыка и где набожные люди на виду у всех молятся, застыв в честных поклонах и провожая нетерпимыми глазами всякого прохожего, его осла, его козу и его полосатый плащ.
Если больной, который теперь лежит с выражением безграничного покоя, как дорога, изрытая черными сухими колеями, по которой вдруг перестали ездить и она блаженно зарастает травой и тишиной, – если он был солдатом, то это тоже значит вечное скитание, пот, солнце и пыль в глаза. И все эти без определенной цели всегда идущие, всегда выветренные и выгоревшие на солнце, лица которых напоминают корабельные вещи, – так с них воздух и свет смели все лишнее, все теневое.
А ведь идти так далеко, до 60–70 лет, мимо стольких костей, белеющих на песке. Только на Востоке старость суха и подвижна, как пыль. Только на этих дорогах без конца и начала встречаются белые, сухие старухи с открытым лицом, с загнутыми туфлями под мышкой, которые они несут, точно пару серебристых египетских голубей на продажу. Над этими бабушками, бегущими вперед мелкими, едва приметными, ровными шажками, как часовая стрелка от секунды к секунде, тяготеет один страх: остановиться. Остановка – это конец. Это острый, серый камень в серебристой мяте, мягко переливающейся, как пыль больших дорог в лунные ночи. Да-да, и вдруг больница. Постель, хлеб, рябой мальчишка, который даром выносит горшки и еще вытирает тарелки, клизмы и ночные столики концом своей просаленной, но все еще блистательно свисающей чалмы.
Таков первый покой, первый досуг, правда расписанный тифозными и сифилитическими пятнами, но все-таки его святая тишина превыше бредовых криков, больничной вони и грязи.
Восточная жизнь всегда в плоскости: вдоль высокой глиняной стены, жаркой, как печь, а сверху, – вдоль полуразрушенного карниза, как старый плащ неистлевающей бахромой, обшитого куском густого, бархатного, низкого неба. Вдоль этой неизменяемой бесконечной стены все и движется, и живет. Но больница – это разрез поперек, в глубину, до костей. Визг перееханной собаки тоже в плоскости: он начинается от копыта, от пинка ноги и кончается там, где пешеход дойдет до лавки с виноградом, а собака свалится в канаву зализывать лапу, – все это вдоль, все в одном измерении. Но ампутированная нога, но капли, которые каждый день щиплют изъеденные трахомой веки, но обезображенное лицо под таинственной чадрой, вылезающее из складок «Тысячи и одной ночи» с дьявольской насмешкой, – это уже протяженно, это концы и начала, сведенные вместе, это та же стена, но в которой сифилис и пендинка проели неизлечимую дыру, и вот в нее видно и дом, и крохотный, со всех сторон запертый сад, средневековье, невежество и преступления.
Во главе общественной больницы стоит турецкий врач Нурен-бек. Двадцать лет назад он учился в Париже, потом каким-то образом попал в Кабул и сделался любимцем старого эмира. Основал первую больницу, устроил рассадник оспенной вакцины и, перезабыв давно и упростив до крайности свои парижские приемы, с любовью и энергией резал, прививал, излечивал или отправлял на тот свет. Во всяком случае, одними прививками спасал ежегодно тысячи человек. В награду Хабибулла-хан подарил ему маленькую невольницу, на которой доктор, чтя Бурже и добродетель, счел долгом жениться. И сейчас на всех женских аудиенциях обязательно появляется его ханум, сморщенная, как высохший лягушонок, с кирпичным румянцем поверх тяжелых, серых рытвин, пересекающих ее раскрашенное лицо, как оросительные канавы высохший пустырь. Ее сухие лапки с нечистыми ногтями, всегда подогнутые, как у удивленной птицы, прячутся в ярко-розовые шелка.
Трудно сказать, как они ладили и жили вместе, но из тех же розовых складок высовываются головки трех детей доктора, худеньких, подвижных, с затененными глазами испорченных гамэнов, с приседаниями, улыбками и кружевцами на панталончиках, – это уже от вольноотпущенницы, от правоверной рабы.
У доктора много книг, он читает и любит Шекспира и 15 лет не говорил ни с одним европейцем.
И, может быть, оттого, что над его благонамеренной головой мелкого буржуа (в черной ермолке, какие в Париже носят портье и профессора) полжизни дребезжала скрипучая погремушка нелепейшей из всех комедий, лицо доктора Нурен-бека усвоило странную гримасу. Вместо смеха он ни с того ни с сего прищуривает один глаз, растягивает рот до ушей, и его рантьерский животик в широком вырезном жилете бесшумно подпрыгивает и трясется.
Но дело в том, что выпученный глаз при этом смотрит без всякого веселья, испуганно и удивленно. И тогда кажется, что уравновешенный, в полном смысле слова порядочный Нурен-бек издевается над собой и над циничным фарсом, который получился из его жизни.
Он любит оперировать. Любит пройти в операционную через три тесных и вонючих палаты, причем его ассистент, старый афганский знахарь, с трудом променявший приворотные травы, порошки из собачьего семени и заклинания на олеум рицини и карболку, шествует за ним и с видом колдуна на всякий случай бормочет над приготовленными инструментами испытанные заговоры. В такие минуты старику кажется, что он знаменитый профессор, перед которым открывается ряд белоснежных палат, и что в конце концов из рога изобилия, некогда вытряхнувшего в его объятия скудоумную ханум, выскользнет и орден Почетного легиона. И, мечтая о Saint Lazare, он браво режет грязные, худые и голодные тела, не замечает слабости собственной руки, проколотых сосудов и пузырей и грязного передника, о который его ассистент вытирает ножи. Может быть, без этой неунывающей бодрости, без иллюзий, помогающих превратить скверный барак в образцовую клинику, милейший Нуренбек не мог бы работать в ужасных условиях, в которых он мужественно провел 20 лет, не мог бы сделать большое и нужное дело. У него нет ни инструментов, ни перевязочных средств. Усевшись на глиняный пол и размотав перед врачом какой-нибудь гнойник, гангренозное пятно или рожу, больной затем спокойно подбирает с полу свои лохмотья и старательно ими перевязывается.
А все тяжело, почти безнадежно больные, которых больница вообще не принимает, стараясь избежать лишнего процента смертности, подрывающего ее авторитет в глазах духовенства и всякого рода ханжей.
Что делать доктору с 10-летним ребенком, которого отец, молодой еще солдат, принес на руках? Кости и кожа, опухший и размягченный череп, сведенный на сторону. Блуждающий, как у всех смертельно больных, мудрый и невнимательный взгляд – и жизнь, все еще жизнь в омертвелой коже, в костях, торчащих из-под нее, в крике. Какая тут надежда! Врач отворачивается к другому, и отец, посидев совершенно одиноко на скамейке, медленно заворачивает полумертвое дитя, еще медленнее встает, еще медленнее уходит. Ах, черт! эти ужасные паузы, это стояние на месте, эта повернутая уже и все еще ждущая, спрашивающая спина.
Вот женщина, которая сейчас пойдет на операцию. Приблизительно месяц назад ей удалили катаракт, после 20-летней слепоты она начала видеть. Оставалось что-то исправить в ее неправильно поставленных веках – пластика, как говорят врачи.
Знахарь решил, что он справится с этой пустяковой задачей не хуже проклятого кафира. Ковырнул в глазу кухонным ножом – больная ослепла уже навсегда.
– Ну да, – говорит Нуренбек со своей гримасой. – Ces imbéciles…
Сколько поэтов пело восточную чадру! Сколько с ней связано неопределенных мечтаний. Под ее мрачными складками чудится непременно красавица, изящество которой выдает узкая пятка, мелькающая из-под покрывала. Что же, в больнице таинственная черная занавеска подымается.
Вот пришли три «ханум». Маленькая и сгорбленная, пошлепав вокруг доктора туфлями без задков, подымает чадру дрожащими руками. В черном окладе откинутого покрывала – чистенькая старушка, сухая, как пыль, и от белых широких рукавов ее рубашки пахнет чем-то полевым, как от мятных зарослей на старинных кладбищах. У нее болят глаза: вокруг синих немного мутных зрачков – красная густая полоса, благодаря которой все лицо похоже на чистый сухой лист, изъеденный гусеницами. Ее старшая дочь, тоже больная, долго не хочет открыть лица. В таких случаях уговоры бесполезны. Чем больше просить, тем упорнее будет сопротивление. Доктор открывает входную дверь перед другими пациентами. Старушка и ее занавешенные дочки приходят в волнение. Мать дергает врача за рукав, и молодые женщины, отвернувшись, втянув голову в плечи, выползают из своих коконов. На белом, одутловатом лице старшей – красные очки трахомы. Ее смуглая красивая спина изъедена экземой. Осматривать ее – одно мучение. Пациентка, для которой врач ни на минуту не перестает быть кафиром и мужчиной, считает своим долгом разыграть перед ним все условное действо стыда, сопротивления, всех этих бедных жестов с закрыванием лица, криками и нервным смехом. Без этого она не может, в этом вся женская порядочность, престиж и ценность. Иначе какой же смысл в чадре, в вечном скрывании своего тела – преступного, запрещенного, отвергнутого законом.
Очень немногие открывают свое лицо, смеясь, легким и порывистым движением, которое их сразу роднит со всем, что молодо, красиво и не боится смотреть прямо в глаза.
В общем, при всех строгих предосторожностях, глухих стенах и оградах, при наличии чадры и сверхъестественного лицемерия и жестокости большинство женщин страдает венерическими болезнями. Мужья ли их заражают, возвратившись из Индии со своими караванами, или они ухитряются грешить, будучи затиснуты между двух страниц Корана, – Аллах их ведает, а пока что черноглазая, ласковая и веселая женщина, у которой так влажно и свежо блестят зубы, смеется на все вопросы и в конце концов обходит любопытство доктора, лукаво и притворно-добродетельно открывая ему для укола не свою стройную и чистую спину, а узкую полосу, заранее прорезанную в широчайшей одежде.
Странно, но приличная палата которой-нибудь из наших общественных больниц производит гораздо более унылое, даже отчаянное впечатление. Пять этажей, запах капусты и болезней, скуластая сиделка, грязный халат и грязная ванна, липкий и пахнущий потом градусник.
В чем же суть? Неужели из-за грядки цветов перед Табханой, из-за жаркого неба, из-за экзотики с ней легче примириться, чем с клоакой Обуховской и Калинкинской?
Во-первых, больные, ожидая очереди, не сидят в приемной, не перелистывают альбомы и не читают растрепанной, инфекционной «Карениной», а лежат или сидят на жаркой, сухой земле. По дороге в операционную они еще раз оглядываются и вносят с собой широкие линии гор и еще более избыточные, клубящиеся, ко всему безразличные очертания облаков, ползущих в долину через голые горные края грозовой пеной.
Терпение? Нет. Покорность судьбе? Да нет же! Земля, даль, ширь, дороги – как ручьи, неодушевленное эмалевое небо. Что тут значит чья-то лихорадка, переломанные кости, больной ребенок? И перед стихиями есть некоторое равенство всех. Не социальное, конечно. Один ест плов каждый день, на его бороде масло, и конюх бежит рядом с его лошадью, в то время как другой продает невкусные маленькие арбузы или ночью, положив голову на сухую листву, караулит чужую кукурузу, которая блестит в неясном свете звезд, как золотое сито. Все это есть – и трещины, и пропасти. Но тем не менее. И богатые дома, и бедные лепятся на одинаковой грязи вдоль не знающих тени дорог. И богатые, и бедные носят чадру. Их красота, их грудь, вышитая серебром по оливковому бархату, их спесь – все бесполезно. Никто не увидит.
И спят все на полу – в одном тюфяке больше, в другом меньше блох. И только.
Едят руками. Переехав границу, молодые купцы прежде всего, скинув лаковые туфли, моют в ручье стесненные ноги и потом требуют плов, чтобы его подпихнуть в рот большим пальцем, а руки вытереть о фалды habit noir. В холеру все стукают лбами о земляной пол по 20 раз в сутки. И мертвых хоронят всех одинаково.
Равенство в смерти. Только на могиле святых есть отличительные знаки – старинный мраморный рельеф, голая, поникшая, как коромысло, жердь с конским хвостом на конце и ночью тлеющие свечи. Остальным – и богатым, и бедным – яма в сухой земле, заостренный камень, и больше ничего.
Быстро-быстро, точно боясь опоздать, бежит толпа родственников за носилками, на которых лежит тело, завернутое в простыню. Торопливый, короткий и простой обряд, а за ним забвение.
Вдоль дорог, среди плодородных полей, на перевалах – везде острия безыменных кладбищенских камней, никто не знает чьих.
Нет свежих могил, все одинаково стары.
На следующий день женщины, которым не позволено присутствовать на погребениях, с трудом отыскивают свой осколок, свою кучу песка.
И, может быть, именно потому, что в маленькой библейской стране, где еще пашут деревянным плугом, так велико общее ничтожество перед стихией, будь то горная цепь, пророк или эмирская власть, и хождение по мукам больницы принимается с тем же ровным безразличием, как жизнь, солнце, взятки и смерть.
В стране, где так просто умирают, где бедность естественнее засухи, клубок болей и безобразий, сжатый в три больничные палаты, ничем не выделяется. Яма, в которую грязной струей стекает гной, отчаяние и беспомощность Кабула, не нарушает его пыльной гармонии. Стекла разбитых бутылок во дворе госпиталя, трупный запах, смешанный с ароматом его цветочной клумбы, одинаково радостно дышат на солнце, так же покорно и беззаботно смешиваются, как пестрота, вонь и радость жизни на любом восточном базаре.
Глава шестая
Закрытая женщина с закрытым ребенком
В последний день Рамазана все женщины Кабула собираются в сад императора Бабура. Все, без различия возраста и общественного положения, приходят на праздник молодой луны; появлением ее лукавого, тоненького серпа кончается тридцатидневный пост. До ворот сада тысячи и тысячи женщин совершенно похожи друг на друга. На них черные покрывала, черные шаровары, черные толстые чулки, даже прорезы глаз затянуты черным кружевом. Идут по знойным дорогам, по тропинкам среди высокой зеленой ржи, через шумный и пестрый базар вереницей безликих, замаскированных привидений. А на руках – праздничные, прекрасные дети в шапочках, усаженных бумажными бабочками, с глазами, обведенными сурьмой, с бубенчиками и бусами на руках и ногах. Мертвые несут смеющиеся цветы, мертвые от пыли прикрывают полами своих саванов лица детей.
Вокруг ликующая природа, лиловые горы в снежных шапках; душистые луга клевера, сады, из которых доносится воспламененное дыхание роз. За высокой глиняной стеной Бабура маски исчезают. Ветер подхватывает тысячи белых покрывал в блестках и бумажных цветах. По дорожкам с особенной какой-то грацией, выработанной веками, бегут пышные шаровары, загнутые туфли. И до полу свешиваются похожие на косу черные широкие ленты, прикрепленные к затылку под прозрачной фатой. Богатые горожанки в шелку, с рыхлыми лицами и ленивыми глазами, и женщины племен в лохмотьях, похожие на переодетых королев, по трем лучам-дорожкам подымаются в гору, к легкому летнему дворцу. Там вековые чинары, широкие ручьи, падающее течение которых кажется остановившимся.
Очень молодые женщины бегут к качелям, но большинство садится прямо на землю, шумными рядами, которые понемногу успокаиваются и замолкают. И наконец говор становится похожим на рокот, на зуд веретена, на неподвижный полет тех золотых мух, вибрирующие крылья которых часами стоят в воздухе, точно повисшие в нем, уснувшие, застывшие на месте. Праздник сводится к созерцанию, застоявшиеся женщины, отвыкшие от движения и воздуха, быстро устают от непривычной свободы. Их тянет к ковру, к земле, к привычной позе с поджатыми ногами. Они садятся отдыхать, как птицы, отвыкшие от полета. Тела, рыхлые и белые, как пух, льются в удобные, оплывшие, мягкие движения.
В толпе этих матерей, спокойно опустившихся на землю, есть удивительные лица. Особенно вот эта полная, зрелая, красивая женщина. Свое место она нашла не спеша и, чуть задохнувшись от тех нескольких шагов, которые пришлось пройти от экипажа до тенистых чинар, опустилась на подушку. Затем, успокоившись, подняла лицо – лицо Марии, – чистое, крупное, спокойное с очень белым, гладким лбом, тонкими бровями и таким грустным, нелюбопытным, ничего не ищущим взглядом, точно эту свою жизнь, похожую на всякую другую, она прожила уже много раз. Ее начало, ее конец – вот как этот сонный водопад с остановившейся водой. И примирилась с безнадежно-ровным, предустановленным, неизменным ее течением. Монотонный крик, который не умолкает весенними ночами; убыль луны и полнолуние; первые цветы и первый снег должен ей внушать животный ужас, которого никак не поймет деловитый, немолодой, зажиточный муж. Она предугадывает черное время, которое течет к дыре и в нее вливается, как осенняя вода, и видит эту глинистую, мутную, мелководную Лету Востока так же спокойно, как дымчатые горы, тепло, восторг зрелой весны, раскинутые перед ней в солнечном сиянии на десятки-десятки несчитаных верст.
Но к какому же зрелищу готовятся толпы зрительниц? Ну, хорошо, прошли мы, и нас встретили удивительно дружественными «селямами», испытующим и одобрительным прикосновением старческих рук, улыбками молодых, детским плачем и визгом. Особенно бедняки-женщины, пришедшие в Бабур босиком, в лохмотьях, прямо из своей нищенской жизни на голой земле.
Никто не клянчил, не протянулась ни одна рука, просто приветствовали, показывали, что понимают, мол, кто мы, чьи «ханум» и что между нами есть уже та не выраженная словами инстинктивная социальная симпатия, которой тщетно стараются помешать восточные школы и идеология восточного базара, – симпатия самых глухонемых масс, какие мне когда-либо приходилось видеть. Нет, зрелище только начинается. Постепенно съезжается знать. И вскоре перед тысячами, перед этим морем крылатых покрывал, лохмотьев, лиц, набеленных белилами, и диких спутанных косм, бронзовых голов, напудренных пылью больших дорог, появляется женская половина купечества. Ярко накрашенные парадные маски, взбитые волосы, ноги в тесных, остроносых башмаках, сочные тела, затиснутые в корсеты, и нелепые европейские тряпки сидят на стульях перед внимательным, многотысячным амфитеатром, старающимся на всю жизнь запомнить, как двигалось зеленое перо на красной шляпе, какие жемчуга лежали на парчовой груди, какой чулок обтягивал в этот святой день белую толстую ляжку какой-нибудь дамы. Между зажиточными и нищими некое недоступное для народа пространство, охраняемое мальчиками-солдатами, воспитанниками военной школы. Им даны винтовки, они играют взрослых, стараясь им во всем подражать. С азартом расшалившихся детей тыкают прикладами куда попало, избивают крошечных детей, пинают по шеям, по животам, в грудь, куда попало. Никто не смеет остановить маленьких мужчин. Мальчики, чувствуя полную безнаказанность, орудуют с тем зверским презрением к женщине, которое им привито с молоком матери, которое пронизывает все их воспитание, всю вообще жизнь. И женщина, для которой создан этот праздник, его единственная героиня и устроительница, раз в году снимающая чадру, защищенная от гнета семьи, от мужа, брата, отца, которые почтительно ожидают за воротами со своими баги, осликами и таратайками, в этот день своего редкого торжества становится добычей привилегированных мальчишек, собственных детей, бьющих ее по чему попало со всей развязностью взрослых, так сказать, от лица отсутствующей половины семьи.
Вокруг бассейна садятся женщины, чтобы петь свои национальные песни. Среди них много кочевниц, диких, оборванных, великолепных, которые вообще раздражают чисто вычесанных курдючных горожанок своей легкой походкой, стройностью, золотым блеском кожи, незнакомой ни с какой чадрой. Они смотрят на дикарок, как овцы, с трудом несущие жирное вымя, поддерживаемое холщовым мешочком между коротких растопыренных ног, на легких джейранов, этих горных стрекоз, с женственными глазами, которых бьют в горах из старинных двустволок. Толстые старухи смотрят на оборванных певиц со своей неизменной, жестокой улыбкой, затем незаметное движение глаз – и банда маленьких солдат набрасывается на этот хор, тащит и разгоняет.
Поднявшийся ветер несет на толпу тучи едкой желтой, ужасной пыли. И пока женщины, ослепшие от песчаной вьюги, стараются протереть глаза, обмыть лицо в бассейне, их сзади избивают прикладами и уводят прочь. Никто и не думает о защите, никто не возражает. В течение 4-часовой потасовки ни одного гневного жеста, ни одной попытки защитить себя или своих детей от издевательства. Эти взрослые, сильные женщины, которым ничего не стоило бы отшлепать любого из «защитников» общественной безопасности, позволяли себя гнать, как скот, принимали как нечто должное все ругательства и синяки. Ни одна не посмела дать отпор девяти-, десятилетнему мужчине. Ни одна, за исключением безумной старухи, которую с гиком и визгом сбросили с веранды на мостовую. Стоя в облаке желтой, раскаленной пыли, перепачканная, вся ржавая, как это солнце, в облаке жгучего песка, она долго кричала что-то сквозь ветер и летучий туман. И как ни старались ее заглушить, она все-таки сделала свое дело – прокляла.
И далеко от всего этого, от пыли и плача, сияя нечеловеческой красотой, прошла через сад молодая эмирша, прекраснейшая женщина Афганистана.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































