Текст книги "Афганистан"
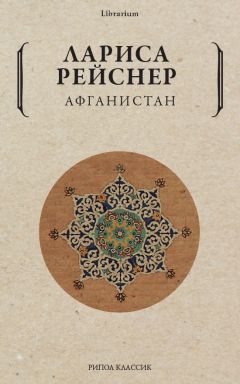
Автор книги: Лариса Рейснер
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Глава десятая
Как пишется история
Нам понятна долговечность идей; никто не удивится человеку, в наши дни живущему ненавистями и приязнями Руссо, Шопенгауэра или Гёте. Может быть, даже найдется некто, любящий Тассо или Джордано Бруно, для которого поныне тень от белых стен крепости св. Ангела ложится на горячий полуденный путь, как печаль и безумие. Кое-где сохранилась боязнь черной иезуитской рясы, холод в костях отдаленных потомков от жара священных костров. Но нигде старая вражда не стоит так долго, как на Востоке. Много столетий назад Ормузд и Ариман побеждены Магометом; давно написана и успела обветшать «Книга царей» поэта Фирдоуси, но так же, как на червонных страницах рукописей, мертвые идеи еще спорят, одни вечно сопротивляясь, другие нападая.
Их развозят по Востоку особые ученые, смесь современного литератора и старинного проповедника, коммивояжеры новых идей и учителя состарившихся истин. Именно таков новый гость Афганистана – Мирза-Абдул-Мухамед, просвещенный человек, издатель либеральной газеты в Египте.
Ко двору эмира Амманулы-хана он приехал, как езжали англичане в Немецкую слободу к Грозному, голландцы – к Петру, и как до сих пор странствуют шарлатаны, мастеровые и вообще люди грамотные к отсталым, но богатым соседям. Он привез с собой в Кабул шелковистую профессорскую феску, отличный сюртук, важность и серьезность святого человека – и историю Афганистана в семи томах, по две тысячи листов каждый, над которыми трудился двенадцать лет не без надежды на щедрое вознаграждение в будущем.
Двор принял ученого с почетом, очень одобрил нумера его журнала «Надежда Правоверного, или Что делать благочестивому мусульманину?», однако отвел ему более чем скромное помещение вблизи могилы императора Бабура и вежливо, но твердо уклонился от уплаты старого долга за выписку «Упования сынов Магомета». Как ни был серьезен и красноречив ученый перс, в плохо отапливаемых, но пышных развалинах Великого Могола он ничего не приобрел, кроме почета. Разочарование, неопределенные обещания и совершенно платонические ласки правительства сделали отшельника более откровенным. В своем пустынном уединении он обдумал и заготовил не одну теплую страницу об «истинном» состоянии Афганистана, этой, по его мнению, «отсталой деспотии, которую могут превозносить только продажные перья, но не свободные умы мыслителей, чуждые всякой суеты» (к разряду последних причисляется, конечно, и означенный перс, двигатель прогресса).
Таков этот тип восточного литератора, путешествующего целую жизнь между Каиром и Портой, Кабулом и пирамидами, разнося либерализм, легкий скептицизм под маской благочестия, идеи национальной независимости, сплетни и новости, из которых в конечном итоге складываются репутации правительств и политических деятелей.
Это кочующее общественное мнение со скромным запасом белья и денег, но с тем большими амбициями. Из Афганистана оно едет ущемленным. Но не стоило бы, пожалуй, так подробно останавливаться на этом представителе шестой державы, если бы он в своем ущемлении не обнаружил очень оригинального, геологически чистого пласта идей и знаний. Мирза-Абдул-Мухамед не просто бранил Афганистан, не сумевший оценить своего первого настоящего историка: он бранил с озлоблением, доходящим до принципиальности. Он становился атеистом при виде кабульского ханжества; реформатором – в виду царящего застоя; революционером – на фоне, так сказать, допетровского раболепства (в гостиных Каира, твердит Абдул-Мухамед, давно оставили условное низкопоклонство, коим еще всерьез упивается Кабул), а главное, в душе этого истого перса, с его ученостью и ленью, привычкой к политическому злословию и английской свободе если не печати, то хоть цензуры, проснулось какое-то подобие гражданской гордости.
Будучи сам ученым перекати-поле, но персом, а следовательно, человеком, в жилах которого течет старейшая культурная кровь, он пересмотрел свою историю Востока и нашел в ней полное отсутствие культуры. Оказалось, что все семь томов, рассмотренные с этой точки зрения, были летописью мракобесия, на протяжении десяти столетий выполовшего все травинки искусства и мысли. Песок, камень и кривая сабля – больше ничего.
Слово за слово, довод за доводом, из личинки примазывающегося придворного историка выглянул иранец, чистокровный перс, пропитанный старинной ненавистью против голой, все оскопляющей религии победителей – арабов. Коран! Ведь это книга, полная грубых бессмыслиц, животной чувственности, вообще, произведение, достойное палатки невежественных кочевников, из которой оно вышло на горе человечеству только для того, чтобы сжигать старые цветущие города, библиотеки и сады, довести до полного упадка живопись и архитектуру, обратить в ничто все завоевания античной мысли.
Только персы спасли от огня и меча переводы Аристотеля и Платона. Персы, окружавшие блестящей толпой министров, поэтов, врачей и историков диких арабских владык, вроде Гаруна аль-Рашида, украсили цветами своей увядающей культуры его кровавое царство, смягчили дикие, мелочные установления Магомета мудростью Зороастра, гуманизмом древних огнепоклонников, первых магов и астрономов мира. Через Персию греческая философия позолотила тонкие колонны и узорные купола Мавритании. Вся арабская культура, откуда она?
Лицо иранца окрасилось волнением, отблеском старой ненависти, неугасающей, как огонь, сбереженный на чистых парсистских алтарях близ Бомбея. Когда в наши дни живой человек говорит о дворе Гаруна аль-Рашида, как о чем-то, бывшем вчера, а может быть, существующем и сегодня; когда он вдыхает свою живую, мучительную вражду в мертвый прах, в истлевшие столетия, – они оживают, они молодеют, включенные в гальваническую цепь настоящей борьбы, настоящих страстей и злобы. Неживой противник подымает мертвые веки, чтобы ответить тусклым, упорным, все еще высокомерным взглядом на запоздалый бунт потомков.
«Гарун аль-Рашид – варвар, дикарь, насильник, оставивший по себе славу восточного Медичи, покровителя искусств, только потому, что утонченная культура побежденных продолжала цвести под ногами победителей. Растоптанные розы Ирана благоуханны навек, пустыня Корана пропиталась их ароматом».
Перс давно покинул область научных доводов, перестал цитировать и называть хронологические даты. Легенда открыла ему голубые, как небо, эмалевые ворота, и бедный ученый со своими крахмальными манжетами и безобразным европейским сюртуком послушно пошел за легкомысленной музой сказок.
«Когда погибла персидская культура, когда? Я вам сейчас расскажу. У этого необузданного государя, у Гаруна аль-Рашида, был министр-иранец, который вместе со своим сыном был украшением его царствования. Они созвали ко двору араба знаменитых персидских ученых, художников и поэтов. Устроенные ими медресе цвели ученостью и красноречием, нравы победителей утончились, язык смягчился и принял счастливые обороты поэзии и риторики. Гарун прославился не только силою оружия и несметным богатством, но и блеском просвещения, окружавшим его престол. Между тем сын великого министра, прекрасный перс, полюбил дочь Гаруна аль-Рашида и пожелал на ней жениться. Вся гордость араба возмутилась, когда он узнал о том, что иранец из униженного им племени, человек несвободный, почти пленник, не имеющий ничего, кроме своей образованности, смеет мечтать о дочери царя-победителя. Но так как молодые люди несколько раз видались за городом в одном из замкнутых садов, полных роз, павлинов и свежей воды, так как Осан видел без покрывала лицо своей возлюбленной и таким образом запятнал ее как мусульманку, то Гарун аль-Рашид согласился на бракосочетание с тем, однако, условием, что молодой муж никогда не узнает своей жены и ни одна капля низкой персидской крови не вольется в жилы аравийских царей.
Осан согласился, и грустный договор вступил в силу. Дочь Гаруна аль-Рашида ничего не знала о нем, и пренебрежение мужа жестоко ее поразило. В течение целого года она напрасно старалась приблизиться к Осану. Наконец несчастная женщина рассказала о своем бесчестии матери, и та нашла способ ей помочь.
Однажды царица ласково подошла к своему зятю и сказала ему:
„Ты печален и живешь без любви. Сегодня вечером я пришлю тебе гречанку необычайной красоты. Насладись ею, мой милый сын, но не зажигай огня в своей комнате. Эта девушка чиста и стыдлива“.
Осан согласился, и ночью пришла к нему его жена, дочь Гаруна аль-Рашида. Обманутый темнотой и молчанием, он сделал ее матерью в первую брачную ночь. Таким образом победители и побежденный готовы были навсегда примириться; угасающая Персия соединила свою нищету, мудрость и поэзию с варварской силой и богатством арабов. Но царь не простил дочери ее унижения. В одну ночь он отрубил голову своему министру, его сыну и многим знаменитейшим философам и художникам-персам, жившим при его дворе и во всех частях обширного государства.
И новорожденный, в котором прошлое мирилось с будущим, разделил казнь своего отца».
Перс потух, поправил очки на носу и ничего больше не добавил.
Глава одиннадцатая
О людях и странах, отделенных от СССР и 1925 года пустыней, несколькими веками, кряжами гор и кривой мусульманской саблей
Нет ничего бессмысленнее дипломатического корпуса при старинном восточном дворе. Ничего бессмысленнее и экзотичнее.
Азия в этой своей мертвой полосе между Туркестаном и Индией чужда всяких аффектаций. От каспийских солончаков и до Хайберского перевала, за которым начинается таинственная Индия, она покоится от века недвижимая, голубея и блистая рядами нагих хребтов. Их одевает тишина, пространство, излучение времени.
Если что-нибудь фантастично в этой древней стране, то не она сама, а скорее телеграфные столбы, гигантскими шагами идущие в горы, перемахивающие через ручьи и дикие речки, в клочьях пены похожие на великолепных верблюдов, разгневанных понуканиями погонщика.
Сказочны яркие огни автомобиля, ползущего на железную, ничем не прикрытую гору. Сказочно сердцебиение шестидесятисильного мотора, заглушающего все звуки азиатской ночи. Как во сне, белеют потоки электричества, в которых купаются камни, колючие кусты и обрывы, мимо которых пешком, осторожно ведя лошадь на поводу, шел Александр Великий.
Какая же экзотика в самом Востоке? Здесь умирают просто и просто закапывают в землю. Ни имени, ни воспоминания. Просто вешают воров и пашут деревянным клыком, который тащит пара замшевых, круторогих, прекрасных быков.
Все это кажется нам чудесным только потому, что где-то есть гробницы Микеланджело, американские механические плуги, своды законов и стремительный нож гильотины. Но с точки зрения Солимановых гор верблюды – наилучший и самый быстрый способ передвижения. Вдоль глянцевитых, мутных и быстрых рек должен расти камыш, чтобы в нем охотиться и спать хищникам. А там, где заросли сожжены кочевниками, на вязкой, пахучей почве зеленеют листья мака, целые поля опиума, и мельница, устроенная в дыре, накрытая камышовой настилкой, шумит мутным ручьем и шелестит первобытным жерновом. Так было и должно быть вовеки.
Там, где Азии касается Россия, даже там, где она в нее проникает насильственно – в общем, не остается заметных следов.
Какой-нибудь безобразный почтамт среди радостной нищеты бухарских базаров, красноармеец в старой шинели и рваных сапогах на границе между Кушкой и Чильдухтераном, а все остальное у нас ведь общее. И эта лень, и насекомые, и бедность, и меланхолическое пренебрежение своим временем, своей жизнью.
Есть страны с такой пустынной далью, с таким вымершим небом, где даже как-то неловко торопиться. Один мост через Оксус, через Амударью, грязным, мутным валом валящую через пустыни, как желтая орда, висит от берега к берегу призраком чуждой культуры. Но, право, этот мост, которому не на что опереться в пустынной топи, кроме своих бетонных быков, так же одинок в Азии, как и в Прикаспийской степи. Он висит над мертвечиной времени и пустого пространства – сухой, высокомерный, пренебрежительный отщепенец.
Совсем иначе входит Англия в пределы афганской Азии. Где поля нашего Туркестана просто политы кровью безыменных солдат, Великобритания орошает и сушит, устраивает артезианские колодцы, ставит могучие фильтры, так что на пути будущих наступлений, у Хайберского прохода, сейчас даже лошади и верблюды пьют дистиллированную воду, текущую во всех придорожных канавах.
Двойной ряд шоссе соединяет Индию с Афганистаном, которому она, сама раба, должна будет набить колодки и кабальный ошейник. Телеграф и телефон пододвинуты к самой границе, несмотря на почти столетнее сопротивление независимых племен, оберегающих южные, угрожаемые границы эмирата.
Наконец коммуникационная линия перешагнула и сожженные деревни вазиров, засыпанные аэропланными бомбами в своих только со стороны неба доступных орлиных гнездах, и через условную линию политических границ. Зимний ветер на базарах Кабула поет в тугих проводах индо-английского кабеля; вожаки караванов доверчиво и небрежно привязывают верблюдов к его предательским, стройным столбам, литым из того же металла, из которого делаются пушки и штыки колониальных армий.
Полуразрушенные загородные дворцы и гаремы прежних эмиров спешно перестраиваются под торговые фактории; английский представитель собирается строить целый квартал – резиденцию будущего афганского вице-короля. С ни с чем не сравнимым самообладанием переносят пионеры великой державы оскорбления, ругательства и притеснения со стороны «туземцев», которые на секретных картах Генерального штаба уже обведены пунктиром, пришиты к Пешаверской провинции и общему индо-британскому отечеству и отгорожены от России прохладной нейтральной зоной, проведенной аккуратным циркулем топографа где-нибудь на полпути между Мазар-и-Шерифом и Кабулом, Кандагаром и Гератом.
Джелалабад, сказочный городок на крайнем юге Афганистана, является живым памятником старой, ныне оставленной политики Великобритании в маленьких восточных деспотиях. Это кусочек среднеазиатской пустыни, унавоженный, оплодотворенный, благословленный потоком английского золота. Верхушки финиковых пальм, шелестящие металлическими веерами в обетованном небе, розы и левкои в январе, налитые золотом и медом мимозы; белые дворцы, фонтаны и искусственные ручьи – все пример мирных чудес, которыми наполнится глухой каменистый пустырь, если его воинственный и невежественный народ позволит золотой палочке британского капитала прикоснуться к своим бесконечно унылым пространствам.
Старый эмир Афганистана, Хабибулла-хан, был куплен англичанами. Они научили его пользоваться богатством, развили вкус к безмерной роскоши. Английские инженеры и техники заменили перекипающему от жира и болезненного разврата шаху услужливых духов «Тысячи и одной ночи». Цивилизация начала свою облагораживающую работу с уборных гарема, оборудования европейской кухни и устройства отличных дорог, по которым автомобиль его величества мог беспрепятственно перекочевывать из одного притона, устроенного его европейскими друзьями, в другой, расположенный где-нибудь на другом конце пустыни, предоставленной пыльным ветрам и равнодушно влачащимся верблюдам.
Джелалабад, золотой, не знающий ни стужи, ни зноя, погруженный во влажное тепло, болотистый, благоуханный рассадник опиума и роз, останется высшим достижением той политики, которую англичане с таким блеском применяли и продолжают применять в Индии: политики мирного завоевания путем подкупа и развращения маленьких государей и прикармливающейся возле них безработной знати.
Сами сухие, подвижные, высушенные тропическим солнцем, покрытые пылью всех больших дорог мира и насквозь горькие от хины; по воскресеньям набожные, по будням бережливые и воздержанные, как скаредный англиканский молитвенник, британцы поставляют восточным дворам не только порнографические картинки, не только раздирающий внутренности джинджер и виски, более палящее, чем небо и лихорадки Индии, но и модную философию, легкое, играющее в бокалах гедонистическое мировоззрение. Эта новая религия раджей примиряет беззлобное отвращение буддизма к государству и закону с добродушным цинизмом модной оперетки; балет – со священными плясками, угар кутежей – с самозабвением аскетов, приводящим к одному и тому же: к беспамятству, к святому скотству, к умерщвлению плоти. Не все ли равно – путем аскезы или маразма.
И вот, на палубах океанских пароходов принцессы Индии, сидя за маленькими столиками и допивая в одиночестве третью бутылку, покачиваются в такт безобразных фокстротов, немного стыдясь своей смуглой кожи, которая никак не хочет терять под пудрой своих янтарных и медных лепестков. Кто-нибудь из белых, кто-нибудь из касты господ, пьющих сода-виски, задрав ноги на голову поверженной Индии, отводит их в каюту, чтобы потом рассказать в клубе, куда не смеет войти ни один туземец, кроме лакея, о том, как индийская королева, Шехеразада, Дамаянти, напившись хуже извозчика, не теряет сознание, но продолжает болтать и смеяться на незнакомом языке, похожем на розовый говор фламинго.
И, спаивая, накачивая гноем и грязью старые индусские семьи, облегчая им разрыв с религией и предрассудками, оплачивая из собственного кармана их грехи и садические подвиги, белые отгораживают себя от ими же растленной индийской аристократии стеной невыразимого презрения. Осыпанная золотом и брильянтами, одетая в перья и фантастические придворные мундиры, зараженная всеми скверными болезнями и всеми философскими эпидемиями, какие только Англия успела сфабриковать и доставить в колонию, чуждая народу и противная белым, эта каста, шатаясь, бредет от скандала к скандалу, от мерзости к мерзости, бережно поддерживаемая под руки двумя честными и трезвыми английскими полисменами.
В Афганистане эта политика растления сверху и усмирения снизу сорвалась в самом начале. Хабибулла был свергнут сыном, в белых дворцах Джелалабада население перебило тысячные, во всю стену, зеркала, и Англии после тяжелой войны пришлось начинать сначала. На этот раз совсем иными методами и приемами. Теперь посол Великобритании скромно занимает один из дворцов Джелалабада, построенных на деньги его правительства.
Но вернемся к теме.
Как сказано, из всех экзотик Афганистана нет ничего равного европейскому дипломатическому корпусу, самоотверженно разыгрывающему в пустыне комедию международных приличий. Над каждой хибарой, отведенной под иностранное представительство, вздымается непомерной величины национальное знамя. Не просто флаг, но drapeau, banner, хоругвь, и не просто вздымается, но возносится, воспаряет. Всех пышнее, ленивее и небрежнее полощется по ветру знамя его величества короля N. Посол, обитающий под сенью его священного древка, соединяет в своем лице свободомыслие человека, поношенного жизнью, но тщательно заглаженного, как безупречные складки его визитных панталон, с осторожной опытностью старого дипломата, состарившегося на самом скользком паркете, и притом в атмосфере монархии, смягченной периодическими парламентскими пассатами и муссонами.
Господин Ноаль, не владея ни единым метром земли за пределами фамильной усыпальницы, тем не менее является крупным землевладельцем по убеждению и охотником по традиции. Таким образом, старинный герб и лояльность придворного счастливо соединены с насмешливым добродушием, уживчивостью и гибкостью барина, который много должал, платил проценты на проценты и привык с удивительной грацией отражать наглые приставания ростовщика, портного и этуали. Все это способствовало развитию дипломатических способностей, научило Ноаля ценить и уважать деньгу. Он снизошел к крупной буржуазии, заставляя ее платить за свою терпимость, доступность и демократическую снисходительность. Миллионерам, имеющим в своем гербе керосин и ветчину, синьку и автомобильную шину, эта философская широта милее всякого пресмыкательства. С другой стороны, нет ничего удобнее мудрой терпимости в наши тревожные времена. В самом деле, сегодня в правительстве эра просвещенных чиновников, беседующих с просителями о социализме и его достоинствах. Завтра – нечто вроде Муссолини, послезавтра – кто знает? – запахнет коммунистами или клерикальной реакцией. Надо принять такую позу, такую защитную окраску, чтобы в случае стремительных перемен кабинета не ломать ни линии своего поведения, ни своих личных взглядов, которые Ноаль излагает с небрежной величавостью, заложив друг на друга породистые ступни в белых гамашах и несколько опереточно сдвинув на затылок необычайно безобразный модный цилиндр, широкий и приплюснутый.
Первое и основное правило такой политики, не зависящей ни от каких международных ситуаций, парящей, так сказать, в безвоздушном пространстве, – это жить в мире со всеми, ничего не отвергать, ничему не удивляться. И второе – не выражать своим поведением никакой принципиальной, последовательной точки зрения: ни государственной, ни общеевропейской. Для Ноаля дипломатический корпус – более или менее удачно составленное собрание хорошо воспитанных людей одного круга, заброшенных – увы! – в такую дыру, как Кабул, чтобы повеселиться и поскучать в обществе друг друга. Священная обязанность каждого из послов – честно разгонять сплин своих коллег и вовремя подавать реплики в высокой, тонкой, самоценной дипломатической игре, жесты и на которой установлены еще на Венском конгрессе. Совершенно неважно, разыгрывается ли дипломатический «театр для себя» на Гонолулу или в Афганистане, среди ньям-ньямов или папуасов. Международный этикет существует сам по себе, не завися от времени и места. Раз на клочке священной экстерриториальной почвы – будь то паркет или глиняный круг, вытоптанный возле костра людоедов, – сошлись два авгура, два знатока пустопорожнего священнодействия, они тотчас должны вступить друг с другом в официальные сношения: нанести визиты, сделать реверансы, отретироваться, назначить журфикс, забросить визитные карточки, сменить вестон на визитку, визитку на фрак и, поразив воображение туземцев неомраченной белизной бальной рубашки и девственной линией лондонских фалд, утонуть наконец в просторной чистоте фланели, осененной колониальным шлемом. К сожалению, человек не сам себе выбирает родителей, а посол – своих товарищей по дипломатической пьесе. Мир после Версаля полон превратностей, и порядочным людям вдруг приходится сесть за один стол с самыми неожиданными личностями.
Ругали-ругали большевиков, а сейчас – не угодно ли? – ни одна путная конференция не обходится без участия этих монстров.
Но и тут всеобъемлющая лояльность Ноаля вывела его из стесненного положения. Ведь он пожимает руку не большевику, но полномочному министру, высокой юридической личности, не подлежащей обсуждению. И если, по счастью, носитель славного звания, выскочивший из самого пекла большевизма, не вытирает нос скатертью и не вовсе орангутанг, то Ноаль, предав забвению грешные годы нашей революции, почтит в его лице старые призраки блаженной памяти Сазонова и Гирса, Извольского и Горчакова[1]1
Министры иностранных дел Российской империи. – Здесь и далее, за исключением особо оговоренных случаев, примеч. редактора.
[Закрыть]. Не личность, но правовую идею, призрак законности, дипломатическую династию, не вымирающую quand même. Живучая фикция преемственности просто перескакивает через яму, в которую свалили семейство Романовых. Для нее император никогда не умирает и никогда не перестает быть императором: он абсолютно непрерывен в своей метафизической сущности. И если вместо орла и трехцветного в небе вдруг полощется красное с СССР, то, значит, императорская Россия умерла, не теряя бессмертия, и новая, советская, возникла, не рождаясь. Ведь и со старой законной монархией случались такие странности: признавала же Европа некоих голштинских князьков подлинными потомками заведомо вымершей романовской династии.
В культурном, юридически гибком сознании европейского дипломата большевики заняли приблизительно то же место, какое в схоластическом мировоззрении его предка, феодала, занимал какой-нибудь четвероногий остгот, прямо с варварского щита своих орд взлезавший на священный престол Римской империи и короновавшийся в соборе Св. Петра венцом кесаря, скрученным из конского недоуздка. Все это, конечно, постольку, поскольку дикие степные всадники Оттона или Теодориха стояли у самых стен Вечного города, и пьяные латники, рыгающие, пахнувшие лошадиным потом под награбленными шелковыми одеждами, не теряли способности владеть мечом, жечь города и склонять пап к ангельскому миролюбию.
Но, конечно, полное политическое признание, которым советское представительство пользуется в Кабуле, отнюдь не основано на гибкости чьего бы то ни было юридического мышления. Просто в Афганистане нельзя подвергнуть русских бойкоту, не оставшись самому в полном уединении. За СССР здесь говорят сила ее пограничных армий, реальность торговых интересов и ненависть всего населения к англичанам.
Даже французский полуофициальный представитель, академик Фурмье, в самый разгар Гаагской конференции вынужден был признать подлинное существование Советской России на пустом месте, обведенном чертой блокады, которое столько лет держится в политической географии Третьей республики.
Кстати, несколько слов о профессоре Фурмье, известном ученом, о котором сам Мильеран в официальной речи упомянул как о «notre illustre»[2]2
Наша гордость (франц.).
[Закрыть]. Это сладчайшее и корректнейшее воплощение казенной французской науки. Белоснежные волосы венком вокруг розовой лысины, свежий цвет лица, приветливые голубые глаза, снисходительная улыбка, открывающая безупречной работы вставную челюсть, крепкие скулы и квадратный, беспощадный подбородок человека, всю жизнь перемалывавшего науку и проталкивавшего в культурный пищевод Европы дешевую и питательную патентованную кашицу. Работая правильными спазматическими приемами, пережевывая свои камни, обломки исчезнувших городов и утварь мертвых, он теперь крепко ухватил Афганистан. Его дикие руины, занумерованные и описанные, исчезают в пещере этого всеядного, всеопошляющего научного рта. И по мере того как идолы Бамиана и таинственные надписи джелалабадских гробниц будут совершать свое органическое движение по толстым и тонким кишкам археологии, по всем слепым отросткам и мертвым петлям этой науки, в Париже, в министерстве наук и великих открытий, некий столоначальник, хранитель пыльных папок Александра и Великих Моголов, бережным почерком отметит заслуги академика Фурмье и приснопамятный день, когда обшлаг его черного сюртука украсит орденская лента. Как всякий истый буржуа-республиканец, Фурмье питает тайную страсть к монархии. Заветное слово «сир», такое короткое и величавое, слетает с его медовых уст с невыразимой нежностью.
Возле какого-нибудь толстого, безмерно оплывшего, в постоянной пищеварительной истоме мигающего то одним, то другим глазом, сановника профессор порхает, как заботливая няня. Маленькие потирания рук, улыбка, вкрадчиво поблескивающий оскал, наклонение головы выражают почтительное и ласковое согласие человека науки с доводами здравого смысла, обитающего под толстой, как верблюжье колено, черепной коробкой афганского сердара.
В такие минуты академик Фурмье, подобно нежной и цепкой лиане, обвивает тяжкий каменный столб абсолютной власти.
Зрелище невыразимого пресмыкательства являет на высочайших аудиенциях мадам Фурмье, жена академика. Она – внучка или правнучка одного из тех знаменитых хлеботорговцев, которые в 1789 году сумели нажить и припрятать громадные состояния, несмотря на ропот Сент-Антуанских предместий и желчные нападки «Друга народа». Семья мадам Фурмье давно пришла в упадок; современная спекуляция поглотила миллионы, некогда добытые путем простодушного, натурального хищничества. Но сама праправнучка знаменитого пекаря сохранила сахарную белизну французской булки, эту сочную, теплую мякоть, в которой навеки увязла вставная челюсть маститого археолога. Она белокура, как румяный крендель, обмазанный сверху пером, обмокнутым в желток; над маленькими светлыми глазками из голубоватой сыворотки, какою замешивают тесто, – белые ресницы, осыпанные мукой. Кондитерские плечи, сдобная талия, тяжелый круп и могучий живот, к которому ее бабка прижимала пудовый ржаной хлеб, отрезая от него дымящиеся ломти. На дрожжах многотысячных гонораров Сорбонны великолепные возможности мадам Фурмье несколько отсырели, поползли через край, вздулись ноздреватой горой мяса, как в квашне, переливающегося в тесных и прозрачных платьях-рубашечках, какие теперь носит модный Париж.
В кругу придворных афганских дам с их жесткой грацией бумажных цветов, нанизанных на проволочные стебли, мадам Фурмье выглядит как кусок теста, вышлепнутого на кухонный стол. Она не входит в гарем, но вползает на своем белом, сыром животе, улыбается поясницей, кланяется студнем. Старые дворцовые служанки хихикают; евнух стоит, раскрыв рот, загипнотизированный мощным перекатыванием этого жира, охваченного припадком необузданной лакейской преданности, спазмами верноподданнических чувств перед чужой деспотией.
Мать эмира, честолюбивая и умная женщина, видевшая членов своей семьи не только на праздничных портретах, писанных придворными малярами, но и с пулей в черепе, с опухшей, черной грудью, проколотой ножом, с удивленной брезгливостью смотрит на республиканскую даму, распластавшуюся перед ней так бескорыстно и свыше всякой меры.
Расчетливый Восток не понимает идейного холопства, восторга вольноотпущенника при виде ошейника и старой хозяйской плетки. Здесь только бедные и слабые должны унижаться, чтобы выжать из себя несколько мелких и сладких капелек пота лести. Сильные же жестокосердны, горды и независимы. Сморщив подрисованные брови, застыв в невыразимо холодной вежливости, мать эмира потихоньку перебирает в уме не очень дорогие кольца, поношенные меха и состарившихся, но все еще видных лошадей, которыми можно было бы вознаградить эту назойливую преданность.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































