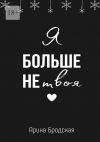Текст книги "Каждая сыгранная нота"

Автор книги: Лайза Дженова
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 18 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Джазовая импровизация все равно что речь без сценария. Вот тебе двенадцать нот – и делай с ними все, что душе угодно. Нет ни правил, ни ограничений. Произвольный порядок слов. Никакой силы тяжести. Верх и низ могут поменяться местами.
А еще это совместное творчество. В последний раз она играла с кем-то джаз еще до рождения Грейс. Мысль о том, как давно это было, каждый раз разбивает ей сердце. Это можно было бы исправить, воспользовавшись предложением Элис. Что, если следующий раз будет сегодня? Дыхание Карины становится поверхностным, а ветерок с пруда остужает испарину на лбу. Ей отчаянно не хватает практики. Слишком давно это было. Бегун, годами прикованный к постели травмой ахиллесова сухожилия, не может просто так взять и заявиться на отборочный турнир к Олимпиаде. Карина представляет, как играет с опытными и успешными музыкантами, и страх своей заведомой и сокрушающей несостоятельности запирает ее самое заветное желание на замок.
– Мне тут надо кое в чем признаться, – говорит Элис. – Я была у Ричарда.
Карина останавливается на полушаге, каждая мышца застывает в незавершенном усилии, окаменев от ошеломляющего предательства.
Элис замирает в нескольких шагах впереди и оборачивается:
– Звонила Роз из консерватории. Мило с ее стороны вспомнить обо мне. Она собрала тех, кто знает Ричарда еще со времен его преподавательства. Мы пошли к нему все вместе. Мне показалось, так было правильно.
Нехотя удовлетворившись этим объяснением и горя любопытством, Карина трогается с места. Женщины идут бок о бок.
– Ну и как он? – спрашивает Карина с опаской, словно касается ногой поверхности мутной воды.
– У него полностью парализованы руки. Тяжкое зрелище.
Заложенное многими месяцами назад и ранее спящее в желудке Карины зерно пускает корни. Это и в самом деле происходит. Во время их последней встречи в июле Ричард выглядел и вел себя совершенно нормально, не считая момента, когда он не смог откупорить бутылку вина. Карина не теряла надежды, что его диагноз окажется уткой или ошибкой. Она все еще его ненавидит, но ощутимо меньше, чем в прошлом году, и ни разу не желала ему смерти с тех пор, как они развелись. Да она бы никому не пожелала заболеть БАС, даже Ричарду! Все ждала, что в газетах напечатают опровержение, что гастроли все-таки состоятся, что слухи о его близкой и неотвратимой смерти сильно преувеличены…
– Я собиралась высказать ему за тебя свое «фи», но у него руки бессильно висели вдоль тела, точно плети, а в комнате стоял рояль, и мы все старательно делали вид, будто его там нет. Никто и полусловом о нем не обмолвился. Слишком все это было грустно.
Ричард без рояля. Рыба без воды. Планета без солнца.
– Ну и как он вам показался?
– В хорошем расположении духа. Рад был со всеми нами увидеться. Но очень уж старался излучать оптимизм, как будто играл на публику.
Они продолжают идти молча, и в тишине прорезаются звуки – шорох ступающих по грунтовой дорожке кроссовок, приглушенный ковром бурых сосновых иголок, а затем хруст сухих, оттенка крафтовой бумаги дубовых листьев, сопение Элис, дыхание обеих женщин.
– Грейс в курсе? – спрашивает Элис.
– Нет, если только кто-нибудь ей не рассказал. Я бы знала, если бы она была в курсе. Нет, честно, до нашего сегодняшнего разговора даже я не была стопроцентно уверена в его болезни.
Грейс. У нее разгар промежуточной сессии. Сообщить ей прямо сейчас эту новость было бы жестоко. Девочка может стать рассеянной и завалить экзамены. И почему только Ричард ничего ей не сказал? Разумеется, он ничего ей не сказал.
– Может, мне стоит еще раз к нему наведаться, – размышляет Карина.
– Это в тебе говорит чувство вины, присущее всем католикам.
– Ничего подобного.
– Вспомни, что случилось в прошлый раз?
– Да знаю я.
– Встречи с ним тебе не на пользу.
Ричард всегда казался Карине несокрушимым, он мог одолеть что угодно и всякий раз побеждал. Он представлял собой неудержимую силу, которая внушала Карине благоговение и робость, а в моменты наибольшей уязвимости совершенно ее раздавливала. Теперь в уязвимом положении находился он, и она не может не задаваться вопросом, каково ему оказаться на другом конце стола.
– Это да, но…
– На что ты надеешься? На «вторники с Морри»?[13]13
Отсылка к документальной книге Митча Элбома «Вторники с Морри, или Величайший урок жизни», в которой описывается история Морри Шварца, профессора, умирающего от бокового амиотрофического склероза.
[Закрыть]
– Не знаю.
– Милая, это все еще Ричард.
– Поверь мне, я знаю, кто он.
– Просто не обожгись.
– Не обожгусь, – отвечает Карина без всякой уверенности в голосе.
Глава 9
Шагая по Коммонуэлс-авеню, Карина в одной руке несет прикрытую фольгой тарелку с варениками, в другой – бутылку красного вина за пятьдесят долларов. И в придачу оттягивают плечи несколько месяцев неотступного чувства вины. Стоит свинцовое ноябрьское утро, идет сильный дождь, но обе руки заняты, и зонт не открыть, а идти еще четыре квартала. Карина прибавляет шаг, почти переходя на бег, и ветер срывает с ее головы капюшон. Черт. Ну как тут натянешь его обратно?
Непогода разбушевалась, и, поскольку Карина – единственный пешеход в зоне видимости, кажется, будто воюет стихия именно с ней. Капли дождя барабанят по алюминиевой фольге пулеметными очередями. Жгуче-холодный ветер больно жалит лицо. Дождь пропитывает насквозь носки, брюки и волосы, как в наказание холодит кожу. Карина считает, что это Ричард во всем виноват. Не спровоцируй он ее, она бы сейчас так не мучилась. Разумеется, она не смогла остаться в стороне. Прямо как всегда. Такое впечатление, будто она запрограммирована реагировать на него: бездумно и немедленно ойкать на каждый его щипок.
Когда Карина оставила свой дом, даривший чувство безопасности, дождь уже шел, и она понимала, что вряд ли найдет свободное парковочное место где-то ближе чем за четыре квартала от жилья Ричарда. Можно было бы выждать еще один день. Прогноз на завтра обещает холодную, но ясную погоду. Но вчера вечером она приготовила вареники, и ей надо хоть в этом повести себя с Ричардом правильно, поступить по совести, исполнить епитимью и покончить с этим. Carpe diem – лови момент. Чертова погода.
Сосредоточив все внимание на цифрах, указанных на двери – а там, за дверью, обещают и сухость, и тепло, – она проносится мимо крохотной квадратной лужайки с табличкой «Продается», едва заметив ее. Запыхавшись, вобрав голову в плечи, Карина останавливается на верхней ступени крыльца, нажимает кнопку звонка и ждет. Мокрые, теряющие чувствительность пальцы ломит от холода, и ей до боли хочется скорее избавиться от подношений и спрятать руки в уютных карманах пальто. Из домофона не доносится ни приветствия, ни просьбы представиться, и Карину без лишних церемоний пропускают в подъезд.
Поднявшись, она видит, что дверь в квартиру Ричарда приотворена. Стучит, открывает дверь чуть пошире, чтобы услышали внутри:
– Есть кто?
– Заходите! – выкрикивает кто-то из глубины квартиры. Голос мужской, но не Ричарда. – Еще минутка – и будем готовы.
Карина переступает порог, скидывает туфли и направляется в кухню, на место преступления. Там горит свет. Пахнет кофе. Кухонный остров и столешницы вытерты начисто и пусты, за исключением трех бокалов, наполненных до краев чем-то похожим на ванильный молочный коктейль, в каждом стоймя стоит длинная трубочка. Не слышно ни звука, никого не видно. Карина ставит вино и вареники на столешницу, снимает плащ и набрасывает его на один из высоких барных табуретов. Ждет, все сильнее испытывая неловкость, не зная, стоять или присесть. Может, имеет смысл поискать клочок бумаги и ручку, черкнуть записку и уйти?
Она рассеянно скользит взглядом в сторону гостиной и вдруг ошеломленно замирает. Инвалидное кресло. Инвалидное кресло, подобных которому она еще не видела. Отдельный подголовник и сиденье делают его похожим на стоматологическое. А две подножки с ремнями напоминают подставки для ног на гинекологическом. Шесть колес, амортизаторы и рычаг ручного управления. Ничего похожего на кресло для сломавших ногу. Оно выглядит футуристическим и варварским одновременно. С волос Карины стекает холодная дождевая вода, струйками сбегая по шее. Карина ежится.
Кресло стоит рядом с роялем Ричарда. Она бросает туда еще один взгляд: рояль кажется таким же чужим и устрашающим, как и кресло. По спине пробегает внутренний холодок, более пронизывающий, чем дождь. Откидная крышка опущена и скрывает клавиатуру. Пюпитр пуст. Банкетка задвинута под инструмент. Карина приближается к «Стейнвею» Ричарда так, будто вторгается в сакральное пространство, все еще не в состоянии воспринять умом абсурдность открывшейся перед ней картины. Медлит, набираясь смелости, а затем проводит указательным пальцем по крышке, стирая толстый слой пыли и оставляя улиточный след, обнажающий черное полированное покрытие.
– Привет!
Она оборачивается, сердце колотится так, словно она преступница, которую поймали с поличным. Ричард стоит за спиной лысого мужчины в очках с черной оправой.
– Я Билл. – Он демонстрирует широкую энергичную улыбку, протягивая ей руку. – Надомный медицинский помощник Ричарда.
– Карина. – Она пожимает ему руку.
– Ну ладно, я всё. Пора бежать, – говорит Билл. – Мелани подойдет к обеду, Роб или Кевин – к ужину, чтобы затем подготовить ко сну. В кухне есть три коктейля. Все путем?
Ричард кивает. Билл проверяет что-то на айфоне, который висит на груди Ричарда на шнурке, подобно бейджу участника конференции.
– Ладно, приятель. Звони нам, если что-то понадобится. Увидимся утром.
Пока Билл собирается и уходит, Ричард пристально смотрит на Карину и молчит. У него мокрые волосы, расчесанные на чересчур ровный и аккуратный косой пробор. Он похож на мальчишку, готового сниматься на школьную фотографию. Его осунувшееся лицо гладко выбрито. Черный свитер и джинсы висят на нем мешком, они длинные и растянутые, как будто он снял их со старшего брата или одолжил у Билла. Выбитая из колеи видом кресла-коляски, заброшенного рояля, исхудавшего Ричарда, а также затянувшимся молчанием, Карина забывает, зачем пришла, и начинает задаваться вопросом, в состоянии ли он вообще говорить.
Он замечает ее «извинение» на столешнице.
– Вареники, – поясняет она. – Вино наверняка не соответствует твоим стандартам, но ведь важен не подарок, а внимание.
– Спасибо.
Ричард проходит в кухню, и только тогда Карина замечает: у него не раскачиваются руки. Висят мертвым грузом, неподвижные, одеревенелые. И обе кисти кажутся какими-то неправильными, нечеловеческими. Пальцы на правой руке все как один торчат прямо, на другой – намертво скрючены, словно когти. Он становится перед одним из молочных коктейлей, опускает голову к трубочке и делает глоток.
У него полностью парализованы руки. Он наблюдает за тем, как эта информация укладывается у нее в голове. Она улыбается, стараясь не показать, что́ чувствует на самом деле, как будто прячет свой голый ужас под пальто.
– Хочешь присесть? – Он возвращается в гостиную. – Сюда, правда, не рекомендую, – кивает он на кресло-коляску.
Из его голоса исчезла всякая мелодичность. Все слоги Ричард произносит на одной ноте, тихо, медленно, – кажется, он выуживает из патоки каждое монотонное слово.
– Ты все еще ходишь, – смешавшись, говорит Карина.
– А, так это на будущее. Кресло нужно заказывать еще до того, как оно понадобится, иначе есть риск, что его доставят через полгода после твоей смерти. Я сказал Биллу, что можно было заодно и гроб мне заказать.
Ричард смеется, но веселый смех быстро превращается во что-то совсем другое: безудержный прерывистый хрип, напоминающий противный злодейский хохот и стискивающий его горло все сильнее и сильнее, словно пытаясь убить. Карина сидит в нескольких футах от бывшего мужа и наблюдает – молчаливая свидетельница, задерживающая собственное дыхание и странным образом парализованная, не представляющая, что надо делать. На последнем всхрипе у Ричарда изо рта вылетает комок мокроты, который шлепается на экран айфона. Карина делает вид, что не замечает, как с него медленно стекает слизь.
Она отводит глаза в сторону, оглядывается через плечо на рояль и кресло-коляску. Прошлое и будущее Ричарда. Она думает о том времени, которое было заполнено разучиванием, отработкой, запоминанием, доведением до совершенства, – девять-десять часов в день, а то и больше. Снова смотрит на Ричарда, на его ни на что не годные руки. Чем он, черт подери, занимается теперь целыми днями?
– Когда оно тебе понадобится, как ты вообще сможешь попасть на улицу?
Он живет на четвертом этаже полуторавекового особняка. Лифтов нет. Пандусов тоже.
– Никак.
Он окажется в ловушке этой квартиры, запертый в собственном теле, точно русская матрешка. Вдруг Карине вспоминается табличка «Продается» перед домом.
– Будешь переезжать.
– Пытаюсь. Пока не продам эту квартиру, новая мне не по карману. Даже если снимать. Поддержание моей жизни уже стало весьма затратным проектом. Есть вероятность, что он не стоит таких вложений. Алиментов можешь больше не ждать.
– Да-да. Конечно.
Карина замолкает. Остаток на текущем счете, скудный доход с уроков игры на фортепиано, ежемесячные платежи. Она начинает подсчеты, в основном вычитания, эти уравнения ее пугают, и в данный момент в уме их не решить.
– Как Грейс?
– Ричард, она не знает. Совсем ничего не знает. Я не думала, что ты… изменишься так сильно и так быстро. Тебе надо рассказать ей о том, что происходит.
– Знаю. Собирался. Много раз. Просто все откладывал. Потом вот голос. Звучу как робот. Не хочу звонить и пугать ее.
– Напиши ей по электронной почте.
От смущения у Карины съеживается желудок, а глаза расширяются. Его руки. Он же не в состоянии набрать текст.
– У меня есть программы для распознавания речи и пальцы на ногах. Письмо я пока еще могу написать. Но она оставляет мои письма с расспросами об учебе и погоде без ответа. Я не перенесу, если напишу ей обо всем, а она не ответит.
Грейс кое-что известно, а о чем-то она не знает. Поэтому неудивительно, что она не стала хранить нейтралитет. Поддерживая мать, Грейс больше года не разговаривает с отцом. Карина не может не радоваться одержанной победе за преданность и даже пальцем не пошевелила, чтобы положить конец холодной войне, которую объявила дочь. Карина опускает взгляд в пол, на свои промокшие носки.
– Я не хотел вываливать на нее такие новости, пока она занята учебой. Думал, это может подождать…
– Пока не подвезут гроб? – уточняет Карина, превращая свое чувство вины в упрек, – эту алхимию она давно освоила в совершенстве.
– Пока она не приедет домой на День благодарения. Тогда смогу сказать ей лично. И знаю, это звучит глупо, но, наверное, я думал: если не стану говорить людям о том, что у меня БАС, может, у меня его и в самом деле не будет.
Четыре месяца назад она не сумела бы по внешнему виду Ричарда определить, что у него БАС. Но сейчас сомневаться в этом не приходится. Можно ли быть настолько чокнутым, чтобы отрицать это? У нее сжимается сердце при мысли о том, как Грейс воспримет эту новость. Что будет, когда дочь впервые увидит своего отца таким? Как она отреагирует на эту угрозу их общему благополучию?
– Она не приедет домой на День благодарения. У нее появился парень. Мэтт. Его родители живут в Чикаго. Она проведет с ними длинные выходные[14]14
Длинные выходные – разговорное название уик-энда, который растягивается на несколько дней по случаю праздника. День благодарения отмечают в четвертый четверг ноября, и большинство американцев не работают в этот день и в следующую за ним пятницу.
[Закрыть]. Мы не увидимся с ней до самого Рождества.
Осталось чуть больше месяца. Всего-то несколько недель. Ричард смотрит мимо Карины на кресло-коляску за ее спиной. На его глазах выступают слезы, и он часто моргает, изо всех сил стараясь их сдержать.
– Ты можешь рассказать ей вместо меня?
Она рассматривает его просьбу и его самого, сидящего напротив, такого уязвимого, точно хрупкая птица без крыльев. Он потерял руки. Теряет голос. Потеряет ноги. Саму жизнь. Ей следует пожалеть его – прикованную к земле, умирающую птицу. Но она не делает этого. Никакая он не птица. Он Ричард. Карина чувствует, как в ее осанке появляется уверенность, ощущает знакомое онемение.
– Нет.
Жестокий ответ, но другого у нее нет, а сгущающаяся между ними тишина давит на ее закованное в броню сердце, умоляя передумать. Карина скрещивает руки, чтобы придать себе решимости. Поднимается, чувствуя на себе его взгляд.
– Мне пора.
– Ладно. Но пока не ушла…
Она смотрит на Ричарда, стараясь его не видеть.
– Не могла бы ты почесать мне макушку? Пожалуйста!
Карина переводит дыхание, преодолевает невозможное расстояние между ними, садится на диван рядом с Ричардом и почесывает ему голову.
– О боже ж мой, спасибо тебе. Чуть посильнее. Везде, пожалуйста.
Она действует обеими руками. Ногти у нее без маникюра, но крепкие и сильные, она водит ими по всей поверхности головы Ричарда, ероша его аккуратно расчесанные на школярский манер волосы. Хорошенько потрудившись, она останавливается и заглядывает ему в лицо. Его глаза закрыты, а исхудавшее лицо растянуто в тонкогубой улыбке глубокого удовлетворения. Много времени прошло с тех пор, как она его касалась, дарила хоть какое-то удовольствие. Против ее воли приятные воспоминания легонько ласкают ту часть ее сердца, что не успела еще затвердеть.
– Мне пора. Ты как? – поднимается она.
Ричард открывает глаза. Они блестят. Он моргает, и по его лицу сбегает пара слезинок. Вытереть их он не в состоянии.
– В порядке.
Она колеблется, но потом хватает свой плащ, сует ноги в промокшие туфли и уходит, не сказав больше ни слова. Пока спускается по лестнице, вспоминает, сколько раз она оставляла Ричарда: исчезала во время бесчисленных споров; выскакивала из-за стола посреди ужина, бросая мужа в ресторане и вынуждая в одиночестве добираться домой на такси; в прошлый раз покинула его квартиру, разбив перед уходом бутылку вина; ушла из здания суда в тот день, когда судья объявил, что брак необратимо распался, расторгнут без вины какой-либо из сторон и развод признан окончательным. Выходя через парадную дверь, накидывая на голову капюшон и засовывая руки в уютное, безопасное тепло карманов пальто, она вспоминает, как спускалась по ступеням суда, боясь, что необратимый распад постиг именно ее, зная, что обоюдной вины в крушении их брака было предостаточно, и осмеливаясь признать, что на ее плечах этой вины может лежать не меньше, чем на плечах Ричарда.
Глава 10
Ричард прикрывает глаза от неяркого утреннего света, желая снова погрузиться в сон и зная, что из этого ничего не получится. Раньше он спал всю ночь напролет, не ощущая, что рядом ворочается жена или какая-то другая женщина, не слыша ни срабатывающей автосигнализации, ни полицейских сирен, ни дзиньканья телефона. Раньше он каждую ночь спал по шесть-семь часов кряду, по утрам медленно переходя из состояния дремы в состояние осознанности без малейшего воспоминания о снах или мыслях, посетивших его после выключения прикроватного светильника. Ричард поворачивает голову, чтобы посмотреть, сколько времени. Провалялся в кровати одиннадцать часов и чувствует себя как выжатый лимон. Теперь он спит плохо.
Имея две нерабочие руки, Ричард, по сути дела, вынужден всю ночь лежать на спине. Он способен, раскачавшись, перевернуться на бок, но это может быть чревато. В последний раз он так сделал несколько недель назад. Его правая рука оказалась зажатой под туловищем и к тому же вывернутой под болезненным углом, отчего в ней нарушилось кровообращение, и ему пришлось здорово помучиться, чтобы ее высвободить.
Переваливаться на живот тоже рискованно. Из-за того что брюшные мышцы ослабли, он не в состоянии вдохнуть достаточно воздуха, если лежит плашмя, не важно, на животе или на спине. Он спит, опираясь на три подушки, полусидя, чтобы сила тяжести помогала ему дышать. Когда трех подушек и силы тяжести станет недостаточно, четвертая подушка положение уже не спасет.
Пульмонолог говорит, что, скорее всего, в течение следующего месяца Ричарду понадобится БиПАП-аппарат[15]15
БиПАП-аппарат – аппарат искусственной вентиляции легких, создающий на вдохе и выдохе пациента давление различного уровня.
[Закрыть]. Его уже заказали. Ричарду придется носить закрывающую нос и рот маску, через которую всю ночь воздух будет то нагнетаться в легкие, то отсасываться из них. По словам пульмонолога, в этом нет ничего такого. БиПап предназначен для неинвазивной терапии. Похожий аппарат постоянно используют те, кто храпит и страдает от апноэ сна. Но для Ричарда БиПАП крайне серьезное дело. И все, в чем он нуждается, кажется ему инвазивным.
Знакомство с каждым новым лекарством, адаптивным устройством, специалистом и аппаратом сопровождается соответствующей утратой функций и независимости. Новые медикаменты от слюнотечения и депрессии, новое приложение в телефоне по преобразованию речи в текст, голеностопный ортез, который он должен носить на щиколотке, чтобы не допускать отвисание правой стопы, зонд для питания, который ему скоро понадобится, кресло-коляска с электроприводом, ждущая его в гостиной, уже заказанный БиПАП. Каждое из перечисленного – его подпись под контрактом, подтверждающая согласие на следующую стадию БАС. Он стоит посреди озера плотных зыбучих песков, и каждое предложение помощи – словно бетонный блок, который опускается ему на голову и неотвратимо погружает его все глубже.
И хоть Ричард и не выносит разговоров об этом, он остро осознает, каким будет последний бетонный блок в очереди. Когда его диафрагма и брюшные мышцы прекратят справляться со своей работой и он не сможет самостоятельно создавать давление в дыхательных путях, последним подарком его многопрофильной медицинской бригады станет механическая вентиляция легких через трахеостомическую трубку. Круглосуточное существование на системе жизнеобеспечения. Его, уже по уши увязшего в зыбучем песке, попросят моргнуть один раз, если он хочет жить.
На часах десять минут восьмого, а Билл будет здесь не раньше девяти. Ричарду нужно чем-то занять почти два часа. Не так давно для него было бы в порядке вещей провести весь день наедине за своим «Стейнвеем», шлифуя сонаты и прелюдии Шуберта, Дебюсси или Листа. Он садился за рояль с утра, когда солнце лилось в эркерные окна, освещая его личную сцену, а спустя, казалось бы, считаные минуты поднимал голову и с изумлением видел свое отражение в потемневших оконных стеклах. Вроде был впереди целый день – и раз, уже нет. В компании своего рояля Ричард никогда не чувствовал себя одиноким. Без рояля два часа длятся семь тысяч двести секунд. Тревожную вечность.
Разрываясь между противоречивыми желаниями – жаждой уснуть и жаждой сменить положение и перестать лежать на спине, – он несколько минут не делает ничего. Поворачивает голову набок, утыкаясь носом в наволочку, и вбирает в себя аромат свежевыстиранного белья. Дышит ровно, наслаждаясь божественным ощущением, окутывающим его чувственным облаком. В сходную атмосферу окунаешься, когда заходишь в пекарню, но это чувство особое, более личностное. Он не помнит, каким стиральным порошком и кондиционером для белья пользовалась его мать, но Тревор, который, вместо того чтобы помогать Ричарду с карьерой, помогает ему теперь со счетами, службами, доставкой продуктов и хозяйственных товаров, должно быть, покупает ту же самую пару средств, что предпочитала мать Ричарда. Он вдыхает как можно глубже и точно так же, как запах тушащегося на плите лука переносит его в бабушкину кухню, перемещается в свою детскую спальню.
Его зовут Рики, ему семь лет, и он просыпается субботним утром в своей односпальной кровати. На завтрак у него бекон и оладьи, залитые кленовым сиропом, а потом начинается урок по фортепиано с миссис Постма. Играть он будет Шопена и Баха. До педалей ему пока не дотянуться. Миссис Постма любит с ним заниматься. Иногда в конце урока в качестве поощрения за прилежание она угощает его пачкой фруктовых карамелек «Лайф сейверс». Больше всего ему нравятся те, что с пятью вкусами. Самые любимые – вишневые. Его накрывает ощущение безопасности и собственной невинности, восхитительное, как горячий крем-суп, но оно тут же, слишком быстро, исчезает. Его зовут Ричард, он снова в своем взрослом теле, в своей взрослой кровати, и ему хочется плакать о том мальчике, о том, с чем ему суждено столкнуться, когда он вырастет, о том, что он потеряет.
Боль, запертая в тазобедренных суставах и позвоночнике на протяжении одиннадцати часов, усиливается, напрочь развевая всякую надежду на сон, поэтому он, елозя, сползает с кровати. Пересекает затемненную спальню. Раздвинуть занавески он не может. Поднять светозащитные шторы тоже. Зажигает свет в ванной, клюнув выключатель ртом.
Как есть, голый, садится, широко разведя ноги, на унитаз и опорожняет мочевой пузырь, направляя струю движениями таза. Сначала она попадает куда надо, но потом, как обычно, сбивается. Прежде чем закончить, он обдает мочой заднюю часть крышки унитаза, забрызгивает сиденье и пол. В голове раздается голос матери. В доме, где, кроме нее, жили муж и трое мальчишек, она то и дело отчитывала кого-то из них за жуткую грязищу, которую они развели в туалете. Он оглядывает испачканные поверхности, не имея сил хоть что-то подтереть. Прости, мам.
Опускает взгляд на свой вздутый живот. Ричард не растолстел. Несмотря на неизменную диету, состоящую из молочных коктейлей, у него серьезный дефицит веса. Мышцы брюшины начали «терять форму», расслабляться. Он становится боком к зеркалу в ванной и рассматривает себя в профиль. У него то ли пухлый животик младенца, то ли пивное брюхо старика.
А еще у него пятидневный запор. Невролог недавно посадил его на гликопирролат, антихолинергический препарат, который подавляет слюноотделение. Во рту и в горле слюны становится меньше, она не так скапливается в задней части ротовой полости. Перед тем как перейти на это лекарство, он испытал несколько приступов жестокого кашля, таких продолжительных, что Билл или кто-то другой из помощников и медперсонала, находившийся с Ричардом в одном помещении, посчитал, что тот может на месте захлебнуться собственной слюной. К счастью, средство работает, правда без минусов не обошлось. Слюны теперь действительно меньше, зато дерьма в избытке.
Недостаток общей подвижности и в своей основе жидкая, с минимумом клетчатки диета, которой он придерживается, тоже могут приводить к запорам, но, поскольку раньше подобных проблем не было, Ричард грешит на гликопирролат. Еще он принимает рилутек. Утверждается, что рилутек увеличивает выживаемость на десять процентов. Ричард сделал вычисления. Средняя продолжительность течения этого заболевания составляет от двадцати семи до сорока трех месяцев, так что с рилутеком он может рассчитывать на дополнительные три месяца жизни. Один бонусный сезон. По его самым оптимистичным подсчетам, он не дотянет и до своего пятидесятилетия.
Не обязательно, говорят люди. Посмотрите на Стивена Хокинга, продолжают они. Ну разумеется, болезнь парализует каждую мышцу в его теле, за исключением кишечника и пока бьющегося сердца, зато он сможет еще тридцать лет прожить на искусственной вентиляции легких! Вот на что, по мнению людей, он должен уповать и чем воодушевляться, откуда черпать свою стойкость и волю к жизни. Ричард еще не принял окончательного решения по трахеостомии, но, если бы ему пришлось определиться сегодня, он бы скорее предпочел умереть, чем положиться на инвазивную вентиляцию. Стивен Хокинг – физик-теоретик и гений. Он может жить в царстве своего разума. А Ричард нет. Он смотрит вниз на свои повисшие руки. Его миром, его главным увлечением, его мотивацией являлось фортепиано. Будь он блестящим физиком-теоретиком с БАС, мог бы тешить себя надеждами на эти тридцать лет. Но он пианист с БАС, потому новых календарей покупать не планирует.
Проголодавшись, он по привычке направляется в кухню. Встает лицом к холодильнику и пытается проникнуть в него взглядом, словно рентгеновским зрением представляя себе продукты внутри, которые ему не съесть, пока Билл, Мелани или Кевин не откроет дверцу и не приготовит их для него. В животе урчит. До завтрака еще два часа. Он почему-то рисует в воображении стоящую на полке дверцы бутылочку с бальзамической салатной заправкой и размышляет о сроке ее годности, гадая, не протянет ли она дольше его. Представляет себе, как Тревор, которому поручено разобрать вещи Ричарда после его смерти, будет готовить себе салат и наливать эту бальзамическую заправку в миску с зеленью.
Оставив холодильник в покое, Ричард стоит теперь перед книжным шкафом, читая надписи на корешках. Он не может вытащить книгу с полки и полистать. Под книгами лежат сложенные стопкой фотоальбомы, в них снимки с разнообразных гастролей и концертов. Эти фото самостоятельно сейчас не посмотреть. На них Ричард запечатлен во время выступлений на своих любимых площадках: в Сиднейском оперном театре, зале Рой-Томсон-холл в Торонто, Оперном театре Осло, Меркин-холле, Карнеги-холле, поместье Тэнглвуд и, разумеется, в бостонском Симфони-холле. Обложка верхнего альбома покрыта толстым слоем пыли. Он не может ее смахнуть. На нижней полке выстроились программки с нескольких сотен выступлений. Больше не будет ни новой программки, которой можно было бы продолжить уже существующий ряд, ни нового снимка, который можно было бы вставить в прозрачный кармашек пыльного фотоальбома. Ричард никогда больше не сможет играть.
Грудь сжимается, а сердце и легкие кажутся обмякшими, словно они забиты мокрым песком. Несмотря на прием гликопирролата, на глаза незаметно наворачиваются слезы. Кашлянув несколько раз, он отходит от книжного шкафа.
Ричард продолжает прохаживаться по своей квартире, чувствуя себя в собственном доме туристом, посетителем в музее, где ему дозволяется смотреть, но не трогать. Он бредет к письменному столу и разглядывает две фотографии в рамках – портреты дочери. Малышка Грейс, совершенно безволосая и с одним нижним зубиком. Грейс в шапочке и плаще выпускницы, с распущенными каштановыми волосами – редкий случай на его памяти, когда они не собраны в хвост. Интересно, как она их сейчас носит.
Он воображает себе временной интервал между двумя этими моментами на снимках. Слишком многое из ее детства прошло мимо него… Его сердце рвется от сожалений, от желания вернуться в прошлое. Он думает о тех мгновениях ее жизни, которые также будут заключены в рамку и которых он, скорее всего, не застанет, – окончание университета, день свадьбы, дети… Он садится за стол и подается вперед, чтобы рассмотреть снимки поближе, надеясь увидеть что-то в наклоне головы Грейс, в свете, отражающемся в ее глазах, впитать что-то новое и непреходящее, пока еще может. Голод внутри его вздутого живота разрастается, требуя куда большего, чем завтрак.
И эта одиноко стоящая сиротливая рамка с портретом выросшей Грейс ранит его сердце. Таких фото должно было быть больше. Когда они с Кариной только поженились, он с воодушевлением мечтал о традиционной семье – три-четыре ребенка, дом в пригороде, размеренная работа преподавателя в Консерватории Новой Англии и Карина, дающая уроки или где-то выступающая. Он особенно надеялся на сына, мальчика, который играл бы на фортепиано, скрипке или каком-нибудь другом инструменте, юношу, которого Ричард мог бы вдохновлять, наставлять и хвалить. В юности он пообещал себе, что станет лучшим отцом для своих детей, чем его собственный отец был для него.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!