Читать книгу "«Лето в Бадене» и другие сочинения"
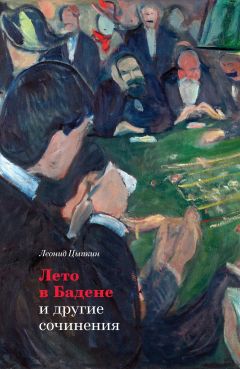
Автор книги: Леонид Цыпкин
Жанр: Классическая проза, Классика
Возрастные ограничения: 18+
сообщить о неприемлемом содержимом
Поезд из Бадена уходил в два часа пополудни, но уехать без шиньона было невозможно, и поэтому с самого утра история с поисками шиньона возобновилась с новой силой: попеременно вызывались то Marie, то Тереза, и Анна Григорьевна и Федя устраивали им перекрестный допрос. Федя, находившийся после припадка особенно не в духе, раздражался и даже кричал, – проснувшись утром, еще не открыв глаз, он с неприятным для себя чувством увидел перед собой какой-то треугольник с изъеденной вершиной – напрягая мысль, он пытался вспомнить, что все это должно было обозначать, и неожиданно вспомнил: пропавший шиньон – да, именно это и делало этот треугольник незавершенным – они не могли уехать отсюда вот так вот с исчезнувшим шиньоном, – Marie и Тереза искали во всех углах, потом Тереза ушла, а Marie принялась искать в постели Анны Григорьевны и в Фединой постели и, в конце концов, обнаружила его за Фединой кроватью, – Федя стал уверять, что он сегодня утром смотрел, и шиньона там не было, а теперь он явился, следовательно, Marie подложила его, – Marie со слезами на глазах побежала к хозяйке, которая ворвалась в комнату и стала кричать, что воровок она не держит, что у нее честные люди, – она кричала, ударяя себя в плоскую грудь, – Анна Григорьевна называла ее M-me Thenardier, по имени героини романа Гюго, – бесчеловечной женщины с громким смехом и мужскими замашками, – но Феде она почему-то напомнила сейчас, когда она, исступленно крича, била себя кулаком в грудь, какую-то очень знакомую личность – ага, он вспомнил – Катерину Ивановну из «Преступления и наказания», когда она на поминках, с выступившими на лице и шее красными пятнами, с колыхающейся чахоточной грудью, исступленно доказывала свое благородное происхождение под смех всех присутствующих, в особенности же под презрительное фырканье хозяйки Амалии Ивановны, этой тупой и надменной немки, – как точно он все-таки вывел тип Екатерины Ивановны, хотя в происходившей сейчас сцене было все как раз наоборот, но как была верна эта атмосфера назревающего скандала! – с ноября прошлого года он ничего не написал – сначала женитьба, потом эта рулетка, которая вытеснила все из его головы, так что он даже не смог толком написать статью о Белинском, но все эти мысли пронеслись в его мозгу только так, между прочим, – голос хозяйки слышался теперь где-то за дверьми – история с шиньоном была закончена, – он сидел за письменным столом, подперев подбородок ладонями, закрыв глаза, и перед его внутренним взором снова всплыл знакомый тре– угольник с изъеденной, выщербленной вершиной – то, что он выиграл вчера, было взято с двух ударов, – ему следовало поставить еще на третий удар – только нечетная цифра, в особенности цифра «три», могла быть завершающей – до отхода поезда оставалось еще больше двух часов – за это время можно было еще выиграть целое состояние – он терял последнюю возможность, последний шанс, сидя вот так вот бессмысленно за столом, в то время как там, совсем невдалеке, где заканчивалась Lichtentaler Allee, в белом двухэтажном здании со шпилями, за высокими окнами, задрапированными изнутри тяжелыми зелеными портьерами, на столах, покрытых зеленым сукном, под светом люстр, пробивающимся сквозь облака табачного дыма, золотились груды монет, – словно оклады икон в церкви при мерцающем свете свечей, окутываемые облаками ладана, – поклявшись Анне Григорьевне, что это самый последний раз и что он только посмотрит, но на всякий случай просит у нее всего только один гульден, он помчался по направлению к вокзалу, а Анна Григорьевна, чтобы не платить так много денег за вещи, стала заворачивать все книги в свое черное платье, а затем еще в Федино пальто, чтобы все это можно было бы внести в вагон как маленький багаж, – кроме того, нужно было проверить еще раз все ящики комода и постели, чтобы быть уверенной, что они не забыли ничего – Федя уже успел обернуться и, упав на колени, сказал, что он все проиграл и что он подлец, потому что заложил еще обручальное кольцо, – теперь уже не хватало денег, чтобы уехать, и они вместе помчались к Moppert’у, жившему недалеко за углом, чтобы заложить серьги, – груды золотых монет продолжали отсвечивать своим таинственным церковным светом, и когда оставалось полтора часа до отхода поезда, Федя с пятью франками в кармане снова помчался в вокзал, – давеча, когда он проиграл и заложил кольцо, он слишком погорячился и поставил свой седьмой (нечетный) удар на zero, понадеявшись на счастливую цифру «семь» – он все проиграл, и крупье, взяв его деньги, сложил их в общую кучу, а затем разровнял эту груду монет ладонью, уничтожив вершину, – теперь он просто хотел взглянуть еще раз на кучу монет, всегда лежавшую возле крупье, взглянуть в такой момент, когда она заканчивалась вершиной, – стоя позади играющих и любопытных, встав на цыпочки, стараясь разглядеть между их голов груду монет возле крупье, то уменьшавшуюся, то увеличивавшуюся в зависимости от хода игры, зажав в ладони пятифранковую монету, он с замирающим сердцем ждал момента, когда эта груда приобретет четкую вершину, – он чувствовал, что этот момент должен был стать решающим в его жизни, и когда груда монет, к которой крупье то и дело подгребал еще дополнительные порции проигранных монет, стала такой громадной, что, казалось, она сейчас рассыплется и на верху этой груды образовалось подобие конуса, он, сам еще не осознавая, что делает, одним движением протиснулся к столу, и как только крупье предложил ставить, выложил свою пятифранковую монету, – он снова поставив на нечет – шарик бешено метнулся и почти сразу же вскочил в zero – восклицания радости и отчаяния раздались одновременно с разных сторон – несколько игравших сорвали огромный куш, остальные – проиграли, может быть, целое состояние, – он пробирался сквозь толпу посетителей вокзала, втянув голову в плечи, – последняя монета была проиграна, а вместе с ней рухнула и его последняя надежда – он катился с горы вниз, теперь уже окончательно и бесповоротно, даже не пытаясь ни за что ухватиться, – когда он прибежал домой, запыхавшийся и бледный, Анна Григорьевна объяснялась с хозяйкой, которая требовала одиннадцать гульденов, – разгорячась, хозяйка снова ударяла себя в грудь и кричала, что у нее гульденов было побольше, чем у Анны Григорьевны и Феди, потом она стала требовать деньги за прислугу, за дрова – Анна Григорьевна протянула ей два гульдена, но хозяйка сказала, что этого мало, а когда Анна Григорьевна прибавила ей еще один гульден, она снова стала бить себя кулаком в грудь и кричать, что у нее нет нечестных людей, – когда она, наконец, ушла, Федя побежал за извозчиком, но, как только он ушел, она вернулась и стала требовать 18 крейцеров за разбитый горшок, – в это время Федя пришел с коляской, весь взмокший, так что Анна Григорьевна боялась, что он простудится, – хозяйка то вбегала, то снова выбегала из комнаты, что-то требуя, ударяя себя кулаком в грудь, – наскоро поев булку и полфунта ветчины, которые Федя купил, когда бегал за извозчиком, они вышли из комнат и стали спускаться по лестнице, – хозяйка вышла их провожать, a Marie, стоявшая на площадке, даже не повернула головы в их сторону – эдакая неблагодарная девчонка, они столько раз давали ей фрукты и всякие мелочи, а она даже не захотела попрощаться с ними! – на улице возле поджидавшей их коляски им встретились только скверные дети кузнечихи, которые не давали им спать, – когда они взобрались в коляску, в окне показались фигуры хозяйки и Marie – хозяйка кричала им что-то угрожающее, так что на секунду им показалось, что в них сейчас полетят камни, – коляска тронулась, подковы лошадей зацокали по клинкеру – они ехали по знакомым баденским улицам, обсаженным белыми акациями, мимо знакомых домов с черепичными крышами и за– крытыми ставнями в этот жаркий еще, несмотря на конец лета, послеполуденный час – Федя сидел, согнувшись, в своем выкупленном, довольно уже потертом черном берлинском костюме, поддерживая узел, в который были связаны книги, – Анна Григорьевна была одета в свое фиолетовое платье и мантильку, которую все-таки удалось выкупить, и теперь эта мантилька прикрывала очень кстати штопки на платье, на голове у нее была шляпка с вуалью, а у Феди – его темная шляпа, которую он то и дело снимал, чтобы вытереть пот – в этот момент он придерживал узел ногой, – глядя на знакомые дома и улицы, на каштановую Lichtentaler Allee, мимо которой они сейчас проезжали, Анне Григорьевне казалось, что они жили здесь очень долго, целую вечность и что, может, кроме этого, в их жизни ничего больше не было, и она все время боялась, что еще случится что-нибудь такое, что помешает им уехать отсюда, – она то и дело посматривала на часы на башне городской ратуши, которая виднелась с разных концов города, – слава Богу, они приехали вовремя, и, пока носильщик относил их чемоданы в багаж, Федя побежал за билетами – поезд стоял уже под парами, – узел с книгами, предназначенный для вагона, лежал на скамейке возле Анны Григорьевны, и в этот момент появилась Тереза – она бежала по платформе, озираясь по сторонам, – сердце у Анны Григорьевны упало – она так и предчувствовала, что они не уедут отсюда, что что-нибудь им помешает, – увидев Анну Григорьевну, Тереза остановилась и, запыхавшись, начала что-то быстро говорить – оказывается, Анна Григорьевна захватила с собой ключ от квартиры, – облегченно вздохнув и порывшись в сумочке, она нашла ключ – действительно, у нее была такая дурная привычка забирать ключи от квартиры – вместе с ключом она дала Терезе несколько крейцеров – Тереза поблагодарила и пожелала счастливого пути – она была самый лучший человек в Бадене, такая забитая, покорная, и ей, конечно, было неловко, что с ними так плохо обошлись, – в вагоне было жарко, но когда поезд наконец тронулся, стало немного прохладнее – мимо окон проплывали краснокирпичные дома с черепичными крышами, вдали виднелись горы, покрытые зеленью, и одна из них с Новым и Старым замками и с нависшими наверху скалами, – теперь, когда они безвозвратно уезжали отсюда, она снова, как и в первый раз, когда они подъезжали сюда, увидела красоту этого городка и окружавших его гор, где-то вдали блеснул своей голубизной Рейн, и на секунду ей стало грустно, – «Разлука, как ни кинь, смерть», – писала Цветаева – покидая даже самые неприятные места обитания, я, например, всегда испытываю чувство грусти, наверное оттого, что знаю, что никогда уже более туда не вернусь, – Федя раздобыл откуда-то красный виноград, очень вкусный, и Анна Григорьевна и Федя ели его в поезде, но, к сожалению, Федя купил слишком мало, – за окнами тянулись знакомые Шварцвальды и Тюрингены, затем начались бесконечные пересадки, и одни соседи стали сменять других – какие-то две старушки и дама с железной палкой, ехавшая в Базель, затем пожилая дама с суровым лицом, желавшая, как почему-то решила Анна Григорьевна, выйти замуж, молодой немец, наступивший на ногу Анне Григорьевне и любезно извинившийся, очень словоохотливый, отчего Федя сразу забился в угол дивана и молча сверлил Анну Григорьевну и немца сердитым взглядом, не предвещавшим ничего хорошего, какая-то дама в трауре, поинтересовавшаяся, есть ли в России еще паспорта и принявшая Анну Григорьевну за немку, что Анна Григорьевна расценила как оскорбление и даже грубость, потом еще двое молодых немцев супругов-молодоженов, – на одной из станций Федя вышел, чтобы купить бутербродов, но у него не оказалось мелочи, и он дал продавцу десять франков, а продавец, возвращая сдачу, не додал Феде одного франка – Федя сказал ему о недоданном франке, но продавец сделал вид, что не слышит, и занялся другими покупателями – в это время раздался третий звонок, а Анна Григорьевна сидела в вагоне за запертой дверью, и билеты были у Феди – услышав третий звонок, Федя закричал изо всей мочи, чтобы тот отдал его франк, – так громко, что перекричал свисток паровоза, – Федя ворвался в купе, взъерошенный, красный, и в ужасном волнении стал рассказывать все это словоохотливому молодому немцу, и при этом еще громко прибавил, что нигде нет столько мошенников, как в Германии, – две старушки, неизвестно почему все еще находившиеся здесь, сказали громко друг другу, что это неправда, а молодой немец из любезности согласился, так что Федя, очевидно, почувствовал себя до некоторой степени отомщенным за свои злоключения с бутербродами и за явные ухаживания этого немца за Анной Григорьевной – за окном снова показался Рейн, широкий, с зеленоватой водой и с камнями посередине, и Анна Григорьевна обрадовалась ему, как старому знакомому.
На следующее утро они прибыли в Базель. В вокзале скопилось много народу, и Анна Григорьевна с Федей никак не могли понять, следует ли им ожидать своих чемоданов, но словоохотливый немец, снова оказавшийся почему-то рядом, объяснил им, что чемоданы прямо доставят в Женеву, – Анна Григорьевна и Федя, державший узелок с книгами, словно князь Мышкин, явившийся в дом к Епанчину, влезли в небольшой омнибус, при этом Федя наступил на ноги каким-то англичанкам, а затем, отдав узелок Анне Григорьевне, побежал снова в вокзал, чтобы все-таки узнать, что будет с их чемоданами, – через несколько минут он снова вернулся в карету и опять наступил на ноги англичанкам – карета катилась по улицам большого города и затем выехала на мост через широкую реку – Анна Григорьевна была приятно удивлена, что река снова оказалась Рейном, – на мосту возле перил стояли два-три пьяных старика и о чем-то спорили, размахивая руками, и это навело Анну Григорьевну на мысль об иллюзорности свободы в Швейцарии, после чего супруги Достоевские прибыли в «Hotel Goldenes Kopf», где и кельнер и носильщики тоже оказались пьяными, в результате чего Анну Григорьевну и Федю приняли за одну семью с англичанами и хотели поселить всех вместе в одной комнате.
Едва устроившись, Достоевские пошли осматривать город, главным же образом собор и местный музей. День был мрачный, поэтому картины были плохо освещены, в особенности же – в соборе. В музее же, хоть света было побольше, все картины, кроме одной, не привлекли особого внимания Достоевских. Эта же одна, написанная Гольбейном-младшим и называемая Анной Григорьевной «Смерть Иисуса Христа», хотя истинное ее название было «Мертвый Христос», имела форму вытянутого в длину прямоугольника и, в отличие от обычных картин, на которых страдающий или мертвый Христос изображался с налетом романтики, являла собой мертвеца, вытянувшегося на белой простыне, словно в покойницкой, с заострившимся носом, с телом истерзанным и измученным, но уже тронутым первыми признаками разложения, которые особенно отчетливо были заметны на лице и на несоразмерно больших ступнях, так что Анна Григорьевна смотрела в ужасе на эту картину, в то время как Федя был в восхищении. Заметив стоявший возле стенки стул, он решительными и быстрыми шагами подошел к нему и, поставив его почти посередине залы, встал на него и впился взглядом в картину – длинная, вытянутая по горизонтали картина висела над самой дверью внутри рогожинского дома на Гороховой – да, именно такая должна была там висеть, и князь Мышкин, видевший эту картину в Швейцарии, должен был сказать именно то, о чем подумал сейчас стоявший на стуле человек: «что от такой картины можно и веру потерять», хотя сам он тогда не видел ни облика купца с маленькими, огненными глазами, сжигаемого страстью к падшей, но гордой женщине – этой вечной героине Достоевского, болезненно разжигавшей его чувства и оттого не способной их утолить, ни облика князя, этого рыцаря печального образа, полу-Христа, полу-Дон-Кихота, страдавшего той же болезнью, что и стоявший на стуле человек, ни облика множества других персонажей и лиц, ни имен, которыми он наделил будущих героев романа и о которых он даже, может быть, еще понятия не имел, ни событий и сцен, которые должны были разыграться, но почему-то картина эта была совершенно отчетливой деталью – первым кристаллом, выпавшим из перенасыщенного раствора, – остальное, пока еще скрытое густым туманом, должно было прийти само собой – с новой силой впился он взглядом в картину – на несколько мгновений она поблекла, даже почти как бы растворилась, и на месте ее появились знакомые лица: красная с рысьим взглядом, плоская с выпуклыми глазами, затем лица тех, кто водил хоровод, а потом, расположившись на вершине горы амфитеатром, указывали на него пальцем и, хихикая, подмигивали друг другу, так что он даже уже хотел сойти со стула, но в следующее мгновенье все они исчезли, и он снова явственно увидел лицо и тело мертвого Христа и услышал фразу о потере веры, сказанную кем-то другим, – и эта мысль должна была стать средоточием романа, и тогда из тумана стали проступать какие-то пока еще неясные предметы, сцены и образы: блеснувший нож – один крестьянин закалывал другого со словами: «Господи, прости ради Христа», – возведя глаза к небу; затем солдат, продавший свой оловянный крест, выдав его за серебряный; слова о Боге простой бабы-крестьянки при виде первой улыбки своего младенца, затем обмен крестами между двумя главными лицами романа; необычно пустынный Летний сад с грозовыми тучами, сгущающимися над Петербургской стороной; снова блеснувший нож где-то в темном коридоре одной из дешевых петербургских гостиниц возле Литейного и короткий взгляд маленьких огненных глаз хотевшего убить, и снова блеснувший в темноте нож, когда его тыкали под белую грудь гордой и падшей женщине, – подошедший служитель потянул стоявшего на стуле за руку, – здесь же рядом стояла Анна Григорьевна, извиняясь за странную выходку ее мужа – она боялась, что с них возьмут штраф, – он сошел со стула покорно, как лунатик, даже как бы и не обратив внимания на то, что его заставили сойти, – он шел рядом с Анной Григорьевной, сначала по музею, чтобы выйти из него, затем по улицам, по которым неслись экипажи и омнибусы, мимо больших домов с зеркальными витринами, навстречу спешащим куда-то людям, ничего не замечая, – он находился на вершине горы, той самой вершине, которая ранее казалась ему недоступной, и с этой вершины ему открывался вид почти на всю планету с ее городами, реками, деревушками, океанами и церквями, со всей ее суетливо идущей и полной трагических противоречий жизнью, – возможно, он находился теперь в том хрустальном дворце, который он с таким упорством проглядывал, пытаясь взобраться на вершину, – они вернулись в «Hotel Goldenes Kopf» и пообедали, затем снова гуляли по вечернему городу, а ночью они заплыли далеко за линию горизонта – движения их были ритмичны, и так же ритмично они дышали, то погружаясь в воду, то сильным движением выталкиваясь из нее, и встречное течение ни разу не снесло его, – за покрытыми снежной пеленой окнами медленно плыли туманные пятна – огни на перроне Московского вокзала, – пассажиры нетерпеливо стояли в проходе с чемоданами и сумками, дверь, ведущая из тамбура, была открыта, и морозный пар врывался в вагон – поезд остановился, – держа в руке чемодан, я вышел вслед за другими на платформу и пошел среди суетящейся толпы приехавших и встречающих по направлению к туманно светящемуся сквозь морозную дымку зданию вокзала – возле соседней платформы стоял фургон, нагруженный большими синими спортивными сумками, из которых торчали хоккейные клюшки – это команда московских динамовцев, игравшая сегодня с ленинградским «СКА», возвращалась в Москву на «Красной стреле».
***
На площади перед Московским вокзалом было почти пустынно – бульшая часть приехавших исчезла в метро, остальные пошли к трамвайной остановке, находившейся слева от площади, то есть фактически уже на Лиговке, и только небольшая кучка наиболее отважных и отчаянных пыталась поймать такси, иногда подъезжавшие к зданию вокзала, – вокруг каждой машины с зеленым огоньком возникал бой – время приближалось к полуночи – в лучах фонарей и прожекторов, освещавших площадь, видны были медленно падающие редкие снежинки, от морозного воздуха слипались ноздри, под ногами поскрипывал снег, а прямо перед площадью проглядывался почти пустынный Невский проспект с двумя цепочками фонарей, постепенно сходящимися вместе и тонущими где-то в ночной морозной мгле, и с редкими движущимися огоньками последних троллейбусов – обходя площадь, я пересек сначала Лиговку – где-то там, за трамвайной остановкой, в темноте, прочерчиваемой лишь едва видимой цепочкой фонарей, чуть в стороне от Лиговки, рядом с Кузнечным рынком, находился обычный серый петербургский дом, в котором жил он последние годы своей жизни и где умер на своем кожаном диване, под фотографией Сикстинской Мадонны, подаренной ему кем-то из его друзей ко дню рождения, и куда-то туда, в темноту, в известный район, ехал на извозчике с нарумяненной женщиной герой бунинского рассказа «Петлистые уши», рассказа, который почему-то рассматривается литературоведами как антитеза «Преступлению и наказанию», – затем я пересек Невский там, где он вливается в площадь, и вышел на улицу Восстания, бывшую Знаменскую – по этой улице он тоже часто ходил, посещая Майкова, жившего здесь, или возвращаясь из редакции или типографии, помещавшихся на Невском, к дому Сливчанского, где некоторое время жил он сам, или к дому Струбинского возле греческой церкви, где тоже он жил позднее, – приезжая в Ленинград, я всегда останавливался у нашей приятельницы, которая жила на Знаменке еще с довоенных времен. Снег поскрипывал под ногами, чемодан не очень отягощал меня, я шел не торопясь, с удовольствием вдыхая ночной морозный воздух, глядя на цепочки фонарей, такие же прямые и ровные, как на Невском, и так же сходящиеся и теряющиеся где-то вдали, – на перекрестке я остановился, пропуская заворачивающий со скрежетом трамвай – два или даже три сцепленных вагона с заиндевевшими окнами, сквозь которые едва проглядывали одинокие тени ночных пассажиров, – дом, где жила наша приятельница, находился сразу за перекрестком, – я вошел в знакомый обшарпанный подъезд, где всегда пахло кошками, а на каменном полу валялись осколки от бутылок после распивания на троих или даже в одиночку, и стал подниматься на третий этаж по крутой каменной лестнице со сбитыми и стоптанными ступенями, скудно освещаемой одной или двумя лампочками, возле высокой, потемневшей от старости двери я позвонил, повернув ручку старинного звонка, но, не услышав движения за дверью, еще раз крутанул ручку звонка – последнее время Гильда Яковлевна стала плохо слышать – наконец за дверью послышались тихие шаги и звук отпираемого замка – в проеме высокой двери стояла маленькая старушка, Гильда Яковлевна, в халате, с морщинистым лицом, ямочкой на подбородке и темными волосами – она регулярно красила их, наверное, с тех пор, как я ее помню, поэтому в моих глазах она никогда не была старушкой, а была Гилей, такой, как я называл ее в детстве, когда мы жили в одном городе, и она была самой близкой подругой моей матери, – нагнувшись, я поцеловал ее в мягкую морщинистую щеку, и она быстро чмокнула меня в ответ, – «Ты на трамвае? Я так и думала, что поезд опоздал. Я уже звонила на вокзал. Какая погода в Москве?» – быстро заговорила она, закрывая дверь изнутри на засов, не слушая моих ответов и следуя за мной в комнату, куда я уже входил как хозяин, – «Я тебе уже постелила. Блинчики разогреть или ты любишь холодные? Есть пирожки из Елисеевского. А мама все еще на диете? Попробуй курицу – это Анна Дмитриевна сварила. Завтра у нас на обед суп с клецками, твой любимый, а на второе – телячьи отбивные. Я еще вчера ходила на рынок. А вы в Москве пользуетесь рынком?» – Небольшой круглый стол был накрыт и уставлен едой, старая продавленная кушетка была аккуратно постелена, а на белоснежной подушке лежала еще и думочка, – «Гилечка, зачем ты ходила в такой мороз на рынок, а уж с постелью вполне могла меня подождать – неужели обязательно самой нужно было подымать этот тяжеленный матрац?» – я лицемерно укорял ее, а она преувеличенно резким тоном – «Ай, оставь!» – отмахивалась от меня, и нам обоим было очень приятно, – сцена эта повторялась каждый раз, когда я приезжал, – открыв чемодан, я доставал оттуда шоколадный набор и бананы, которые Гиля очень любила, – «Ты с ума сошел!» – говорила она мне, не упустив при этом заметить, что бананы еще не совсем зрелые, – мама моя, зная Гилю, «как свои пять пальцев», как она любила выражаться, каждый раз уверяла меня, что и шоколад, и бананы все равно перекочуют к «маленькой Тане», внучке бывшей закадычной приятельницы Гили, которая, по словам Гили, в свое время сделала очень много для нее, а потом умерла от рака, или к «большой Тане», дочке Гилиного племянника, который развелся с женой, и Гиля чувствовала себя виноватой, потому что жена племянника была племянницей бывшего Гилиного шефа-академика, и в свое время сама Гиля с необычайным рвением способствовала этому браку, или еще кому-нибудь из родственников и знакомых, которых Гиля опекала, хотя справедливости ради следует заметить, что часть бананов Гиля оставляла для себя, а шоколадный набор дарила врачу, который лечил ее, – затем, вынув полотенце, ступая на цыпочках, чтобы не разбудить соседей, я шел в ванную – большую проходную комнату, всю заставленную старой мебелью и корытами, где сама ванна занимала только часть помещения и была отгорожена ширмами, на которых постоянно сушилось белье, так же как и на многочисленных веревках, протянутых через комнату так, что она скорее напоминала собой задник театральной сцены – помимо Гили квартиру населяли одни женщины: две пожилые сестры Хая и Циля Марковна, полные, с крашенными в рыжий цвет волосами, которых я так и не научился различать, тем более что к ним очень часто приходила еще третья сестра, жившая где-то на отшибе, – все они прекрасно готовили всякие цимесы, шкварки, фаршированную рыбу, пекли пахнущие корицей пироги и струдели, – затем дочь одной из двух сестер – не то Хаи, не то Цили Марковны – Лера, очень полная перезрелая девушка, томившаяся по жениху, но тщательно и даже гордо скрывающая это – в ожидании счастливого жребия работавшая медсестрой на скорой помощи, – она либо спала, либо отсутствовала, и через открытую дверь ее комнаты часто можно было видеть ее кровать, почему-то всегда незастеленную, с огромной пуховой подушкой и небрежно откинутым голубым пуховым одеялом, и, наконец, Анна Дмитриевна, высохшая старушка, когда-то, видимо, красивая и статная, с трясущейся головой и дрожащими руками, помогавшая Гиле в ведении хозяйства, когда-то владевшая всей этой квартирой вместе со своим мужем, бывшим белым офицером, давно выведенным в расход, курившая целыми днями «Беломор» в своей каморке перед постоянно включенным телевизором, никогда не отказывающаяся от рюмочки водки и чрезвычайно преданная советской власти, что вызывало постоянное раздражение Гили, считавшей Анну Дмитриевну непроходимой дурой, – увидев меня, идущего в ванную, Гиля, знавшая мою страсть принимать каждый день душ, предлагала затопить колонку, потому что Анна Дмитриевна еще днем заготовила дрова, принеся их из сарая во дворе, но я решительно отказывался, потому что было уже очень поздно и надо было иметь совесть, а потом после ужина я лежал на диване, который был мне несколько коротковат, так что ноги мои чуть свисали, а под головой мешался диванный валик, но если его убрать, то голова оказывалась неестественно низко, – лежал, укрывшись заботливо приготовленным Гилей одеялом, и читал какой-нибудь взятый мною наугад том Достоевского из старого дореволюционного собрания сочинений, которое вместе с другими такими же старыми изданиями в серых или темно-синих тисненых переплетах с золотом стояли на этажерке – остаток книг, сохранившихся во время блокады, да еще целая библиотека никому не нужных книг по урологии на черных книжных полках вдоль стены в соседней комнате, где в это время укладывалась спать Гиля – она свято хранила эти Мозины книги и так же свято ездила на могилу Мози в день его рождения, смерти или просто так, – он умер на Гилиной кровати уже двадцать с лишним лет назад, вернувшись домой вместе с этой женщиной, которую Гиля называла «она», так что я до сих пор так и не знаю ее имени, – «она» почти не отлучалась из дома и оставалась ночевать на Мозином диване, стоявшем напротив Гилиной кровати, – эта смежная комната имела второй выход в коридор, так что женщина эта могла приходить, не беспокоя Гилю, которая целиком уступила им комнату и жила в столовой, маленькой узкой комнате, в которой обычно помещался я, и спала на этой продавленной кушетке, – Моисея Эрнстовича у нас в семье называли Мозей, потому что так называла его Гиля, – тут была, по-видимому, какая-то немецкая инверсия: Моисей – Мозес – Мозя, да он и учился где-то в Германии, еще до революции, как все евреи, желавшие получить высшее образование, – может быть даже, что и отец его испытал на себе какое-то немецкое влияние, потому что имя «Эрнст» было явно немецким, – Мозя был довольно высоким, подтянутым мужчиной, по-немецки аккуратным, абсолютно лысым, с небольшими усиками и насмешливыми черными глазами, над которыми нависали мохнатые брови, – он был профессором урологии, занимался частной практикой, в молодости прекрасно играл в шахматы, так что получил звание мастера, и вообще считался человеком расчетливым и даже скупым, – Гиле он изменял, по-видимому, давно – еще с моей теткой, которую я упоминал в самом начале и у которой я взял «Дневник» Анны Григорьевны, – во всяком случае, у нас в семье постоянно рассказывали историю о том, как в молодости они втроем поехали отдыхать – Мозя, Гиля и моя тетка – и как они жили все в одной комнате – мама моя называла по этому поводу Гилю мазохисткой, – в тридцать седьмом году Мозя сидел, но благодаря чьим-то хлопотам был вскоре выпущен, – Гиля с захватывающими подробностями часто рассказывала эту историю – как его взяли, как он сидел, и как он возвратился – неожиданно позвонил в дверь поздно вечером, и как она пошла открывать, думая, что это пришли за ней, – оказывается, это был Мозя, – она бросилась к нему, не веря своим глазам, а вместе с ней ее закадычная приятельница Эльза, так много сделавшая для нее и почти весь период Мозиной отсидки жившая с ней, а затем назвавшая свою дочь Гильдой в честь Гили, – Эльза была верным другом дома, и Мозя первый обнаружил у нее рак груди, хотя был урологом, – женщина, с которой Мозя вернулся домой и которую Гиля называла «она», была его помощницей по кафедре – не то ассистентом, не то лаборантом, – он несколько раз уходил к ней на длительный период времени, и тогда Гиля приезжала к нам из Ленинграда, и они с мамой долго обсуждали создавшуюся ситуацию, а потом как-то Мозя приехал к нам и мама стала ему вычитывать за все, на что Мозя сказал: «Вы еще не знаете Гилю», – и эта Мозина фраза часто повторялась в нашей семье, мамой – с возмущением, а теткой – философски, потому что она вообще широко смотрела на жизнь и часто любила повторять толстов– скую фразу: «Люди как реки», – за период своих странствований от Гили к этой женщине и обратно Мозя получил два инфаркта, а после третьего приехал умирать домой, но эта женщина не оставляла его, и Гиля готовила еду для них обоих, и только в день смерти женщина эта отлучилась и не пришла к вечеру, а к ночи ему стало плохо, не хватало воздуха, он попросил Гилю помочь ему встать, чтобы сделать несколько шагов по комнате, – ему казалось, что ему станет легче, – и Гиля помогла ему встать, и, опираясь на нее, он сделал несколько шагов по направлению к своему письменному столу, на котором до сих пор лежат его книги и стоит его фотография, где он чем-то напоминает немецкого профессора со своими аккуратными усиками и проницательным взглядом, – в эти несколько последних минут его жизни они с Гилей были вдвоем в своей квартире, как в былые времена, и на секунду Гиле показалось, что никакой женщины не было и что весь этот последний период ее жизни – это просто дурной сон, а сейчас она помогает своему больному мужу пройтись по комнате, и что все это естественно, и как могло быть иначе, но ему стало хуже, и он попросил проводить его до кровати – Гиля помогла ему улечься, на лбу его выступил холодный пот, дыхание остановилось, и Гиля сама закрыла ему глаза в их собственной квартире, на ее кровати, в отсутствие этой женщины, которая непонятно по какому праву жила здесь и пользовалась услугами Гили, не прогонявшей ее, чтобы не огорчить Мозю, – в общем, он умер на ее руках, как положено умереть законному мужу, и это давало ей некоторое утешение во все последующие годы ее вдовства, так что она даже любила рассказывать, как он умер на ее руках, – свет от старинной настольной лампы с зеленым абажуром – бывшей Мозиной лампы, постоянно стоявшей на его письменном столе, падал на страницы книги, которую я читал, – Гиля сама приносила мне эту лампу и ставила на край обеденного стола, но оттуда свет не достигал книги, и поэтому я переставлял лампу на стул возле изголовья дивана, подложив под нее стопку книг, – лампа стояла не слишком устойчиво, и я боялся, что она упадет на пол и зеленый абажур разобьется, хотя и был уверен, что Гиля ничего не сказала бы мне, – круг света, падавший на книгу, колебался – это на улице проносился трамвай и дом чуть-чуть дрожал и трясся, хотя был очень старым и устойчивым, – в соседней комнате Гиля еле слышными глотками запивала снотворное, а затем гасила свет над своей кроватью, – «Ты все еще увлекаешься Достоевским?» – спрашивала она меня и, не дождавшись ответа, тут же добавляла: «Не говори только об этом у Бродских», – Бродский был бывшим ее шефом, и хотя она давно уже не работала, но все еще продолжала поддерживать дружеские отношения с ним и со всей его семьей, в особенности же с его женой, Дорой Абрамовной, сухощавой энергичной женщиной, командовавшей не только всей многочисленной семьей, но даже организационно-научными делами сектора, который возглавлял Бродский, – Бродские отмечали все еврейские праздники, не ели трефного и много лет уже собирались уезжать в Израиль, но сыновья Бродского работали на какой-то секретной работе, а сам он как академик боялся излишнего шума, который мог подняться вокруг его имени, – в этот вечер, лежа на продавленном коротком диване, слушая убаюкивающий скрежет ночных трамваев, заворачивающих на углу возле Гилиного дома и затем вихрем уносившихся по ночной заснеженной улице, мотаясь из стороны в сторону, как это всегда бывает с пустыми быстро идущими вагонами, куда-то вдаль, где в морозной ночной мгле сходились цепочки фонарей, я листал в слегка колеблющемся круге света, падавшем от лампочки под зеленым абажуром, предпоследний том Достоевского, в котором был опубликован «Дневник писателя» за семьдесят седьмой или семьдесят восьмой год, – наконец-то я натолкнулся на статью, специально посвященную евреям, – она так и называлась: «Еврейский вопрос», – я даже не удивился, обнаружив ее, потому что должен же он был в каком-то одном месте сосредоточить всех жидов, жидков, жиденят и жиденышей, которыми он так щедро пересыпал страницы своих романов – то в виде фиглярствующего и визжащего от страха Лямшина из «Бесов», то в виде заносчивого и в то же время, трусливого Исая Фомича из «Записок из Мертвого дома», не брезгавшего одалживать под большие проценты своим же, из каторжников, то в виде пожарного из «Преступления и наказания» с «вековечной брюзгливой скорбью, которая так кисло отпечаталась на всех без исключения лицах еврейского племени», и с его вызывающим смех произношением, которое воспроизводится в романе с каким-то особым, изощренным удовольствием, то в виде жида, распявшего христианского ребенка, у которого он затем отрезал пальцы, и наслаждающегося муками этого дитяти (рассказ Лизы Хохлаковой из «Братьев Карамазовых»), – чаще же всего в виде безымянных ростовщиков, торгашей или мелких жуликов, которые даже не выводятся, а просто именуются жидками, а еще чаще в виде имен нарицательных, подразумевающих самые низкие и подлые черты человеческого характера, – ничего удивительного не было в том, что автор этих романов где-то в конце концов высказался на эту тему, представив наконец свою теорию, – однако никакой особой теории не было – были довольно избитые антисемитские доводы и мифы (не устаревшие, между прочим, и по сей день): о переправке евреями золота и бриллиантов в Палестину, о мировом еврействе, которое опутало своими жадными щупальцами чуть ли не весь мир, о нещадной эксплуатации и спаивании евреями русских людей, что делает невозможным предоставление евреям равных прав, иначе они совсем заедят русского человека, и т.д. – я читал с бьющимся сердцем, надеясь найти хоть какой-нибудь просвет в этих рассуждениях, которые можно было услышать от любого черносотенца, хоть какой-нибудь поворот в иную сторону, хоть какую-нибудь попытку посмотреть на всю проблему новым взглядом, – евреям разрешалось только исповедывать свою религию и более ничего, и мне казалось до неправдоподобия странным, что человек, столь чувствительный в своих романах к страданиям людей, этот ревностный защитник униженных и оскорбленных, горячо и даже почти исступленно проповедующий право на существование каждой земной твари и поющий восторженный гимн каждому листочку и каждой травинке, – что человек этот не нашел ни одного слова в защиту или в оправдание людей, гонимых в течение нескольких тысяч лет, – неужели он был столь слеп? или, может быть, ослеплен ненавистью? – евреев он даже не называл народом, а именовал племенем, словно это были какие-то дикари с Полинезийских островов, – и к этому «племени» принадлежал я и мои многочисленные знакомые или друзья, с которыми мы обсуждали тонкие проблемы русской литературы, и к этому же «племени» относились Леонид Гроссман, и Долинин (он же Искоз), и Зильберштейн, и Розенблюм, и Кирпотин, и Коган, и Фридлендер, и Брегова, и Борщевский, и Гозенпуд, и Милькина, и Гус, и Зунделович, и Шкловский, и Белкин, и Бергман, и Соркина Двося Львовна, и множество других евреев-литературоведов, ставших почти монополистами в изучении творческого наследия Достоевского, – было что-то противоестественное и даже на первый взгляд загадочное в том страстном и почти благоговейном рвении, с которым они терзали и до сих пор терзают дневники, записи, черновики, письма и даже самые мелкие фактики, относящиеся к человеку, презиравшему и ненавидевшему народ, к которому они принадлежали – нечто, напоминающее акт каннибализма, совершаемый в отношении вождя враждебного племени, – возможно, однако, что в этом особом тяготении евреев к Достоевскому можно усмотреть и нечто другое: желание спрятаться за его спиной, как за охранной грамотой – нечто вроде принятия христианства или намалевания креста на двери еврейской квартиры во время погрома,– впрочем, не исключена здесь и просто активность евреев, которая особенно велика в вопросах, касающихся русской культуры и сохранения русского национального духа, что, впрочем, вполне увязывается с предыдущим предположением, – за окном уже не слышно было трамваев, свет я давно погасил, осторожно поставив Мозину лампу на обеденный стол – в соседней комнате деликатно похрапывала Гиля – десять дыханий и один маленький всхрапик – чуть-чуть, даже как будто она не храпела, а всхлипывала во сне, ноги мои чуть свисали с дивана, а за окном лежала непроглядная зимняя петербургская ночь, и, хотя было очень поздно, до рассвета оставалась еще целая вечность – можно было спокойно лежать и не думать о том, что обязательно надо заснуть, потому что скоро рассвет, – одинокая фигура в узких клетчатых брюках, в черном цилиндре и в черном берлинском сюртуке, с карманами, оттопыренными от бутербродов, и с развевающимися фалдами бежала по заснеженной платформе какой-то железнодорожной станции, промежуточной между Баденом и Базелем, подпрыгивая, приседая, выделывая какие-то нелепые «па» и выкрикивая что-то насчет одного недоданного франка, но поезд давно уже ушел и наступила ночь, а человек все бежал и бежал, подпрыгивая и приседая, ярко высвечиваемый прожектором, который неотступно следовал за ним, словно все это происходило на театральной сцене, и в снопе яркого света медленно кружили и падали снежинки, покрывая его лицо и бороду белой пеленой, – платформа кончилась, и он бежал теперь по канату, натянутому под куполом цирка, и белая пелена, покрывавшая его лицо, была маской Арлекина, из-под которой клочьями торчала его седая борода, – сняв с головы цилиндр, он подбрасывал его вверх и ловил на лету, приседая и выделывая невозможные «па», а снизу из первого ряда за выплясывающей по канату фигурой, освещаемой прожектором, неотступно следил человек с крупной головой, львиной гривой и холеной бородой, приставив к глазам холодно поблескивающий лорнет, выплясывающий и жонглирующий своим черным цилиндром человек в маске Арлекина старался именно для того, сидевшего в первом ряду, – остановившись на канате, он поочередно задирал вверх то одну, то другую ногу, словно опереточная актриса, подбрасывая в этот момент свой цилиндр особенно высоко, под самый купол цирка, так что падение выплясывающего на канате казалось неизбежным, но лицо следившего за ним человека оставалось непроницаемым, и только на дне глаз его за холодными стеклами лорнета иногда вспыхивали задорные искорки, обозначавшие поощрение, но только когда выплясывающий сорвался с каната и полетел вниз, выделывая в воздухе отчаянные пируэты, лицо человек с крупной головой и львиной гривой озарилось улыбкой – очаровательной, барской, хотя и несколько высокомерной, – сняв лорнет, он смеялся и поощрительно аплодировал, – упавший с каната снова бежал по заснеженной платформе, но это была уже не промежуточная станция между Баденом и Базелем, а Тверь, лежавшая между Москвой и Петербургом, – с развевающимися фалдами бежавший по платформе жадно ловил каких-то проезжих сановников, вышедших из курьерского поезда, чтобы немного поразмяться и подышать воздухом, – он метался от одного сановника к другому, жадно ловил их руки и их взгляды, униженно просил о чем-то и кланялся – сановники исчезали в вагоне первого класса, и вот он уже снова бежал за поездом – платформа переходила в лестницу, которая вела в игорные залы, – он поднимался по ступенькам мраморной лестницы, устланной ковром, не торопясь, пренебрежительно глядя на всяких полячков и жидков, мельтешивших перед его глазами, – сам Ротшильд был ему нипочем, потому что через несколько минут он будет, может быть, богаче самого Ротшильда – этого жида-скряги, нажившего свои миллионы ростовщичеством, между тем как он добудет эти миллионы одним лишь счастливым стечением обстоятельств, которые он может предугадать, да ему ведь и не миллионы важны, а идея, – он небрежно проталкивался через толпу любопытных и играющих, этих жалких и жадных шутов, заносчиво глядя на их желтые, иссушенные нездоровой страстью лица, – с первой же ставки он выиграл полмиллиона, потом еще миллион, но кто-то больно дернул его за руку – человек с плоским, словно корыто, лицом и оттопыренными ушами нагло смотрел на него, и под взглядом его выпуклых водянистых глаз он неожиданно осел на пол, затем пополз на четвереньках к выходу, покатился по лестнице, ударяясь о ступеньки, не чувствуя боли, потеряв свой цилиндр, – он подошел к большому зеркалу, висевшему в вестибюле вокзала, чтобы привести себя в порядок, но вместо себя увидел в зеркале фигуру Исая Фомича, раздетого, щуплого, с цыплячьей грудью, – он отшатнулся – отшатнулся от него и Исай Фомич, – тогда он стал бросать в Исая Фомича бутерброды, которыми он набил свои карманы на той станции, где он пронзительно закричал о недоданном франке голосом ограбленного ростовщика, заглушая свисток паровоза, но чем больше забрасывал он бутербродами Исая Фомича, тем отчетливее и живее выступала его тщедушная фигура, – когда я проснулся, было еще темно, из двери, ведущей в коридор, приятно потягивало папиросным дымком – это Анна Дмитриевна, встававшая обычно в шесть утра, курила в своей комнате первую «беломорину», затем осторожно хлопнула входная дверь, – наверное, это Лера уходила на дежурство или возвращалась после ночи, в доме напротив почти во всех окнах светились огни и за занавесками мелькали тени встающих и спешащих на работу людей, в кухнях суетились хозяйки, а внизу как-то по-особому, по-утреннему скрежетали на повороте трамваи, а затем с постепенно затихающим грохотом проносились мимо дома, уносясь куда-то в беспредельную прямоту темных улиц со сходящимися где-то вдалеке цепочками фонарей, – дом вздрагивал и колебался, словно пароход, стоящий возле причала, в соседней комнате деликатно всхрапывала Гиля, – когда я снова проснулся, было уже светло, только как-то серо, и за окном медленно кружились снежинки – в коридоре слышались осторожные шаги и даже голос Гили, которая, по-видимому, давала какие-то хозяйственные указания Анне Дмитриевне, – дотянувшись рукой до стула, я посмотрел на часы – было половина одиннадцатого – позднее зимнее петербургское утро, – натянув на себя тренировочный костюм, я подошел к окну – внизу ползли покрытые снегом трамваи и автобусы – трамваи трехвагонные, автобусы тоже какие-то необычные, больше похожие на туристические или дальнего следования, по противоположному тротуару спешили прохожие, в основном – домохозяйки, закутавшись в платки, в старых потертых шубах и с сумками в руках, а в окнах дома, расположенного напротив, такого же старого и обветшалого, как дом, в котором жила Гиля, кое-где светились окна, потому что в разгар петербургской зимы настоящего дня так и не бывает – поздний рассвет незаметно переходит в ранние сумерки, – в комнату вошла Гиля в своем халате и в ночных туфлях без чулок – ноги у нее были белые, с полными икрами, и я подумал, что когда-то в молодости она, наверное, вполне могла устраивать Мозю, – «Как ты спал?.. Что будешь кушать?.. Может быть, хочешь принять душ?.. Когда ты встаешь в Москве?..» – она засыпала меня вопросами, на которые я не успевал отвечать, – впрочем, ответов моих она все равно не слушала – идя в ванную, я невольно заглянул в Лерину комнату через приоткрытую дверь и увидел постель с пышными подушками и перинами – вполне возможно, что Лера спала после ночного дежурства, утонув в этих перинах, – тренировочный костюм плотно облегал меня, и, умываясь над ванной, я медлил, надеясь встретить ее в коридоре, из кухни аппетитно пахло чем-то не то жареным, не то печеным и слышались голоса – не то Цили, не то Хаи Марковны, а может быть, их обеих и Анны Дмитриевны – кухня в Гилиной квартире была просторной даже для четырех хозяек и в дальнем углу ее находилась дверь, ведущая на черную лестницу и закрывавшаяся на ночь огромным крюком, похожим, наверное, на тот крюк, на который закрывалась дверь в квартире старухи-процентщицы из «Преступления и наказания», а потом мы с Гилей завтракали – стол был сервирован какой-то благородной посудой, хлеб был нарезан тонко, на тарелках лежали сыр, ветчина – Гиля суетилась, подставляя мне то одно, то другое блюдо, в комнату то и дело входила Анна Дмитриевна, с папироской во рту, сильно согнувшаяся за последние годы, неся в дрожащих руках то белую сковородку со специально взбитой для меня на сливках яичницей, то кофейник, – «Уж как ждала-то вас Гильда Яковлевна», – говорила она своим низким, прокуренным голосом и лукаво поглядывала на Гилю, суетившуюся вокруг стола, – «Сама на рынок пошла за телятиной, в такой-то мороз, мне не доверила», – голова ее тряслась, что придавало ей еще более укоряющий вид, – «Ах, бросьте, Анна Дмитриевна! Я всегда хожу на рынок. Ты будешь есть на обед жареную картошку или тушеную?» – «Конечно жареную», – говорил я, – «Я так и думала», – говорила Гиля тоном, полным особого значения, словно она разгадала мое заветное желание, которое я тщательно скрывал, – Анна Дмитриевна, тряся головой «Нет-нет» или «Да-да» со снисходительной улыбкой на лице, обозначавшей беззаветную преданность Гиле при сохранении своего особого мнения, которое ничем не могло быть поколеблено, захватив освободившуюся посуду, по-прежнему с папироской во рту, не торопясь уходила из комнаты – после завтрака, усевшись на бывший Мозин диван, мы с Гилей долго беседовали: Гиля расспрашивала меня о моей работе, об общих знакомых, рассказывала о своем бывшем шефе, об отношениях между его племянницей и ее племянником, который после развода с ней обзавелся новой семьей, и хотя она, Гиля, ничего против его новой жены не имеет, но она к ним туда ногой не ступит и не примет у себя, тем более что эта женщина была близкой приятельницей первой его жены, то есть племянницы Гилиного шефа, и не выходила буквально из их дома, и сама вешалась ему на шею, а Роня (так звали первую жену племянника Гили) ничего не замечала, и просто удивительно, как это она ничего не замечала, когда все, буквально все видели, что эта женщина сама вешалась ему на шею, – в когда-то карих, а теперь выцветших добрых Гилиных глазах неожиданно вспыхивали злые искорки, голос ее крепчал, менялись его интонация и лексика – она говорила: «Он имел», «Она имела», – еще немного, и, казалось, Гиля взметнется и заговорит или даже, скорее, закричит на идише, на котором когда-то говорили ее родители из-под Киева, откуда она сама была родом, но интереснее всего она рассказывала о Ленинградской блокаде, о том, как они ели кошек и собак, и как она променяла два прекрасных Мозиных отреза на буханку хлеба, и как Мозя, уже почти не встававший от слабости, прямо на глазах обрел силы, когда она накормила его этим хлебом и еще двумя котлетами из конины, которые ей удалось получить в специальном распределителе для ученых после того, как она целые сутки простояла в очереди, и как по Невскому проспекту и по Кировскому мосту, по которым она ежедневно проходила два раза, потому что институт, где она работала, находился на Петроградской стороне, везли на салазках обледеневшие трупы, и как прямо на глазах падали люди, тут же замерзая, и трупы их потом подбирали, или не подбирали и, примерзнув к тротуару или мостовой, они оставались лежать до самой весны, – впрочем, самые задушевные беседы происходили у нас обычно по вечерам, уже после ужина, когда за окном чуть немного смеркалось, как перед дождем, но темноты так и не наступало, потому что стояли белые ночи, и ненужные фонари горели на улице до самого утра, всю ночь, о наступлении которой можно было узнать лишь потому, что на улице затихали трамваи, однако, особенно уютными беседы эти казались в долгие зимние вечера, когда рассвета не предвиделось, а за окном мела метель, делая почти невидимыми уличные фонари, и где-то внизу, на повороте, глухо скрежетали трамваи, и под потолком покачивался шелковый абажур, на который едва падал свет от Гилиной настольной лампы, стоявшей на ее небольшом письменном столе – старинном дамском столике с почерневшими от времени инкрустациями, – я полулежал на Мозином диване, а Гиля сидела рядом и рассказывала – подробно и гладко – у нее была отличная память на прошлое – о том, как в свое еще время посадили ее первого шефа, известного химика, и как он был сослан в спецлагерь, где работали нужные стране ученые, и как потом, уже незадолго до войны, ему помог освободиться из лагеря Ромен Роллан, хлопотавший за него чуть ли не у самого Сталина, и как потом этого шефа, известного химика, через несколько месяцев посадили повторно, и он бесследно исчез, а потом она переходила к рассказу о Мозиной посадке, о том, как его допрашивал следователь с очень звучной еврейской фамилией, прославившийся своей жестокостью даже за пределами Ленинграда, и о том, как Мозя вернулся домой поздно вечером и как она оторопела, увидев его, и вместе с ней ее приятельница Эльза, жившая с ней весь этот тяжелый период времени, пока Мозя сидел, – сейчас тоже были сумерки – короткий зимний день заканчивался, потом мы обедали, и в комнату снова входила Анна Дмитриевна с папироской во рту, принося и унося в дрожащих руках супницу, сковородки, тарелки, и Гиля суетилась, помогая ей, так что она даже почти и не обедала, но помощь ее оказывалась ненужной, – «Гильда Яковлевна, ну зачем же вы отвлекаетесь от вашего гостя? – ведь вы так ждали его», – с добродушной иронией говорила Анна Дмитриевна, укоризненно покачивая головой и, в то же время, бросая преданный взгляд на Гилю, а к концу обеда в комнату вплыла не то Хая, не то Циля Марковна, торжественно неся на блюде какой-то необыкновенный пирог с необыкновенной начинкой, и, поставив его на белую мраморную доску старинного буфета, в смущении ретировалась, – а вечером, когда утомившаяся от хозяйственных волнений Гиля прилегла на бывший Мозин диванчик, я сказал ей, что хочу пройтись немного, – «Что ты будешь есть на ужин?» – встрепенулась она, но уже через несколько минут раздалось ее деликатное сопение с небольшими такими же деликатными всхрапиками. На улице было морозно, под ногами скрипел снег, возле светофоров выстроились очереди из трамваев, фигуры людей, освещаемые фонарями и снегом, толпились на трамвайных и автобусных остановках, двигались по тротуарам, мужчины небольшими кучками стояли возле углового продовольственного магазина, соображая на троих, а чуть подальше, немного отойдя от магазина, уже можно было видеть фигуры людей с бледными испитыми лицами – прислонившись к стенам домов, оставляя на своих спинах следы известки, они медленно и неотвратимо сползали на тротуар, лежа там до тех пор, пока их не подбирали спецмашины с красным крестом, – я шел по направлению к Невскому проспекту, который уже издалека светился, как река во время карнавала, – в общем-то он и был рекой – Невский проспект, вливающийся где-то вдалеке в Неву, – он был притоком ее, прямым и широким, разделяющим весь Невский район города на две части: одну, некогда аристократическую с ее бывшими Сергиевской, Надеждинской, Бассейной, Кирочной и Воскресенским проспектом – с безупречными по своей прямоте и строгости зданиями, с ее площадью Искусств, кажущейся ненатуральной вследствие непостижимых уму пропорций обрамляющих ее ансамблей, с ее Марсовым полем, овеянным каким-то духом скорби и торжественности, и примыкающим к нему Инженерным замком с его остроконечными башнями и недоступными внутренними дворами и пристройками, хранящими какую-то страшную тайну, с ее набережными Фонтанки и Мойки, чуть изгибающимися и застроенными домами, большинство которых отмечено мемориальными досками, с ее Спасом-на-крови, красно-золотистый купол которого открывается вдруг с каких-то самых неожиданных мест, с ее бывшей Миллионной улицей, обстроенной многоэтажными барскими особняками с лепными карнизами и зеркальными окнами, этой предтечей или предвестником Английской набережной, застроенной уже не особняками, а дворцами, глядящимися в пугающе широкую, словно пролив, чуть выпуклую Неву, и переходящей затем в Дворцовую набережную с Зимним дворцом – бывшим Российским сердцем, анатомированным и превращенным в музейный экспонат, – и другую часть, некогда демократическую, с улицами, не всегда подчиняющимися ранжиру прямолинейности и порой сбивающимися даже на переулки или тупики, пересекаемые узким, прихотливо петляющим Екатерининским каналом, – все эти бывшие Большие, Средние и Малые Мещанские или Столярный переулок, обстроенные четырех– и пятиэтажными доходными домами, – целый лабиринт улиц, неожиданно упирающихся в ограду Екатеринин– ского канала, лабиринт, усугубляемый моим волнением, как бы не перепутать улицу или номер дома, которые должны были попасть в объектив моего фотоаппарата, когда, подгоняемый нехваткой времени, изменчивостью Ленинградской погоды или угрозой быть остановленным за съемку непарадных объектов, я бродил по этим местам, фотографируя «дом Раскольникова» или «дом старухи процентщицы» или «дом Сонечки» или дома, в которых жил их автор, потому что именно здесь-то он и жил в самый темный и подпольный период своей жизни, в первые годы после возвращения из ссылки (именно сюда, в угловой дом на Екатерининском канале приходила к нему с низко опущенной вуалью женщина, с которой он затем путешествовал в одной каюте, не смея к ней прикоснуться) до появления Анны Григорьевны, которая пришла к нему в один из домов, расположенных в этом путанном лабиринте улиц, пересекающихся каналом, опередив свою соперницу по курсам, – взобравшись по узкой мрачной лестнице на второй этаж, она уселась со скромно потупленным взглядом за круглый столик в его кабинете и принялась строчить под его диктовку «Игрока», чувствуя на себе его взгляды, слушая его шаги, его кружение вокруг нее, с замиранием сердца ощущая его приближение, пока он сладко не ужалил ее, – когда я вышел на Невский, он являл собой вид зимнего карнавала на реке: вдоль всего Невского в морозном тумане скользили сотни красных, зеленых и оранжевых огней, многократно отражаясь на его ледовой, серебристой поверхности, а по обе стороны проспекта на его широких берегах-тротуарах двигались толпы людей, подсвечиваемые пылающими витринами, то и дело окутываемые клубами морозного пара, которые вырывались из распахиваемых дверей магазинов и ресторанов, а над всем этим пылали и плясали разноцветные рекламы, тоже иногда окутываемые морозным паром, клубы которого достигали их, – по мановению светофоров скользящие по замерзшему проспекту огни на мгновение останавливались, и тогда толпы, двигавшиеся по тротуарам, переливались по мостам-переходам на противоположную сторону, – оказавшись на той стороне, я вошел в какую-то боковую улицу, которая после разгула огней на Невском показалась мне темной и тихой – только две цепочки фонарей уходили куда-то вдаль, теряясь в черноте, – я посмотрел на табличку, висевшую на одном из домов, – оказывается, я шел по улице Марата, бывшей Николаевской, – где-то здесь, неподалеку от Невского, может быть, как раз именно там, где я сейчас проходил, его нагнал какой-то подвыпивший простолюдин в тулупе и ударил кулаком по шее – это было почти за два года до его смерти, и он возвращался домой после своей обычной предвечерней прогулки – он упал, шапка его покатилась по заснеженной мостовой, потому что был конец марта, на улицах еще лежал снег, вокруг него собралась толпа, ему помогли подняться, на лице его была кровь, а подоспевший городовой вместе с несколькими свидетелями отвел подвыпившего в участок, – через несколько дней состоялся суд над обидчиком, который был приговорен к штрафу в размере шестнадцати рублей, – присутствовавший на разбирательстве пострадавший просил суд снизойти к обидчику и простить его – он подождал обидчика возле двери и, когда тот выходил, сунул ему шестнадцать рублей – в этот период времени он особенно много писал о славянском вопросе, напирая на богоносное значение русского народа, призванного освободить Европу, – в основе этого богоносного предназначения лежал, по его мнению, особый, неповторимый склад русского национального ума и характера, что, между прочим, доказывалось употреблением нецензурных слов, которые, произносимые на разный лад и с разными оттенками, служили простолюдинам вовсе не для оскорбления или брани, а для выражения тонкого, глубокого и даже целомудренного чувства, заложенного в душе каждого истинно русского, – вдоль тротуара, по которому я шел, были наметены сугробы, скрип шагов одиноких прохожих изредка нарушался шумом проезжавших машин, поднимавших за собой поземку, – улица кончилась, но я шел наугад, ведомый каким-то внутренним чутьем, – сначала налево, потом направо и снова прямо по таким же тихим заснеженным улицам, обстроенным одинаковыми четырех– и пятиэтажными доходными домами с тускло светящимися окнами и с глубокими, словно колодец, черными подворотнями, – главное заключалось в том, чтобы в конечном счете идти параллельно Лиговке, не сбиваясь с этого направления, – неожиданно я почти уперся в темное приземистое двухэтажное здание с запертыми воротами, а справа от меня возвышалась смутно белевшая громада собора с куполами, тонувшими в черном небе, – передо мною был Кузнечный рынок, а справа и сзади – Владимирская церковь, – я вышел совершенно точно к нужному месту, и сердце мое даже провалилось от радости и еще от какого-то другого, смутного чувства – слева от Кузнечного рынка, как раз через улицу, виднелся четырехэтажный с полуподвалом, так что его можно было считать и пятиэтажным, серый угловой дом, в темноте казавшийся черным, – угол дома, однако, был не острым, а срезанным, как и во многих петербургских угловых домах, и на этой срезанной угловой грани в один ряд друг над другом помещались окна и балконы, а в низу ее находилась дверь, к которой нужно было спускаться по ступенькам и которая вела в расположенный в полуподвале вестибюль с гардеробом и с сидевшей за столиком возле другой двери, ведущей на лестницу, женщиной – она продавала билеты, и билеты эти вы оставляли у себя или себе на память, потому что их никто не проверял, – кроме того, она предлагала вам скромный проспект музея, на котором унылым типографским клише воспроизводились портрет писателя и обстановка его кабинета, сопровождаемые несколькими фразами и цитатой из Салтыкова-Щедрина, или прямоугольный металлический значок, на котором было выгравировано его лицо с выступающими лобными буграми, – прямо с лестницы был вход в большой зрительный зал, в котором читались лекции, показывались кинофильмы или выступали актеры с чтением его произведений, на втором же и третьем этажах в целой анфиладе комнат с безукоризненно натертым паркетным полом, издающим слабый запах воска, словно в церкви, размещалась литературно-мемориальная экспозиция – на столиках под стеклом, на стенах, на стендах, неподвижных или вращающихся, были разложены и развешаны фотокопии его писем, первые издания его произведений, портреты и фотографии его, членов его семьи и его современников, вырезки из газет о петербургских событиях того времени, представленные в виде больших фотокопий виды Петербурга и Омской крепости, а также Флоренции, Рима и Женевы – мест его заграничных путешествий, иллюстрации к его роману, фотографии сцен из его произведений, игравшихся в театрах, и множество еще других документов, – почти церковная тишина стояла в помещениях музея, нарушаемая лишь благоговейным шепотом двух-трех парочек, забредших сюда, или шелестом листков записной книжки, в которую усердно заносил что-то одинокий юноша с прыщами на лице, да еще сухим потрескиванием ламп дневного света, которые предупредительно включали пожилые женщины-смотрительницы, когда кто-нибудь из посетителей оказывался в том месте, которое требовало освещения, на минуту оторвавшись от своего вязанья, – впрочем, иногда тишина музея нарушалась неожиданно громким голосом, уверенно объяснявшим что-то, – это приближалась группа школьников с экскурсоводом – группа строго следовала предназначенной схеме осмотра, указка экскурсовода то быстро скользила по экспонатам, представляющим второстепенный интерес, то подолгу задерживалась на предметах, имеющих с точки зрения экскурсовода серьезное познавательное значение, – школьники, стоявшие подальше от экскурсовода, дергали друг друга за рукав, оглядывались по сторонам и хихикали, – экскурсоводы спускались обычно с третьего этажа, где помещались научная часть и дирекция, – директриса, молодая еще женщина, с звучным татарским именем и фамилией известного генерала, чьей женой она была, красивая, с кругловатым лицом и удлиненными блестящими черными глазами, была постоянно занята в своем кабинете с какими-то представителями бюрократических ведомств, иногда ошеломляя их каким-нибудь метафизическим вопросом, который она задавала им, или неожиданно вдруг заговаривая с ними о состоянии своего здоровья, а рядом, в научной части, сотрудники музея, молодые люди и женщины с интеллигентными лицами, невольно внушающими мысль об их еврейском происхождении, оживленно делились последними литературными сплетнями или названивали кому-то по телефону, а потом один из звонивших под дружный хохот остальных рассказывал, как один известный актер (кстати, тоже с еврейской фамилией), подвизавшийся на чтении рассказов Достоевского и часто выступавший в зрительном зале музея, лежал полдня в ванне, в то время как его жена отвечала, что его нет дома, – кто-то из сотрудников посоветовал позвонить и спросить, не утонул ли он еще, – оттого все так дружно смеялись, а потом вдруг неожиданно входила директриса, и они рассказывали ей эту же историю, и по всему было видно, что ей хотелось смеяться вместе с ними, но она напускала на себя строгий вид и у кого-то что-то спрашивала по делу – ей отвечали, но как-то не всерьез и даже заводили с ней какой-то разговор на ее любимые метафизические темы, но так, полушутя, в виде каких-то отдельных замечаний или фраз, которые хорошо были известны всем как ее конек, и она с напускной строгостью отмахивалась от них, но в конце концов не выдерживала и смеялась вместе с ними, и тут же на третьем этаже, если полуподвал считать за этаж, помещалась его квартира – в прихожей на специальной подставке стоял зонт с большой загнутой на конце деревянной ручкой и слегка выцветшим черным брезентом – предполагалось, что с этим зонтом он выходил на прогулку, а на вешалке висела какая-то очень старая шляпа с большими полями – неужели его? – в первой комнате, кажется гостиной, стояли какие-то старинные шкафы с книгами и два или три небольших дамских столика с потемневшей инкрустацией и низенькой оградой – что-то вроде Гилиного столика, – на одном из них лежал листок бумажки, вырванный из тетради, с несколькими фразами, написанными неуклюжим детским почерком, и с подписью «Люба», на стенах висели семейные фотографии Анны Григорьевны – одной и с детьми – Любой и сыном Федей, – на одной из фотографий, сделанных вскоре после смерти отца, одиннадцатилетняя Люба выглядит взрослой, вполне сформировавшейся девушкой, что особенно подчеркивается ее распущенными волосами и длинным платьем, прикрывающим ее сапоги, – через несколько лет после смерти отца она разошлась с матерью и поселилась отдельно, устроив у себя что-то вроде салона, где она вела весьма своевольный образ жизни, так что Анна Григорьевна, увидев однажды, как выносили из церкви девичий гробик, воскликнула даже: «Ах, зачем это не мою дочь выносят!» – а еще через несколько лет Любовь Федоровна уехала за границу, где уже совсем погрузилась в богему, чему отчасти способствовала ее глубокая душевная неуравновешенность, даже, может быть, психический недуг, – все же в промежутках между своими очередными приступами меланхолии ей удалось написать воспоминания об отце, к которым достоеведы относятся не слишком серьезно, считая многие представленные ею факты неубедительными, а рассуждения – легковесными и необъективными, – в частности, ее попытка причислить Достоевского к норманнам рассматривается просто как какая-то маниакальная навязчивость – особенно старается в этом направлении Горнфельд, написавший предисловие к книге Любови Федоровны: малейшее сомнение в принадлежности Достоевского к русской нации Горнфельд воспринимает как величайшее святотатство, почти как личное оскорбление, – сын же, Федя, смахивал на этой фотографии на старательного, но туповатого гимназистика, с какой-то вырожденческой формой черепа, являвшего собой как бы злую карикатуру на череп своего отца, – потом шла еще какая-то комната, возможно, принадлежавшая Анне Григорьевне, – тоже с фотографиями, даже с какими-то картинами на стенах и небольшим рабочим столиком, дальше – еще какая-то комната, проходная, малозаметная, и, наконец, его кабинет с письменным столом, на котором лежали книги и рукописи, а также папиросные гильзы и коробка из-под табака, и стояли две оплывшие свечи, чернильный прибор и календарь, раскрытый на дате его смерти, а рядом с письменным столом стояла этажерка с книгами, которая, согласно версии Анны Григорьевны, изложенной ею в «Воспоминаниях», сыграла роковую роль в открывшемся у него легочном кровотечении, когда он ночью сдвинул ее, чтобы достать закатившуюся за нее вставку с пером*, – кровотечение это, быстро прекратившееся, возникло, однако, с новой силой на следующий день после того, как, по рассказам Анны Григорьевны, Федора Михайловича сильно раздражил один из его частых посетителей, человек очень хороший, но отчаянный спорщик, – в своих «Воспоминаниях» Анна Григорьевна обходит, однако, молчанием визит в этот день Фединой любимой сестры, Веры Михайловны, приехавшей из Москвы специально по делу о наследстве, – это была та самая сестра, которая жила когда-то на Старой Басманной в Межевом институте и семью которой они с Федей посетили на Масленице вскоре после их женитьбы, когда они приехали в Москву, остановившись в номере гостиницы Дюссо, откуда открывался вид на заснеженные купола московских церквей и запорошенную снегом улицу с мчащимися по ней санями и экипажами, запряженными тройками лошадей, – взяв одну из таких троек, закрывшись меховым пологом, они поехали через всю Москву, останавливаясь возле церквей, которые Федя, хорошо знавший Москву, показывал ей с видом хозяина дома, – выйдя из саней, он кланялся и, снимая шапку, крестился на церковь, и она крестилась и кланялась вслед за ним, а потом в гостиной у Веры Михайловны она стоически выдерживала недружелюбные взгляды хозяйки и всей ее родни, которые прочили Феде в жены какую-то родственницу, – она встречала эти взгляды и насмешки в упор, глядя исподлобья, с подчеркнуто равнодушным видом разглаживая тесемки на своей юбке, – но пальцы ее дрожали против ее воли и мяли материю, – она чувствовала, что спасительная мачта, за которую она ухватилась, чтобы ее не смыло в море, готова ускользнуть из ее рук, – она выдержала все эти взгляды и язвительные намеки и еще крепче прижалась к мачте, но никогда не могла забыть этой первой встречи с его московской родней, которая была вполне под стать его петербургским родственникам – этому Паше с его наглой ухмылочкой и Эмилии Федоровне, жене тогда уже покойного его брата Михаила, с ее маленькими колющими угольными глазками, – оба они с самого начала неприязненно отнеслись к Анне Григорьевне, рассматривая ее как некую помеху, считая, что Федя обязан всю жизнь помогать им, хотя у Эмилии Федоровны были взрослые дети, которые вполне могли содержать ее, а Паша был просто лентяем, не желавшим работать и только компрометировавшим Федю, которому каждый раз приходилось краснеть за своего пасынка, когда он пристраивал его в какую-нибудь должность – и Федя помогал ему – сначала еще до отъезда за границу, когда Паша и Эмилия Федоровна буквально физически не отпускали их, загораживая им выход из комнаты и требуя денег, заставив Федю снести в заклад свое единственное пальто, и только благодаря ее ангелу-маменьке, давшей деньги его пасынку и невестке и снабдившей деньгами ее и Федю, им удалось вырваться тогда из Петербурга и сохранить семью, затем – после их возвращения из-за границы, когда все их имущество описали за долги его покойного брата по табачной фабрике, – Федя уплатил тогда десять тысяч по векселям, часть которых оказалась подложными, вследствие чего с позором прогорело его издательское дело, тоже начатое совместно с братом, и сам Федя чуть было не угодил в долговую тюрьму – тут, правда, сама она уже взяла дело в свои руки и стала расправляться с этими кредиторами-пиявками, – впрочем, и тут не обошлось без финансовой помощи ее маменьки, – кроме Эмилии Федоровны и Паши каждый месяц приходилось платить по пятидесяти рублей Фединому брату Николаю, больному и спившемуся, – впрочем, Федя вообще никому не отказывал в деньгах – он подавал каждому нищему, иногда одному и тому же по несколько раз в день, так что однажды в Старой Руссе Анна Григорьевна, обвязав платком себя и детей, встала с ними на пути, где обычно проходил Федя, – «Милый барин, – сказала она, когда Федя поравнялся с ними, – у меня больной муж и двое детей», – и Федя тотчас подал своей жене милостыню – она весело расхохоталась, а он пришел в бешенство, усмотрев в этом нечто кощунственное, – «Это то же, – выкрикивал он, когда они все вместе пошли по направлению к дому, – то же, что положить нищему в протянутую руку камень, только здесь наоборот, но дело не в этом, это глумление над лучшими человеческими чувствами, понимаешь ты?» – так что на них даже уже оглядывались, но Анна Григорьевна нисколько не чувствовала себя виноватой, потому что в последние годы Федя просто расточительствовал со своими подаяниями, почти навязываясь, так что над ним посмеивались сами же пользующиеся его подаянием, – было в этом что-то неестественное, надрывное, словно он замаливал какие-то свои прежние грехи или пытался заглушить в себе какое-то противоположное чувство, может быть, даже инстинкт, – оборачивалось же все это каким-то юродством, – главное же, он раздавал направо и налево, нисколько не заботясь о том, что Анне Григорьевне еле хватало на содержание дома, и оставались еще невыплаченными долги, и Анне Григорьевне, открывшей книжную торговлю, приходилось до поздней ночи клеить и надписывать конверты для рассылки заказчикам и сверять счета, и одновременно вести хозяйство, и у них были дети, которым нужно было что-то оставить после себя, – единственным проблеском во всем этом, как бы светлым пятном, маячившим в конце длинного темного коридора, было наследство его московской тетки Куманиной, по которому Феде в числе остальной родни полагалась часть Рязанского имения в пятьсот десятин с прекрасным строевым лесом, и хотя Федю как будто мало заботило это, Анна Григорьевна объяснила ему, что это единственное надежное обеспечение их будущего и, главное, будущего их детей, и он неожиданно для себя вдруг сам понял, что так оно и есть, и даже иногда видел себя почти помещиком, показывающим свое родовое имение друзьям и знакомым, или даже воображал себя каким-нибудь земским или хозяйственным деятелем, хотя сами по себе такие мысли были суетными, и он старался подавить в себе этот соблазн, – в это-то время как раз и стало известно, что его любимая сестра Вера Михайловна, проживавшая в Москве, собралась с особой миссией в Петербург: просить Федю отказаться от своей доли в наследстве тетки Куманиной в пользу сестер, и когда Анна Григорьевна услышала это, светлое пятно, маячившее где-то в конце длинного темного коридора, померкло, а когда Федя стал говорить что-то про своих милых сестер, в особенности же про Веру Михайловну, к которой он с детства питал самую нежную любовь, она побледнела и, посмотрев на него чужим, холодным взглядом исподлобья, в упор, сказала, отчеканивая каждое слово: «Благодетель человечества нашелся! Вечно танцуешь под дудку своей родни!» – он тоже побледнел и несколько дней после этого был сдержан с Анной Григорьевной, почти даже не разговаривал с ней, и когда Вера Михайловна, прибывшая в Петербург, явилась к ним на обед в сумерки зимнего петербургского дня, он подчеркнуто обращался только к ней, как будто Анны Григорьевны вовсе и не существовало, старательно расспрашивал о московской родне, об общих знакомых, но Вера Михайловна была рассеянна, отвечала односложно, и когда подали суп, она сразу же перешла к делу, объясняя брату, что ему же это будет выгодно, потому что, отказавшись от своей доли в имении, он получит эту долю деньгами, а в Рязанскую губернию ему при его загруженности будет не так-то просто ездить, да и дорога будет отнимать много средств и времени, – он сидел, ничего не отвечая, потупившись, катая хлебный мякиш, почти не притронувшись к супу, чувствуя на себе выжидательный взгляд Анны Григорьевны, а когда подали второе, Вера Михайловна вдруг отложила вилку и нож и, вынув батистовый платочек, стала усиленно сморкаться, а потом расплакалась и, плача, прикладывая платок к глазам, стала говорить, что, если он не согласится, то это будет с его стороны бесчеловечно по отношению к сестрам, – не глядя на Анну Григорьевну, он чувствовал на себе ее испытующий взгляд, и этот взгляд казался ему тяжелым и насмешливым, – «Ради Бога, оставьте вы все меня в покое!» – закричал он, оттолкнув от себя тарелку с дымящимся вторым, – с заткнутой за воротник салфеткой он вскочил из-за стола и быстрыми шагами прошел к себе в кабинет – захлопнув дверь, он сел за свой стол, подперев голову руками, – сердце его стучало, молотом отдаваясь в ушах, – где-то там, в столовой или в гостиной, слышались приглушенные голоса, постепенно отдалявшиеся, – вероятно, это Анна Григорьевна провожала его сестру, – встреча с сестрой, семейный обед, к которому он так готовился, закупив любимые Верой Михайловной еще с детства сласти, – все было испорчено – так им и надо! – ему хотелось что-нибудь разбить, бросить, чтобы было еще хуже, – неожиданно на ладонях своих он почувствовал липкую влагу – в комнате было почти темно – трясущимися руками он зажег одну из двух свечей, стоявших на столе, и в ужасе вскочил со стула – обе руки его были в крови, словно он только что совершил убийство, – машинально он провел рукой по бороде, наверное, желая обтереть руку, но крови на ладони еще только прибавилось, – он схватил крахмальную салфетку, засунутую за воротник во время обеда, – она была мокрой и красной, словно сигнальный флаг стрелочника, – еще не веря, что это происходит именно с ним, но понимая, что случилось что-то непоправимое, он бросился к двери кабинета, широко распахнул ее и изо всей силы крикнул: «Аня!» – и хотя голос его прозвучал слабо, она услышала его в другом конце квартиры, в прихожей, где она только что, извинившись за все произошедшее, проводила Веру Михайловну, – она побежала через комнаты, не замечая детей, натыкаясь на мебель, потому что почувствовала, что случилось что-то страшное, – оставшиеся два дня жизни он почти не покидал свой диван, обитый черной кожей и отгороженный теперь ленточкой от остальной части кабинета, потому что диван этот, хоть и не был подлинником, но был взят в музей от кого-то из семьи Достоевских, под фотографией Сикстинской Мадонны, подаренной ему кем-то из друзей и повешенной в его кабинете Анной Григорьевной в день его рождения, – прибывший врач, постоянно лечивший его, осмотрел его и сказал, что непосредственной угрозы для жизни больного нет, но вскоре после его приезда у больного снова началось кровотечение, и на короткое время он даже потерял сознание – придя в себя, он попросил Анну Григорьевну, стоявшую возле него на коленях, пригласить священника, чтобы исповедаться и причаститься, – священник явился незамедлительно, потому что Владимирская церковь, тонувшая сейчас своими куполами в зимнем ночном небе, находилась рядом с домом, – всю ночь Анна Григорьевна провела в кабинете мужа, кое-как устроившись в креслах, почти не смыкая глаз, то и дело подходя к спящему, чтобы поправить одеяло или пощупать его лоб, – утром он сказал, что чувствует себя хорошо, так что приехавший врач выразил надежду, что через неделю больной уже будет на ногах, так что он даже пожалел, что слишком поспешил причаститься, – было ясное зимнее утро, но в чем-то уже неуловимо чувствовалась близость весны: то ли в голубом, даже по-летнему синем небе, кусочек которого проглядывался через окно кабинета, то ли в зазывных голосах торговцев и лотошников, устроившихся в переулке под окнами, то ли в особом, переливчатом звоне колокола Владимирской церкви, – потом он ел белый хлеб с икрой, пил молоко и клюквенный морс, который сготовила для него мать Анны Григорьевны, – сама же Анна Григорьевна на минуту сбегала в лавку и достала для него отборного винограда, который в это время года не всегда легко было купить, – взбегая по лестнице, она почему-то вдруг вспомнила, как он покупал для нее виноград в Бадене, в особенности же красный, который они ели в вагоне, уезжая оттуда, и еще почему-то вспомнила она, как он бежал через всю платформу с бутербродами, а поезд вот-вот должен был отойти, – она кормила его, держа тарелку на весу, постлав на грудь больного крахмальную салфетку, сидя на краешке дивана, и ей казалось, что каждая виноградина, съеденная им, вливает в него новые силы, возвращает его к жизни, и в течение дня приходило множество посетителей – из редакции, от цензора, по делам предстоящего пушкинского вечера, на котором он должен был читать, или просто интересовавшиеся его здоровьем – он даже продиктовал ей несколько деловых записок – несколько раз он даже раздражался, превращаясь в прежнего Федю, и она опрометью бросалась выполнять его капризы, а когда этот обманчивый день подошел к концу, и она уложила всех домашних пораньше спать и сходила на верхний этаж попросить господина не шагать по комнате, потому что Федю это вышагивание всегда раздражало, и занесла несколько стенографических записей в свой дневник, а затем постелила для себя на пол тюфяк рядом с диваном, на котором лежал больной, – когда она сделала все это, наступила ночь, его последняя ночь в этом доме и в этом мире, – несколько раз она просыпалась и, зажегши свечу, вглядывалась в его лицо – оно было бледно, но дышал он спокойно и ровно, и она, успокоившись, снова засыпала, а утром, когда она открыла глаза, он уже не спал и, повернув голову, смотрел на нее – было в его взгляде нечто такое, отчего сердце ее сжалось, – «Я сегодня умру, Аня», – тихо сказал он, все так же глядя на нее, – она подошла к нему и, взяв его руки в свои, стала уговаривать его, что все обойдется, что доктора считают, что это не опасно, но он, отстранив ее руки, все так же, шепотом, потому что громко говорить он не мог, попросил ее дать ему Евангелие, подаренное ему еще женами декабристов на каторге, с которым он никогда не расставался, с множеством его карандашных пометок на полях, – открыв его наугад, не заглядывая в него, он попросил ее прочесть вслух третий стих сверху, и она прочла: «Иисус же сказал ему в ответ: не удерживай, ибо так надлежит нам исполнить великую правду», – «Вот видишь, не удерживай, – сказал он, – значит, я умру», – он закрыл книгу, а Анна Григорьевна, став на колени возле него, снова взяла его руку в свою, и он, притянув ее руку к своим губам, поцеловал ее, а потом он заснул и дышал спокойно и ровно, а она стояла на коленях, боясь шелохнуться, чтобы не разбудить его, а когда он проснулся, было уже позднее утро, и он сам завел свои часы, затем попросил дать ему вымыть зубы и помочь одеться, и, когда он стал причесывать волосы, стараясь закрыть ими плешь, и Анна Григорьевна, опасаясь, что ему это стоит слишком больших усилий, взяла у него щетку и сама попыталась сделать это, он раздражился и стал громко говорить, даже почти кричать, зачем она это делает не в ту сторону, так что она, хоть и испугалась, что раздражение его и громкий разговор могут повредить ему, обрадовалась в то же время его раздражительности, которая давала ей надежду на выздоровление, поскольку была свойственна ему, но когда он с ее помощью был уже почти одет и стал натаскивать на себя носки, на губах его и на подбородке снова показалась кровь – она немедленно уложила его, стерев кровь с его губ и бороды полотенцем, – он лежал одетый, на своем диване, обитом черной кожей, и более не пытался подняться, – в течение всего дня посетители не переводились, но Анна Григорьевна старалась не пускать их в его комнату, приезжали и уезжали врачи, щупая пульс и выслушивая больного, а затем неопределенно пожимали плечами в ответ на вопросительные взгляды провожавшей их до прихожей Анны Григорьевны, – с самого утра было сумрачно, весь день на письменном столе его в кабинете горели две свечи, как будто он сидел и работал и только на минуту отлучился или прилег отдохнуть, – Анна Григорьевна почти не отходила от больного, стоя возле него на коленях и держа его руку в своей, – он почти уже не мог поднять головы, и где-то в середине этого дня, неотличимого от ночи, приехал Паша, и Анна Григорьевна слышала, как за дверью он завел с кем-то разговор о нотариусе, – и больной, видимо, тоже услышал его голос, потому что кивком головы он показал на замочную скважину, намекая на то, что Паша подсматривает, но все-таки он разрешил пустить его к себе, – Паша вошел неслышными шагами и, подойдя к отчиму, наклонился к его руке, но лежавший на диване отдернул руку и покачал головой, давая понять, что он не желает больше видеть Пашу, а потом еле слышным голосом попросил позвать детей, чтобы попрощаться с ними, и Анна Григорьевна ввела их в комнату, и они, возможно, на всю жизнь запомнили щекочущее прикосновение бороды отца, когда, подталкиваемые Анной Григорьевной, растерянные и испуганные, они подошли вплотную к дивану и по примеру матери стали на колени возле изголовья, а он, повернув голову, поцеловал их в лоб – сначала Любу, потом Федю, а затем, подняв руку, перекрестил их, – когда дети ушли, он закрыл глаза и лежал неподвижно, так что Анне Григорьевне вдруг показалось, что он не дышит – «Ты спишь?» – тихо спросила она его, низко склонившись над ним, – он открыл глаза, и она снова увидела в них то же выражение, что и утром, и она вдруг поняла, что выражение это была тоска и что он умрет, – и к горлу ее подступил горький ком, и чтобы не разрыдаться в его присутствии, она вышла из его кабинета и на минуту дала волю своим слезам, уронив голову на рабочий столик, стоявший в ее комнате, так что волосы ее, всегда аккуратно уложенные, разметались по столу, закрыв ее руки, – она не умела плакать, и поэтому рыдания ее больше походили на смех или начинающуюся истерику – дети с ужасом смотрели на нее, и Марья-кухарка, пожилая рябая женщина, подвязанная платком, растерянно топталась в двери, – а из прихожей и гостиной слышался сдерживаемый звук голосов и покашливание – это друзья, знакомые, визитеры постепенно заполняли квартиру, а иные, осторожно приоткрыв дверь в ее комнату, тихо входили и, остановившись на некотором расстоянии от плачущей, о чем-то перешептывались, – смахнув слезы, поправив волосы, она быстро пошла, почти побежала в комнату умирающего – как она могла оставить его одного хоть на секунду?! – он лежал все так же, на спине, открыв глаза, глядя куда-то в потолок, как будто силился прочесть что-то, – иногда он шепотом говорил что-то, но речь его казалась бессвязной: «Какие они несправедливые! (возможно, это относилось к сестрам)… Не ветри (возможно – к Анне Григорьевне)… Закрыла ли Марья печку?.. Хватит ли винограда?.. Как я разоряю вас…» – все это, а также приход Григоровича и другие события, Анна Григорьевна, хотя и несколько отрывочно, сумела-таки занести в свой дневник, правда, уже после его смерти, но в тот же вечер, – впрочем, она вообще не потеряла головы и не потеряла, как любят сейчас выражаться, контроля над событиями – посылала за врачами, расплачивалась с кучерами, посылала Марью за льдом, который по предписанью врачей давали глотать больному, не допустила прихода нотариуса в дом, чего так настойчиво добивался Паша, сообщала посетителям о состоянии здоровья мужа и даже подписала какие-то две или три деловые бумаги, – было около семи часов вечера, и она сменила свечи на его столе, потому что те уже догорели, когда губы его и подбородок снова окрасились кровью, – она вытерла кровь полотенцем, висевшим тут же на спинке стула, и с помощью Марьи, которую она кликнула, подложила еще одну подушку под его голову, чтобы ему было выше, как рекомендовали врачи Кошлаков и фон Бертцель, постоянно лечившие его, – они стояли тут же рядом, попеременно щупая его пульс, иногда прикладывая стетоскоп к его груди и многозначительно переглядываясь, – струйка крови снова потекла по углу его рта, словно у раненного в грудь, – Анна Григорьевна вытерла ее, но, когда она отняла полотенце, струйка как ни в чем не бывало осталась на прежнем месте – возобновившееся легочное кровотечение не удалось остановить, и немного крови пролилось даже на подушку, – она снова стояла на коленях возле его дивана, держа его за руку, чуть склонившись над ним, напоминая фигуру скорбящей женщины, часто изображаемую на надгробиях, – он лежал, закрыв глаза, не открывая их даже на ее зов, когда она, хотя и тихо, но раздельно повторяла его имя, – по-видимому, он впал в беспамятство, – а в соседних комнатах были слышны сдержанные голоса посетителей и то и дело раздавались осторожные звонки в дверь, – она нежно гладила его руку, и иногда ей вдруг начинало казаться, что это у него был припадок, как это с ним случалось много раз, и он просто еще не пришел в себя, и что вот сейчас, через минуту, он откроет глаза, узнает ее и попросит помочь ему встать, а иногда ей казалось, что это просто сон, и что она сейчас проснется и услышит, как он шагает в своем кабинете, и как позванивает ложечка в его стакане, потому что он ходил вместе со стаканом, в который был налит крепкий чай, но голоса из соседних комнат становились все слышнее и отчетливей, – слышалось уже передвижение ног, чьи-то шаги – все явственнее и все ближе, – наверное, посетители уже входили в его кабинет, и она с ужасом осознавала, что все это происходит на самом деле и что она стоит на коленях перед умирающим мужем – ее мужем, Федей, который приходил к ней каждый вечер прощаться, писал из Эмса, куда он ездил каждое лето лечиться, длинные, горячие и бестолковые письма или устраивал ей сцены ревности во время своих литературных чтений, когда она перекидывалась с кем-нибудь словом или ему казалось, что она на кого-то смотрит, а потом они шли домой раздельно, но он не выдерживал, догонял ее и просил простить его, и говорил, что если она не простит, то он тут же на улице станет перед ней на колени, – она прощала его, и они шли вместе – он осторожно поддерживал ее под руку и заглядывал ей в глаза, а потом, на минутку оставив ее, забегал в лавку и накупал сладостей – орехов, изюма, конфет, – придя домой, они пили чай, и он подставлял ей и детям сласти, но если у нее бывал насморк, он раздражался и просил прекратить ее чихать, и ей становилось смешно, и он тоже в конце концов начинал смеяться, – пришедшие проникли уже в комнату умирающего, столпившись в противоположной части кабинета почтительным полукругом, не смея еще приблизиться к дивану, на котором он лежал, но стоявшая на коленях женщина, олицетворявшая собою скорбь, чувствовала на себе дыхание этих пришельцев, которые по какому-то неписаному, но неумолимому закону приобретали теперь право над ее мужем, – в их присутствии она могла даже себе позволить плакать и в бессилии уронила голову на руку умирающего, – кто-то стал уговаривать ее встать с колен и хоть немного передохнуть, кто-то услужливо подставил ей стул и осторожно помог ей приподняться, – в окнах кабинета отражались дрожащие огни от двух свечей, стоявших на письменном стопе, и фотография Сикстинской Мадонны, парившей в облаках с младенцем, висевшая над диваном, на котором лежал умирающий, а за окном была зимняя петербургская ночь – наверное, такая же, как сейчас, с такими же заснеженными улицами и с таким же ночным небом, в котором тонули купола Владимирской церкви – но когда Анна Григорьевна услышала чьи-то легкие шаги, приближавшиеся к ней, и увидела свою мать, она не выдержала и зарыдала, припав головой к ее груди, и мать ее тоже не выдержала и заплакала, а рядом с умиравшим стоял доктор Кошлаков, чуть склонившись, держа руку на его слабеющем пульсе и поглядывая на свои большие серебряные часы, словно это могло что-нибудь изменить, – огни свечей плашмя падали на лицо умиравшего, своей белизной почти сливавшееся с подушкой, если бы не темные тени, легшие вокруг глаз, и борода, казавшаяся черной, – он лежал в своем костюме, который утром помогла ему надеть Анна Григорьевна, словно человек, только что получивший смертельное ранение, – грудь его судорожно поднималась, и там внутри слышалось непрекращающееся клокотанье, поднимавшееся к горлу и вырывавшееся наружу через рот и нос в виде кровянистой пены, и Анне Григорьевне, снова ставшей на колени возле дивана, на какое-то мгновенье вдруг снова начинало мерещиться, что у него только что был припадок, потому что после припадка у него почти всегда показывалась пена у рта и что-то булькало в груди, и что все это пройдет, и он сейчас откроет глаза, и позовет ее, но толпа визитеров, расположившись амфитеатром, заняв почти полкомнаты, неумолимо надвигалась, и во главе всех этих зрителей шествовал высокий и седой Григорович, этот «французишко», как совсем недавно окрестил его умиравший, когда на одном из своих литературных чтений он увидел, как Григорович поцеловал руку Анны Григорьевны, – это была одна из тех сцен ревности, которые он устраивал Анне Григорьевне в последние годы своей жизни, – Григоровича он никогда особенно и не любил, но после этой истории стал говорить о нем зло и ехидно, называл его почему-то вральманом и бесцеремонно отделывался от его общества, – впрочем, тут могло быть и какое-то поздно пришедшее к нему прозрение, а может быть, только смутная догадка – в те далекие годы, когда панаевцы травили его, именно Григорович, живший тогда вместе с ним и выступавший в роли его покровителя и чуть ли не благодетеля, снесшего «Бедных людей» Некрасову, именно он, как это потом стало доподлинно известно из воспоминаний Панаевой, будучи человеком общительным, передавал панаевцам – Тургеневу, Некрасову и Белинскому – горячие и неосторожные слова, высказываемые автором «Бедных людей» в порыве откровения своему доброжелателю и почти что соседу по комнате, а потом возвращал ему насмешливые, а иногда едкие высказывания этих людей о нем, сея и разжигая таким образом вражду, – мать Григоровича действительно была француженкой и даже, кажется, актрисой или танцовщицей, и молодой Григорович, высокий, длинноногий и немного жуир, был всегда устроителем и предводителем балов, выделывая самые изысканные и трудные «па» с необычайной легкостью, ведя за собой в кадрили все пары, становясь на колено перед своей дамой с каким-то особым изяществом и выделанностью, – сейчас он тоже почти что дирижировал, то чуть подвигаясь вправо и увлекая за собой толпу визитеров, то поднимаясь на цыпочки, становясь даже на пуанты, делая несколько воздушных шагов по направлению к дивану, и визитеры, повинуясь его знаку, тоже продвигались вперед – впрочем, все это могло только казаться Анне Григорьевне, потому что она стояла на коленях возле дивана, низко склонив голову над лицом умирающего, и не могла видеть, что происходило в комнате позади нее, – она могла только чувствовать и догадываться, и, кроме того, судя по ее отрывочным записям, сделанным в дневнике, Григорович заезжал днем, но, с другой стороны, почему бы ему, человеку столь светскому и общительному, к тому же бывшему другу умиравшего, было не остаться, чтоб уж досмотреть все до конца? – теперь мать Анны Григорьевны сидела на стуле, положив руки на плечи дочери, стоявшей на коленях возле изголовья дивана, – впрочем, иногда она покидала дочь на несколько минут, чтобы пойти присмотреть за детьми, которые уже третий день были без присмотра, и тогда толпа, теснившаяся в комнате, почтительно раздвигалась, чтобы дать ей дорогу, – теперь в окне, за которым лежала черная петербургская ночь, отражалиась только Мадонна с младенцем, парившие в облаках, лишенные своих традиционных святых почитателей, потому что надвигавшаяся толпа загородила свечи, горевшие на столе, и пламя их уже не могло отражаться в окнах, – доктор Кошлаков, иногда чуть склонившись над диваном, щупал совсем уже слабый и неровный пульс умирающего, больше, очевидно, для приличия, а когда приехал доктор Черепнин и, присоединившись к своему коллеге и вынув из кармана жилета такие же большие, как у Кошлакова, серебряные часы на серебряной цепочке, приложил свою руку к запястью умирающего, пульса уже почти нащупать нельзя было – оставалась еще только какая-то тонкая, еле уловимая ниточка, еще связывающая его с этим миром, но и она слабела с каждой минутой, – умирающий неотвратимо погружался в глубокую бездонную пропасть, напоминающую кратер вулкана, – ему же казалось, что он взбирается сейчас на самую высокую гору в мире, – она была намного выше тех, на которые он когда-либо всходил или пытался взойти, и ему казалось, что шел он удивительно легко по какой-то прямой, светлой, хрустальной дороге, – он шел с такой легкостью, словно не восходил, а спускался вниз, порой ему даже казалось, что он летит на каких-то невидимых крыльях, и в конце этой дороги, на самой вершине горы, сияло яркое солнце, отражаясь в хрустале, по которому он скользил, и, когда он достиг вершины и солнце на миг ослепило его; он увидел, как низки и ничтожны были те горы, на которые он карабкался ранее, – все они были просто жалкими холмиками, и с вершины этой гигантской горы ему открылась не только вся земля с суетой ее обитателей, но вся вселенная с яркими огромными звездами, и на мгновение ему открылись страшные тайны этих отдаленных планет, но солнце в ту же минуту погасло, и он погрузился в страшный, бездонный мрак, – круг зрителей почти полностью сомкнулся, и еле уловимый вздох облегчения и сдержанный шепот прошлись по рядам присутствовавших, как это бывает в театре, когда после кульминации наступает развязка, – последнее биение сердца констатировал доктор Черепнин, приставивший стетоскоп к груди умиравшего и затем хранивший этот стетоскоп как семейную реликвию, – согласно Анне Григорьевне, это произошло в восемь часов тридцать восемь минут вечера – находившийся в толпе зрителей литератор Маркович, написавший заметку в газете о последних часах его жизни, зарегистрировал момент кончины в восемь часов тридцать шесть минут, – публика медленно расходилась с приличествующими моменту скорбными лицами, выражение которых, однако, менялось в сторону даже некоторой оживленности по мере продвижения к прихожей, равно как и шепот, постепенно переходивший то в светский разговор, то в деловую беседу, и впереди всех был, конечно же, Григорович, выделывающий на лестнице свои замысловатые «па», приглашая расходившихся визитеров последовать своему примеру, – после ухода гостей во всех комнатах зажгли свет, словно в доме был какой-то праздник, двери стояли почти что открытыми, а к моменту обмывания тела неожиданно пришел брат Анны Григорьевны, приехавший утром из Москвы и ничего не знавший о кончине шурина, и только топтавшиеся на лестнице несколько простолюдинов в чуйках, попросивших его похлопотать о заказе на гроб для какого-то помершего сочинителя, навели его на страшную мысль, и через несколько мгновений Анна Григорьевна уже рыдала у брата на плече, а в момент обмывания тела приехал Суворин прямо из театра, где он смотрел драму Гюго с госпожой Стрепетовой, и его поразила белизна тела умершего и то, как тело это, бывшее теперь только оболочкой, переворачивая, клали на солому, которая на каторге, наверное, столько раз служила подстилкой для бывшего уже теперь обладателя этого тела, – к двенадцати же часам ночи все было готово – почивший лежал на столе, поставленном по диагонали, с лицом строгим и умиротворенным, как это бывает у всех мертвецов и каким изобразил его Крамской, пришедший на следующее утро с мольбертом и красками, и над головой его, под иконой, была зажжена лампада, а в скрещенные на груди руки были вставлены свечи, и до четырех или пяти утра во всех комнатах горели огни, а сейчас все окна в доме, напротив которого я стоял, были темны, словно там теперь никто не обитал, и только в окнах угловой грани дома, олицетворяющей, по-видимому, как и все углы домов, которые он выбирал для жилья, вершину, к которой он постоянно стремился, только в этих окнах мерцали и переливались какие-то неясные блики – наверное, далекие отблески огней ночного карнавала на Невском, и так же темны были огромные зеркальные окна погруженного в сон Кузнечного рынка и небольшие зарешеченные окна Владимирской церкви, в которой размещался какой-то склад или база, – ветер на перекрестке задувал со всех четырех сторон, поднимая снег и образуя подобие метели, – я подошел вплотную к дому – на табличке, висевшей возле угла дома, было написано: «Улица Достоевского», – но мне почему-то хотелось считать ее «Ямской», как она и называлась до ее переименования, – я пошел мимо этого дома по Ямской, обозначенной прямой цепочкой редких и тусклых фонарей, теряющихся где-то вдали, мимо других таких же или почти таких же домов, казенных, четырех– или пятиэтажных, с глубокими черными подворотнями, ведущими в типичные петербургские дворы-колодцы, – в один из таких дворов я даже зашел, чтобы больше ощутить колорит, – из пустынного двора, заключенного в четыре внутренних стены дома, через глубокую черную подворотню можно было пройти в следующий двор, такой же пустынный и четырехугольный и тоже с подворотней, ведущей в следующий двор, – я шел по почти безлюдной заснеженной Ямской с наметенными вдоль тротуара сугробами, вокруг которых поигрывала метель, и ботинки мои, подсвечиваемые снегом, возвращали ему световые пятна, словно я был обут в белые валенки, – шел мимо казенных толстостенных домов с молчаливыми темными или тускло светящимися окнами, словно электричество горело вполнакала, или как будто там вообще горели коптилки, как это бывало во время войны, а возле подъезда одного из домов висело аккуратно пришпиленное объявление с надписью: «Закрывайте плотно дверь, экономьте тепло», и мысленно я увидел перед собой блокадный Ленинград, такой, каким я представлял его себе по газетам, книгам и рассказам очевидцев, в особенности же по рассказам Гили, – наверное, этому городу и до сих пор не хватало тепла, или так была неистребима память о страшной зиме, – Ямская улица, не сворачивая, перешла в какую-то такую же прямую и заснеженную, с такой же теряющейся вдали цепочкой фонарей, – что, собственно, мне надо было здесь? – почему меня так странно привлекала и манила жизнь этого человека, презиравшего меня («заведомо», «зазнамо», как он любил выражаться) и мне подобных? – и не поэтому ли я пришел сюда под покровом ночи и шел, словно вор, по этим пустынным и безлюдным, запорошенным снегом улицам? – не поэтому ли, посещая его музей-квартиру на Кузнечном или какие-либо другие места, связанные с ним, я держался как-то в сторонке или позади, словно попал сюда случайно и словно все это меня не очень интересует? – и не были ли мои «давешние» (как он бы сказал) ночные видения у Гили, в которых он в конечном счете обращался в Исая Фомича, лишь жалкой попыткой моего подсознания «узаконить» мою страсть? – улица, по которой я шел, все так же отбрасывая световые пятна своими ботинками-валенками, могла завести меня слишком далеко, в незнакомый район, из которого мне трудно было бы выбраться, – я повернул в один из боковых переулков и впереди увидел спасительную Лиговку с ее трамваями, – переулок назывался, кажется, Свечным, и тут же отходила от него какая-то Боровая улица, – названия переулка и улицы были старыми, как и сто лет назад, и я подумал, что он, наверное, не один раз проходил здесь, – на развилке этих двух улиц стояла не то какая-то старая часовня, не то обезглавленная церковь, окруженная белым искрящимся снегом, – здесь было совсем почти светло – то ли от близости Лиговки, то ли от искрящегося снега, и какая-то семья – родители, плохо и бедно одетые, и с ними девочка лет семи или восьми, тоже в очень худом пальтишке, – шла мимо этой бывшей часовни или церкви – лица у них были белые, чухонские, – отец, шедший чуть сзади нетвердой походкой, догнал жену с девочкой, и они все втроем неожиданно повалились в сугроб, – девочка вскочила первой и, отряхиваясь от снега, стала что-то быстро и горячо выговаривать родителям, которые никак не могли подняться, а когда поднялись и пошли, то я увидел, что и мать девочки идет нетвердой походкой, – девочка пошла впереди, словно поводырь, или, может быть, просто стыдясь своих родителей, – в ореоле фонарей Свечного переулка медленно кружились снежинки – я приближался к Лиговке, а где-то позади меня осталась полутемная, бесконечно прямая улица, вся заснеженная, с поземкой, наметающей сугробы, с молчаливыми казенными домами и с самым молчаливым и темным из них – угловым.






























