Читать книгу "«Лето в Бадене» и другие сочинения"
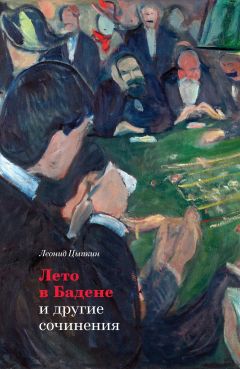
Автор книги: Леонид Цыпкин
Жанр: Классическая проза, Классика
Возрастные ограничения: 18+
сообщить о неприемлемом содержимом
Несколько минут спустя я уже ехал на трамвае к Гилиному дому, а еще через полчаса мы уже снова беседовали с Гилей, сидя на бывшем Мозином диване, и она рассказывала мне про блокаду, про Мозю, про тридцать седьмой год, а за окнами лежала зимняя петербургская ночь, и когда внизу на улице с грохотом проносились трамваи, весь дом вместе с Мозиной лампой вздрагивал, словно корабль, стоящий у причала.
КОНЕЦ
7 января 1981 г.
SUMMER IN BADEN-BADEN
Copyright © 1981, Leonid Tsypkin. All rights reserved
Повести и рассказы
Мост через Нерочь
Повесть
1
Запах метро тысяча девятьсот семьдесят второго года тот же, что и запах метро тысяча девятьсот тридцать шестого, и на секунду я испытываю то же чувство беспричинной и пронзительной радости, что и тогда, в тридцать шестом году, и мне кажется, что вот сейчас я поднимусь на поверхность, окажусь под слепящим июльским солнцем в районе метро «Сокол» – почему я тогда оказался там, не помню, – только слепящее солнце, новые высокие, не виданные мною еще никогда дома и вкус обжигающего эскимо – эскимо бывает только в Москве, нигде больше, это почти синоним Москвы, только почему же я никак не могу вспомнить лица тех, кто ехал вместе со мной в вагонах метро, поднимался по эскалаторам, ходил по улицам? Как выглядели они? На кого были похожи? На героев из кинофильмов «Цирк» или «Веселые ребята» в непомерно широких галстуках (снова возвратившихся к нам) и мешковидных брюках, с лицами наивными и благодушными, исполненными веры в счастливое будущее, или на Розенель – в длинных платьях, с короткой стрижкой, с широко раскрытыми, вращающимися от изумления глазами? Я напрягаю память, но тщетно: нет лиц, нет костюмов, нет людей. Что это – мое беспамятство или беспамятство истории? И не точно так ли исчезну я и мои соседи по вагону метро семьдесят второго года из памяти школьника в нейлоновой куртке, сидящего сейчас напротив меня? – у него уже почти модная прическа, и я прозреваю в нем черты юноши-студента, тонкого и высокого, как и все это поколение, небрежным движением головы поправляющего рассыпавшиеся волосы, и уже не студента, а мужа – молодожена с обручальным кольцом и с авоськой в руке, спешащего с покупками домой, и он, так же как и я, уйдет из памяти тех, кто увидит его, и на минуту я представляю себе всех заполнивших этот вагон, – озабоченных, беспечных, только что расставшихся с женщиной или едущих на свидание, толкующих об утренней планерке, едущих с чертежами, с папками, конспектами, с заготовленными адвокатскими речами, напечатанными на двадцати двух страницах, – карандаш следит за строчками и подчеркивает особо важные места, на которых следует сделать упор во время заседания, – на минуту я представляю себе всех их, лежащих в однообразных позах – с руками, сложенными на груди, с головой, запрокинутой назад, с желтыми, восковидными лицами, – все они, словно по команде, – одни раньше, другие позже исчезнут, не оставив после себя ничего, и так же исчезнут толпы людей, фланирующих по широким улицам в дни праздников, а иногда мне представляется, что все они, едущие со мной в одном вагоне, – это двуногие, одетые в костюмы, с портфелями и сумками в руках.
2
Горбатая мостовая с глянцевитым булыжником круто спускается к реке. По самому краю мостовой, прижимаясь к тротуару, едет на велосипеде толстый коротконогий мальчик-подросток с нездоровыми кругами под глазами. В ушах его молотком отдаются удары сердца, ногой он давит на тормоз, громыхающие телеги обгоняют его, но ему кажется, что он мчится с невероятной скоростью, обгоняя всех и все, и так будет казаться ему всю жизнь, потому что его самолюбие никогда не позволит ему примириться с сознанием своей слабости. Благополучно спустившись, он с видом победителя выезжает на деревянный мост – внизу протекает Нерочь, узкая речка, не обозначенная ни на одной, даже самой крупномасштабной карте, и мальчику это немного обидно, потому что, хотя к концу лета из воды и торчат ржавые консервные банки и битые бутылки, оплетенные водорослями, зато весной река широко разливается, затопляя городской сад и даже домики, расположенные за садом, течение ее становится мощным, высокая, темная вода почти достигает настила моста, крупные льдины ударяют о его сваи, так что мост вздрагивает, по реке плывут вывороченные с корнями деревья, бревна, доски – в такие дни с Нерочью может соперничать только Волга, которую мальчик никогда не видел, – миновав мост, он поворачивает налево и, нажимая на педали, поднимается вверх по улице к нелепому зданию оперного театра, напоминающему собой старинный замок, – несколько дней тому назад на площади перед театром, где теперь раскатываются местные пижоны – многие из них «без рук», одним, чуть заметным наклоном туловища направляя ход велосипеда, – еще несколько дней назад Тусик, двоюродный брат его матери, обучал его езде на велосипеде. Он бегал, держа велосипед одной рукой за седло, а другой – за руль, весь взмокший, потому что не так-то легко было удерживать велосипед с толстым мальчиком в положении равновесия – то приходилось брать его на себя, то отталкивать, чтобы мальчик с велосипедом не свалился на него, и повторял одно и то же: «Крути, Гаврила», хотя мальчика звали вовсе не Гаврилой, но мальчику слышалось в этом возгласе нечто залихватское, приравнивающее его к Тусику, – мужчины, понимающие друг друга с полуслова, – и он усердно нажимал на педали, и велосипед его все чаще стал обретать независимость, так что обучавший его уже не удерживал машину, а только придерживал ее за седло, и иногда мальчику даже казалось, что это создает ему помеху, и он крутил еще сильнее, и на короткое мгновение полностью вырывался из-под опеки – обучавший просто бежал рядом, и мальчику даже не верилось, что он едет сам, без посторонней помощи, – словно вдруг взмахнул руками и поднялся вверх и полетел – и ему становилось жутко и одновременно сладко от этой обжигающей, внезапно обретенной самостоятельности, которая грозила крахом, – он оглядывался – Тусик не бежал и даже не шел, а стоял – фигура его с каждой секундой уменьшалась, рукой он делал движение, обозначавшее «крути быстрее!» – потеряв равновесие, мальчик летел на асфальт, разбивая в кровь колени, а Тусик подбегал к нему, помогая подняться, и начиналось все сначала. Тусик был высокого роста, во всяком случае, самый высокий в семье, с темными прямыми волосами, которые легко рассыпались, закрывая ему лоб, и с глубоко сидящими спокойными серыми глазами, в которых иногда появлялось что-то бесшабашное, – его дед был из донских казаков – фотография его хранилась в золотом медальоне, доставшемся Тусику от матери, – мальчик любил открывать его и рассматривать фотографию: у донского казака было скуластое лицо, длинные, как у Тараса Бульбы, усы и светлые, еще более глубоко сидящие, чем у Тусика, глаза, – мальчик очень гордился этим родством, хотя в семье мальчика никто не видел этого деда – его дочь, мать Тусика, чтобы выйти замуж, вынуждена была перейти в иудейство, и донской казак, видимо не очень обрадованный этим, так ни разу и не появился, а родители Тусика умерли, когда ему было два или три года, и с тех пор он жил в семье своей тетки, бабушки мальчика, – она любила Тусика больше своих дочерей, по крайней мере говорила так, – может быть, за его спокойный, покладистый нрав, а может быть, за то, что, оставшись сиротой, он давал ей возможность чувствовать себя благодетельницей. Въехав на площадь перед оперным театром, мальчик вливается в число катающихся вокруг скверика – меньше чем через год в здании оперного театра разместится немецкий штаб, а семья мальчика, находящаяся в эвакуации, в такой же вот ясный предосенний день, охваченный уже предчувствием зимы сорок первого года, получит открытку от Тусика – единственную открытку, написанную его аккуратным почерком с наклоном влево, – Тусик просит не беспокоиться, у него все в порядке, а вот как они, как мама? – так он называл бабушку мальчика – а на обратной стороне открытки его же рукой был написан обратный адрес: «247 Б.А.О.» – после расспросов у знакомых выяснилось, что Б.А.О. – это батальон аэродромного обслуживания, и мальчик все время пытался представить себе, в чем же состоят обязанности Тусика – ему почему-то казалось, что Тусик переносит ящики с боеприпасами или подметает летное поле, но ведь Тусик был командиром, хотя и младшим, – во время польских событий он служил в армии и получил один кубик – мальчик прекрасно помнил маленькую фотокарточку Тусика с этим кубиком в петлице и в пилотке, лихо сдвинутой набекрень, – фотокарточку эту удалось потом раздобыть у каких-то дальних родственников, ее увеличили, сделали из нее почти портрет – теперь она лежит у моей мамы на письменном столе, под стеклом, рядом с другими фотографиями и общей семейной группой – мальчик там еще совсем мальчик, худой, в матросском костюме, с оттопыренными ушами. А когда осенняя по колено грязь на окраинных улицах уральского города стала подмерзать и на стенах комнаты, в которой жила семья мальчика, стал появляться иней, и предчувствие ранней зимы обернулось неслыханно ранней зимой – а может быть, на Урале всегда так было, – улицы и крыши одноэтажных деревянных домов с резными наличниками покрылись снегом, и купленный на рынке хворост можно было легко доставлять на детских санках, а молоко продавалось в виде полупрозрачных ледяных лепешек – пришла целая связка писем и открыток со штампом: «Адресат выбыл», но мысль о смерти Тусика не сразу утвердилась в семье, и даже когда кончилась война, все еще надеялись и расспрашивали, и тогда удалось узнать, что в расположение части, где находился Тусик, ночью неожиданно ворвались немецкие танки. Тусик и бывшие с ним военные размещались в сараях на окраине деревни, и мальчик пытался представить себе выражение лица Тусика в последнюю минуту его жизни, когда танк наехал на сарай и, поворачиваясь вправо и влево, стал давить своими гусеницами всех находившихся там, или когда его вели на расстрел, потому что он был командир, коммунист и еврей, и его не могли оставить в плену, но это предсмертное выражение лица Тусика никак не давалось ему, потому что Тусик одним пальцем укладывал его на обе лопатки, был самым высоким не только в семье мальчика, но и во всем доме, а когда к нему приходили одноклассники, он специально оставлял открытой дверь своей комнаты, чтобы они могли увидеть Тусика, когда он проходил мимо, по коридору. Тусик не мог умереть от чужой руки – он был сильнее всех! Мальчик грустно усмехался этим своим мыслям, потому что к тому времени, когда стали известны обстоятельства гибели Тусика, мальчик уже перестал быть мальчиком. Он и теперь часто снится мне, и сон мой почти всегда один и тот же: я знаю, что Тусик погиб и в то же время он с нами – он живет в нашей довоенной квартире, но он не живет, а как бы проживает – является только по ночам, чужой и неуловимый, – мне никак не удается поговорить с ним и даже увидеть его – он спит на своем обычном месте, на продавленной кушетке с выпирающими пружинами, – в огромной комнате, большей, чем теперешние трехкомнатные квартиры, перегороженной надвое ширмами, за которыми живут бабушка и дедушка, – именно на этой кушетке он демонстрировал мальчику приемы борьбы, укладывал его одной рукой на лопатки, а потом жал и мял его, издавая при этом устрашающие звуки, – я вхожу в эту комнату, но кушетка пуста – только смятые простыни и выпирающие пружины, и я смутно догадываюсь, нет, я точно знаю, что Тусик у своей приятельницы, там-то он и живет, там-то он и разговаривает и становится прежним – бабушка была очень горда тем, что Тусик в знак послушания так и не женился на этой женщине, хотя встречался с ней несколько лет, но бабушке она была не по душе – она считала, что эта женщина не любит Тусика и что у нее какие-то свои, корыстные соображения – она носила короткую стрижку и очки, но даже и в очках немного щурилась – иногда Тусик заходил к ней вместе с мальчиком – мальчик тайно ревновал Тусика к ней и, может быть, именно поэтому благоговел перед ней, и, кроме того, если Тусик ее любил, значит, в ней было нечто необыкновенное, а бабушка с гордостью говорила о широте своих взглядов на жизнь – в семье ее тоже все считали очень либеральной и склонной к философским обобщениям – она очень любила произносить фразы назидательно-философского порядка, вроде того, например, что «кто не чтит отца и мать своих, тот не достоин царствия божьего», или «c’est la vie», или еще что-нибудь в этом роде, а иногда она подходила к пианино и своими искривленными подагрой пальцами исполняла романс, единственный оставшийся из ее некогда, по ее словам, обширного репертуара; в романсе речь шла о фее, которая жила на берегу реки, и о каком-то Марке, в руках которого она жарко извивалась, – мальчик никак не мог понять, зачем фее было извиваться в его руках? – бабушка не пела, а скорее мелодекламировала, а в пассажах, которые сопровождали мелодекламацию и должны были изображать всю глубину чувств не то Марка, не то феи, а может быть, их обоих, бабушка фальшивила, ее искривленные пальцы не поспевали за развитием музыкальной мысли романса и попадали не на те клавиши – ее родители, считавшиеся передовыми людьми для своего времени, обучали своих детей игре на фортепиано, а восемнадцатилетней девушкой послали ее в Париж, где она окончила зубоврачебные курсы и научилась курить, – иногда после обеда она посылала мальчика к себе в комнату за папиросой и спичками – чтобы не носить спичек, мальчик возвращался в столовую с закуренной папиросой, – моя жена до сих пор не может простить моей маме, что она допускала это, – обретенную ею самостоятельность бабушка ценила превыше всего на свете – это давало ей возможность философски-снисходительно относиться к дедушке, который в семье считался скупым, швырял в бабушку тарелки за ее расточительность, сопровождая это отменными ругательствами на еврейском языке, но иногда тоже проявлял склонность к назидательным афоризмам, из которых самый любимый его был: «Так тонут маленькие дети, купаясь летнею порой» – фраза, которая и по сей день бытует в нашей семье. Дедушка носил усы и был акушером-гинекологом – он часто брал мальчика с собой на визиты, – сидя на извозчике с лакированным верхом и дутыми шинами, глядя в широкую спину кучера, мальчик терпеливо ожидал дедушку возле какого-нибудь деревянного дома на окраинной немощеной улице, пока дедушка обследовал больную, потому что предстоял обратный путь с обгоном всех ломовых телег и даже многих извозчиков, а по вечерам дедушка иногда брал его с собой пройтись – его высокие без шнуровки ботинки, не знавшие сноса, уютно поскрипывали, они шли по главной улице города, почти все встречные, в особенности женщины, первыми здоровались с дедушкой, и мальчику было приятно, что его дедушку знает весь город, а когда дедушку хоронили, его голова с жидкой прядью седых волос, развевающихся на декабрьском ветру, моталась из стороны в сторону, иногда ударяясь о стенки гроба, потому что катафалк ехал по булыжнику, и мальчику казалось странным, что дедушке не больно и не холодно на морозе в одном костюме, – он шел вслед за катафалком с черными витыми колоннами, подпиравшими такую же крышу, впереди оркестра и траурной процессии, растянувшейся, наверное, на несколько кварталов, а из подъездов домов и калиток выходили женщины – всплеснув руками, они ахали и причитали: «Боже мой, ведь это же доктор, который принимал у меня!» – мальчику было приятно, что он идет во главе такой огромной процессии, под звуки оркестра, и что его дедушку провожает весь город – впрочем, об ахавших женщинах он знает больше по семейным преданиям, потому что сам он этого не помнил, но тем не менее теперь я отчетливо вижу этих ахающих и причитающих женщин, шпалерами выстроившихся вдоль тротуара, словно в ожидании проезда космонавта, – перед смертью дедушка сам попросил ввести себе морфий, чтобы ускорить конец, и пока ходили в аптеку, он подозвал к себе внука, чтобы попрощаться с ним, – мальчик нагнулся к нему и на всю жизнь запомнил прикосновение колючих дедушкиных усов – ровно через год, в этот же самый день у них пропала собачка, маленькая, белая с черными пятнами – на линолеуме она иногда оставляла лужи, напоминавшие по своей форме цифру восемь, – вернувшись домой после похорон, они пообедали, потому что после длительного пребывания на морозе все очень проголодались, – мальчик запомнил, что на второе были котлеты, и он с аппетитом ел их – впрочем, весьма возможно, что и об обеде, и о котлетах он узнал впоследствии от своей тетки. Она с мужем прибыла из Москвы на следующий день после смерти дедушки, рано утром, на поезде, проходившем через их город от границы к границе, – мальчику так ни разу и не удалось повидать этот транссибирский экспресс, но ему почему-то казалось, что он состоит из желтых деревянных вагонов с зеркальными окнами, – дедушка умер ночью, когда мальчик уже спал, сразу же после того, как ему ввели морфий, а когда он проснулся, тетка была уже у них в квартире, как будто она здесь жила, – в один из своих приездов она привезла мальчику канарейку в клетке – когда канарейка умерла, ей почему-то надрезали живот, и оказалось, что она вся кишела червями, – мальчик заставлял тетку рисовать – он подкарауливал каждую ее свободную минуту, чтобы обложить ее альбомами для рисования или листами бумаги, – рисуя, она жевала язык, подложив его под щеку, и это получалось у нее очень миловидно – готовя уроки, мальчик тоже высовывал кончик языка, особенно если он очень усердствовал, и тетка говорила ему, что это у него от нее, и он гордился этим, потому что она очень точно срисовывала вазы или стакан с цветком, иногда даже пользуясь красками, но когда мальчик просил ее нарисовать что-нибудь вообще, она говорила, что умеет только срисовывать, – позднее мальчик узнал, что ее специальность называется «искусствоведение» – когда, уже став взрослым, он приезжал в Москву, она часто брала его с собой на вернисажи, юбилейные вечера или художнические диспуты, потому что он считал, что его истинное призвание – живопись, и она поддерживала в нем эту мысль – знакомя его с кем-нибудь из своих коллег, она представляла его как своего духовного сына – при этом она снисходительно похлопывала его по плечу, хотя была намного ниже его ростом, и рассказывала историю о том, как его приняли за ее шофера, – он донашивал тогда шинель, купленную во время эвакуации, – а когда они видели из окна такси куда-то спешащих, снующих или стоящих в очереди людей, она говорила о том, что вот у каждого из этих людей есть своя, особая жизнь – наверное, кто-нибудь похоронил мать, а кто-нибудь торопится на свидание: «Помнишь, как у Сезанна или у Чехова…» – и что вот, собственно, это и есть жизнь со всей гаммой ее красок, и только они оба, она и он, могут понять это в силу их духовного сродства, и что вот они, сидя в такси, жалеют людей, которые идут пешком или стоят в очереди, но что эта жалость какая-то очень абстрактная, созерцательная, толстовская – при этом она делала очень выразительный жест рукой, как будто взвешивала на ладони головку сыра или даже целую сахарную голову, – ее пальцы были искривлены так же, как у бабушки, хотя в те годы у нее еще не могло быть подагры, – в общем, этот жест должен был обозначать наличие какой-то очень тонкой философии, доступной только им обоим, – по-видимому, некое углубленное бабушкино «c’est la vie», а когда кто-нибудь из знакомых болел или умирал, а она собиралась на генеральную репетицию или на банкет, она говорила: «Помнишь котлеты?», многозначительно подняв брови и взвешивая на ладони невидимую головку сыра, – так же как и бабушка, она любила подчеркивать и широту своих взглядов на жизнь, в качестве примеров приводя свои отношения с мужем, – когда к нему приходила какая-нибудь его аспирантка, она специально уходила из дому, – ее муж был армянином, но в первые послевоенные года его часто принимали за еврея, и он молчаливо сносил это, тем более что он носил слуховой аппарат и вполне мог не слышать того, что ему говорили, а по утрам, проснувшись, он долго сопел, как будто занимался каким-то непристойным делом. Вскоре после получения связки писем с фронта бабушка начала терять память, а кроме того, она кашляла от курения и храпела по ночам, и мальчик, который уже стал подростком, начал придираться к ней и дразнить ее – он кричал ей «Сура-Бура!», хотя у нее было свое, очень благозвучное библейское имя, – несколько раз она гналась за ним со щеткой, но ей так и не удалось догнать его, а однажды, не выдержав, она расплакалась и раздетая выбежала на улицу, в зимнюю уральскую стужу – сквозь слезы она твердила, что уйдет из дому, потому что не может жить здесь больше – она достаточно самостоятельна, чтобы заработать себе на кусок хлеба, и матери мальчика стоило больших трудов вернуть ее в комнату. Болезнь ее прогрессировала, но тянулась долго: уже после войны, вернувшись с семьей мальчика в свой родной город, она каждое утро обливалась до пояса холодной водой, прогуливалась возле дома – иногда даже заходила в булочную, расписывалась за грошовую пенсию, которая давала ей, однако, право чувствовать себя самостоятельной, словоохотливо беседовала со старыми знакомыми, которых не узнавала, стараясь перевести разговор на отвлеченно-философскую тему, а свою дочь, мать мальчика, называла мамой – впрочем, это было уже потом, когда она большую часть времени лежала и делала под себя, и мать мальчика заплетала ее волосы в жидкую косицу, меняла ей простыни, и, подставляя ей судно, прибегала к еврейскому языку, надеясь, что таким образом бабушка лучше поймет инструкции, которые ей давались, но она все равно делала под себя, спрашивала, когда вернется из командировки Тусик, а меня и отца принимала за своих братьев, которых уже давно не было в живых. Она умерла весной, в день моего переезда из родного города – мама заснула после обеда и сквозь сон услышала бабушкин храп, но не придала этому значения – в это время я был уже в дороге, – узнав о бабушкиной смерти, я сразу же увидел, как она выбежала на улицу в снежную уральскую ночь – на ней был один халат, и она плакала навзрыд, и мама успокаивала ее, но я не помню, чтобы подростку досталось от мамы, и я вспомнил, как бабушка, доведенная им до отчаяния, не раз грозила ему, что ему за все воздастся, – наверное, в глубине души она была верующей, но мне так ничего и не воздалось, по крайней мере при ее жизни, потому что нам нужно видеть расплату, – иначе это уже не расплата, – впрочем, я уверен, что все это были только одни слова, а теперь по вечерам я захожу в мамину комнату – после смерти отца она переехала к нам, – тяжело сажусь в кресло, которое она вывезла из нашей послевоенной квартиры – их было два, оба они стояли в столовой, и гости любили на них садиться, и я тоже, когда приезжал к родителям, а теперь только в маминой комнате сохранился обрывок нашей квартиры, но комната эта – обманчивый островок, потому что жена терпеть не может запаха, идущего из верхнего ящика маминого шкафа, где хранятся лекарства, – еще те, которыми лечили отца, когда он болел, – жена уверяет, что все эти лекарства пахнут мочой, и, находясь за две комнаты, узнает, что мама открыла шкафчик, – правда, иногда она ошибается, но тогда уверяет меня, что я просто не заметил, как мама открыла шкафчик. Я усаживаюсь в кресло, положив ногу на ногу, и поглядываю на себя в зеркало – немолодой, располневший человек, который хочет казаться молодым, – вот при таком положении лица, кажется, это получается, а мама лежит на тахте в своем синем с разводами байковом халате, тоже положа ногу на ногу, – ноги у нее почему-то имеют саблевидную форму, как у наездника, пальцами ног она делает веерообразные движения, как будто у нее положительный симптом Бабинского, и при этом ритмично подрагивает правой ступней, и я хочу сказать ей, чтобы она прекратила это, но замечаю, что сам подрагиваю одной ногой, – это у меня наследственное – мама сама однажды поймала меня на этом. Я поглядываю на себя в зеркало – нет, у меня все-таки благородное выражение лица – я ловлю себя на том, что раздуваю ноздри точно так, как это делал отец, – перед уходом на работу он подходил к зеркалу и, чуть приподняв голову, как это только что делал я, благородно раздувал ноздри – наверное, в эту минуту лицо его казалось ему породистым, а сам он себе – не старым больным человеком с обвислыми щеками – результатом строгой диеты, на которой держала его мама, – а этаким молодцом, на многое еще способным, – он не пропускал ни одной молодой женщины, не проводив ее взглядом, – и я тоже все чаще ловлю себя на этом, а однажды, разговаривая со мной по телефону, мама сообщила мне, что к отцу, когда он вечером гулял возле дома, прицепился какой-то пьяный, преследовал его до самого парадного, а потом толкнул его, и отец упал, и я представил себе, как этот пьяный пристал к нему на перекрестке, возле нашего дома – там висит светофор, но он часто не работает, что, впрочем, никак не сказывается на движении транспорта, потому что в это время трамвай и машины проходят не чаще чем раз в минуту, да и днем тоже ненамного чаще, – приезжая домой, я подолгу простаиваю на балконе, попеременно глядя то на часы, то на перекресток, – не то что в Москве, где я не успевал не только подсчитать, но даже охватить глазом весь транспорт, проходящий по Садовому кольцу за единицу времени, – он пристал к нему на этом безлюдном перекрестке, и отец, наверное, ускорил шаги, но быстро ходить он не мог, а пьяный забегал вперед, преграждая ему дорогу, нагло ухмыляясь и подмигивая, как будто они были давно знакомы, но теперь отец зазнался и не хотел его узнавать – он весь ушел в поднятый воротник своей новой шубы – в последние годы отец стал усиленно интересоваться модами, и в Москве ему заказали шубу с каракулевым, как у артистов, воротником – шубу эту примерял сын, она очень шла ему, и ему было жаль, что ее пришлось отправить отцу, – пьяный не отставал от него, подмигивал, настойчиво требовал признания старой дружбы, а возле самого подъезда тяжело выругался и толкнул отца в плечо – отец мягко сел в сугроб в своей новой шубе с каракулевым воротником, как будто решил отдохнуть, а потом, кряхтя, долго поднимался, и мать счищала снег с его шубы – по утрам у себя в клинике он оперировал и раздражался и покрикивал на ассистентов и операционную сестру, как это принято считать про хирургов, – однажды вечером в трамвае, когда я еще жил в нашем городе, ко мне тоже привязался какой-то подвыпивший тип – я сошел на этом перекрестке, но он вышел вслед за мной, продолжая ко мне цепляться, и тогда я подошел к будке постового милиционера, который распоряжался работой светофора, и потребовал, чтобы он принял какие-нибудь меры, – подвыпивший пошел своей дорогой, а я все требовал от милиционера принятия каких-то мер – он вышел из своей будки и с безучастно-снисходительным видом слушал меня, пока пьяный не скрылся из виду. Мама лежит на тахте, подрагивая ногой, рот у нее чуть приоткрыт, в его черном распахе виднеются десны – протезы, лежащие в чашечке на столике рядом с тахтой, она надевает только во время еды или когда приходят гости – щеки ее западают, как у всех старух, – может быть, я просто ограждаю себя, подготавливая к неизбежному? – но когда она выпихивает из своей комнаты меня и сына – это случается после того, как он обнаруживает, что она рылась в его конспектах, чтобы уличить его в лени и беспечности, а меня в попустительстве, а мы в ответ бросаем ей обвинение в благоразумии и в пристрастии к чтению статей на темы морали – когда она выпихивает нас из своей комнаты, чувствуется, что в руках у нее еще достаточно силы, – движения ее становятся решительными и резкими, как у солдата, действующего по приказу «Длинным коли!», она мечется по комнате в поисках подходящего тяжелого предмета, хватает табуретку, замахивается ею – она вся дрожит, нижняя губа у нее трясется – точно так же как у меня в минуты бешенства, а также и у моей тетки и – теперь я смутно вспоминаю – у моего дедушки, когда он швырял в бабушку тарелками, – по-видимому, это наследственная черта, доставшаяся нам от него, а когда мы уже оказываемся на пороге комнаты, она выпихивает нас в коридор с помощью двери, после чего она дважды поворачивает ключ. «У меня железная старуха…» – декламирует сын из Заболоцкого; он идет к себе в комнату и возвращается оттуда с карандашом и листом бумаги. Бумагу он подсовывает под дверь маминой комнаты, а карандаш впихивает в замочную скважину, выталкивая оттуда ключ, – этот прием он отработал давно – через несколько секунд он вытягивает из-под двери бумагу с лежащим на ней ключом. Когда мы входим в комнату, мама лежит на тахте, повернувшись лицом к стене, плечи ее беззвучно сотрясаются, в комнате пахнет валидолом – мы нерешительно останавливаемся в дверях, я пытаюсь сказать что-то примирительное, но, как только я открываю рот, она вскакивает с побледневшим от гнева лицом и все такой же трясущейся нижней челюстью и кричит: «Вон отсюда!!!» – голосом, который слышен, наверное, на соседней улице. Мы выходим, тихонько притворив дверь, словно там лежит покойник, и стоим в коридоре понурившись, не глядя друг на друга, а жена, выйдя из кухни, делает нам внушение – не обязательно шуметь, можно ведь спокойно высказать свою точку зрения, – но внушение ее носит больше формальный характер, потому что она тут же зовет сына кушать, а я все хочу сказать ему, что ведь это моя мама, что она стара и что с ней все может случиться, но он уже идет на кухню к жене или начинает звонить по телефону своим приятелям, и я откладываю этот разговор до другого раза. Мама весь остаток дня не выходит из комнаты – мужественный гарнизон, окопавшийся во вражеском стане, – а вечером, когда, столкнувшись с ней возле уборной, я снова пытаюсь заговорить с ней, она, не глядя на меня, бросает короткую фразу: «Тебе воздастся за все!» – и снова исчезает в своей комнате с ночным горшком в руках – наверное, это у нас семейное, идущее от бабушки, – вера в окончательное торжество справедливости, потому что я тоже боюсь, что мне воздастся, и регулярно, но с величайшим страхом прохожу ежегодную диспансеризацию.
3
Отсветы пламени пляшут по стене, то и дело выхватывая из темноты извилистую трещину на обоях, – когда мальчик болел, он подолгу всматривался в нее, пока она не превращалась в петуха, или в акробата, или в фигуру сгорбленного старика, – надо обязательно взять с собой бинокль в кожаном футляре – этот бинокль достался Тусику от отца, который служил в армии во время империалистической войны, и, хотя он был врачом, ему почему-то выдали бинокль – он хранился в платяном шкафу у бабушки, вместе с двумя альбомами для марок – у Тусика была очень богатая коллекция марок, самая большая во всем городе – во всяком случае, так казалось мальчику, – иногда ему разрешалось доставать бинокль и альбом с марками – мальчик выходил на балкон и наводил бинокль на окно противоположного дома – там помещался клуб совторгслужащих – что это значило, мальчик не совсем понимал, но однажды в этот клуб привезли первого секретаря партии – дедушка лечил его жену и бывал у них в доме, – этот первый секретарь, самый главный начальник в городе, застрелился, потому что его должны были взять, но не успели, и поэтому официально он не считался врагом народа, но торжественных похорон ему не устраивали, а привезли в этот клуб и даже как-то почти тайком, и для прощания с покойным пускали всего два часа, но мальчик, живший напротив, успел там побывать – гроб установили в небольшом зале на втором этаже – там, наверное, заседали совторгслужащие, – и когда мальчик в веренице пришедших сюда огибал изголовье гроба, он заметил на виске у мертвого маленькую круглую ранку – именно таким он и представлял себе отверстие от пистолетной пули. Он наводил бинокль на окно клуба совторгслужащих, приземистого каменного двухэтажного здания, и окно становилось таким огромным, что даже не вмещалось в поле зрения бинокля, а потом он переводил бинокль на дальние крыши – кирпичные трубы и темные слуховые окна, таящие в себе опасность и одновременно манящие, сразу же придвигались к нему – и ближние и дальние, все они оказались одинаково близко, а альбом с марками он иногда показывал одноклассникам – они знали, что это был альбом Тусика, и когда он вносил его в комнату, они благоговейно затихали, а когда, осторожно листая альбом, он доходил до марок, каждая из которых была величиной почти с почтовую открытку – даже удивительно, как они держались на узеньких бумажных полосках! – когда он доходил до этих марок, его одноклассники превращались в ничто, – в этот момент он чувствовал себя сильнее их всех, и жаль только было, что ему никак не удавалось завлечь к себе домой Шлему Мозовского – Шлема вставлял свою ручку в щель между основной частью парты, предназначенной для писания, и откидывающейся крышкой, – пером вверх; оттягивая назад ручку, он спускал ее – на затылок мальчика и на его костюм летели чернильные брызги, оставляя на сером сукне фиолетовые пятна, которые не отстирывались, и мать мальчика решила даже как-то пожаловаться родителям Шлемы, но он оказался сиротой, жил с какой-то теткой, а когда ему надоедало это, он тихонько подкалывал мальчика пером в спину или руку – Тусик одной рукой скрутил бы Шлему, но Шлема игнорировал приглашения мальчика прийти к нему – высокий, худой и сутулый, одетый всегда в одну и ту же рубашку защитного цвета, он подкалывал мальчика пером и обдавал его затылок чернильными брызгами – лицо его при этом оставалось невозмутимым – на следующий день после похорон дедушки, когда мальчик пришел в школу после трехдневного перерыва, тайно надеясь, что теперь Шлема его не тронет, на первой же перемене он подошел к мальчику – мальчик весь потянулся к нему – сейчас он услышит слова раскаяния, – уколов его пером в ягодицу, Шлема спросил его, не протух ли его дедушка в гробу.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































