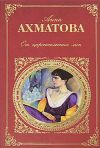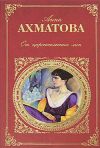Текст книги "«Лето в Бадене» и другие сочинения"
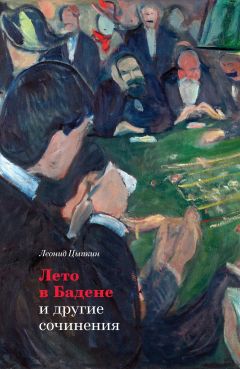
Автор книги: Леонид Цыпкин
Жанр: Классическая проза, Классика
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 30 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Странный полумрак царит в квартире: свет еще не совсем погасшего дня – самого длинного в году, и колеблющиеся отсветы пламени – это горит Дом ученых – он помещается на той же стороне, что и клуб совторгслужащих, но только не рядом с ним, а в стороне – чтобы его увидеть, надо выйти на балкон, но отсветы пожара проникают в глубь комнаты, гуляют по стенам, по потолку – только что кто-то пришел и рассказал, что пламя уже перебросилось на эту сторону и загорелся дом Туников – третий, нет, – четвертый отсюда – в семье мальчика его называли по имени бывшего владельца булочной, помещавшейся в первом этаже того дома, – Туников давно ликвидировали, но булочная осталась, и в ней продаются кухоны – очень вкусные лепешки с запеченным в них зеленым луком, а сверху посыпанные маком. Да, конечно, отсветы пламени, выхватывающие из темноты трещину на обоях, были потом, когда уже все было решено, а сейчас все члены семьи мальчика – отец, мать, бабушка, да и сам он как-то странно слоняются по квартире, словно перед переездом на дачу, когда вещи сложены и ждут только двух подвод и извозчика. Собственно, так оно и есть: ждут Тусика – утром он сказал, что заедет за ними на грузовике, но уже давно прошли все сроки, и отец говорит, что больше нечего ждать, а бабушка прислушивается и выглядывает в окно, не приехал ли Тусик. Ничего не ждет только Стефанида – она тихо молится в своей каморке, расположенной между кухней и уборной, попеременно осеняя себя то православным, то католическим крестом, – она посещала костел и церковь и часто брала туда с собой мальчика – в костеле в нишах стояли раскрашенные восковые фигуры святых – я всегда вспоминаю их, когда вижу невесту в белом платье, мертвенно застывшую между двумя телохранителями в опоясанной разноцветными лентами «Волге», а в церкви – мерцание свечей и лампад, запах ладана и таинственная позолота, к которой неодолимо тянет прикоснуться, но это строго воспрещается – однажды, когда мальчик забыл снять шапку, черные богомольные старухи зашипели на него, и он решил отомстить им – прийти в следующий раз в буденновском шлеме с пятиконечной красной звездой, который подарил ему их сосед по квартире, бывший участник Гражданской войны, но ему так и не удалось осуществить свой замысел – церковь взорвали, потому что на этом месте предполагали построить что-то, но так ничего и не построили, и потому что все это считалось пережитком прошлого, – Стефанида говорила, что она не верит в бога, а ходит в костел и церковь просто так – в углу ее каморки над кроватью висела засиженная мухами икона, а рядом с ней фотография ее племянницы Сони в накинутом на голову платке, покрывающем ее плечи и грудь, с выпуклым лбом и сонными зрачками, странно схожая с женским лицом, изображенным на иконе, только склонившимся к младенцу, – по вечерам, сидя в каморке, он играл со Стефанидой в шестьдесят шесть – для подсчета очков восьмерка прикрывалась какой-либо картой, по мере выигрыша карта эта сдвигалась, открывая выигранные очки, – Стефанида мусолила пальцы слюной, прежде чем взять из колоды новую карту, а мальчик крыл колоду и брал сразу три очка, и еще три, и еще два – Стефанида качала головой и притворно вздыхала – два открытых карточных знака она называла «пенсне», три – «столик без ножки», четыре – просто «столик», а семь было и вовсе неприличное, но Стефанида почему-то не стеснялась произносить при мальчике это вслух – к этому времени она уже редко выходила из своей каморки – семью мальчика обслуживала другая женщина – Марья Антоновна – ее называли в доме по имени-отчеству, и бабушка говорила ей: «Возьмите себе супчика», потому что Марья Антоновна очень любила суп и могла съесть сразу две тарелки, все домашние немножко обыгрывали эту бабушкину фразу, а Стефанида стала почетной домработницей – в выходные дни Марьи Антоновны Стефанида иногда готовила, и тогда мальчику казалось, что все идет по-прежнему, и Стефанида работает у них уже двадцать лет! – ни у кого из знакомых не было такой работницы, и никто не готовил так, как Стефанида, – месиво из муки и воды приобретало в ее руках консистенцию теста, в особенности же оно вкусно пахло после того, как подходило – крышка кастрюли сама поднималась под напором этой живой, дышащей массы – Стефанида доставала его из кастрюли – оно еще тянулось волокнами, но уже было сладко, – вывалив его на доску, посыпанную мукой, Стефанида начинала месить его, добавляя муку, пока оно не становилось крутым, – она расправлялась с ним – шлепала, колотила, мяла, приговаривая: «Это мы твоего батьку по заднице бьем», и мальчик с ожесточением тоже принимался шлепать и уминать его, воображая при этом толстый зад своего отца, хотя, как он понял много лет спустя, ягодицы у отца были тощие – в это время у Стефаниды уже были отеки, и она тяжело дышала, а до этого у нее была киста – мальчик представлял себе, как весь ее живот заполнен этой кистой, в которой находилась жидкость, – дедушка устроил Стефаниду в больницу, и ей там удалили кисту, но, по словам мамы, он до самой своей смерти не мог простить Стефаниде, что в ночь, когда я родился, она отказалась поставить самовар для моей первой ванны, а однажды она сказала дедушке, что они пьют из нее кровь, и мама до сих пор не может простить ей этого. Стефанида тихо молилась в своей каморке, а в это время постучали в дверь, и все бросились открывать, но это был не Тусик, а наши знакомые, жившие на соседней улице. Их дом сгорел, и они пришли к нам – каждый с небольшим чемоданчиком в руке. У них всегда сервировали стол по-старомодному – возле каждой тарелки лежала белая накрахмаленная салфетка, заправленная в серебряное с фамильными инкрустациями кольцо.
Подходил к концу третий день войны.
4—5—6
В воскресенье утром мальчик проснулся от заводского гудка. Гудело длинно и ровно на одной ноте, как в рабочие дни по утрам, – совсем не похоже на тревожное завыванье сирены – в городе, расположенном недалеко от границы, часто бывали учебные тревоги – об этом заранее оповещали, все ходили с сумкой защитного цвета, надетой через плечо, – в течение десяти секунд нужно было раскрыть ее, развернуть шлем и натянуть его на голову – тугая резина поддавалась с трудом, а очки тут же запотевали, и все становились похожими на слонов с длинным гофрированным хоботом, который так и тянуло зажать у кого-нибудь, чтобы прекратить доступ воздуха, – надев противогаз, нужно было укрыться в ближайшем парадном – иначе хватали, укладывали на носилки и волокли в подвальное помещение какого-нибудь дома с надписью: «Газоубежище». Гудело протяжно и ровно, и теперь уже отчетливо можно было различить, что это гудел не один завод, а сразу несколько – может быть, даже все имевшиеся в городе, и еще слышались отдельные короткие гудки, доносившиеся со стороны вокзала, – это гудели паровозы, а мать мальчика в это время разговаривала по телефону со своей приятельницей, которая позвонила ей. Ее звали так же, как и маму, и мальчику казалось неправдоподобным, что существует на свете еще одна женщина, которую зовут точно так же, как и его маму, и существование этой женщины казалось ему посягательством на права его мамы и его права – однажды с бьющимся сердцем он унес из прихожей ее сумку, заперся в уборной, вынул из сумки коричневый кошелек, пахнувший кожей и пудрой, и взял оттуда хрустящую трехрублевую бумажку – самое трудное заключалось в том, чтобы незаметно положить сумку на прежнее место. Она была на голову выше мамы, курила и всегда разговаривала властным голосом – с мамой мальчика они работали в одной больнице, но она была невропатологом, и мама рассказывала, что она умеет гипнотизировать, – когда они возвращались поздно вечером из больницы вдвоем, мальчик бывал спокоен – если бы на его маму кто-нибудь вздумал напасть, ее приятельница мигом бы загипнотизировала его. Это не просто так, сказала она. Ей еще рано утром позвонили, что немцы перешли границу, но по радио ничего не сообщали, и тогда Тусик поймал Берлин. Визгливый, истерический голос, срываясь на фальцет, угрожал, призывал, заклинал, и в этом бешеном каскаде немецких фраз отчетливо выделялись лишь два слова, спаренные, как близнецы: «юдн коммунистн». «Это война», – сказала бабушка и заплакала. Они все сидели перед приемником, но не совсем близко к нему, а как-то посередине комнаты, вернее, той ее части, где жил Тусик, – приемник стоял в изголовье его дивана – он лучше всех умел обращаться с приемником – до покупки этого, заводского, он когда-то сам смастерил приемник – нелепое сооружение из ламп, проволочек и контактов, питавшееся током от батареек, и вдруг оттуда послышался человеческий голос – это было непостижимо – сидели посередине комнаты, как потерпевшие кораблекрушение в лодке посреди бушующего моря. И все-таки бабушка заплакала как-то очень уж неожиданно – так она плакала в первые несколько месяцев после смерти дедушки – начнет вытирать пыль с камина или брать что-нибудь из шкафа – вначале мальчик удивлялся, а потом понял, что причиной всего были вещи, – бабушка плакала, как обиженный ребенок, она вся уходила в этот плач, по ее лицу текли настоящие слезы, и это тоже казалось ему неправдоподобным – плакать имели право только дети, – таким же неестественным показалось ему то, что он узнал об отношениях между мужчиной и женщиной – дети еще могли этим заниматься, но взрослые? – и когда они с мамой как-то встретили одну знакомую, а потом мама рассказала кому-то про нее, что она беременна, мальчик все никак не мог представить себе, что эта взрослая серьезная женщина, которая жила на соседней улице в подвальном этаже, что эта женщина еще два или три месяца тому назад занималась этим, а однажды в течение нескольких дней подряд он набирался храбрости, чтобы рассказать Тусику, что он знает одно слово, – Тусик наклонился к нему, и мальчик, приставив ладони ко рту, чтобы никто их не услышал, едва слышно произнес это слово – он считал ужасным для себя, что знает это слово, чувствовал себя виноватым и гадким и боялся, что Тусик по меньшей мере перестанет разговаривать с ним после этого, – но на лице Тусика ничего не отразилось – он спокойно выслушал это слово – по-видимому, ему это все было давно известно, а может быть, он не хотел заострять внимание мальчика на этом – так же спокойно выслушал меня главврач больницы, в которой я работал и на территории которой мы жили, – он очень хорошо относился ко мне и к моей жене – она даже ему немного нравилась и он ей тоже – я долго не решался позвонить у его двери, а потом он провел меня к себе в кабинет, усадил в кресло возле письменного стола и застыл в выжидательной позе, сидя за столом, на своем обычном месте, чуть подавшись вперед, – небольшого роста, худощавый, с седыми волосами, он ходил домой из конторы больницы по главной улице – ее называли «докторской аллеей» – в своей неизменной черной шляпе даже в самую жаркую погоду, с дымящейся трубкой в руке – он никогда не расставался с ней – никто никогда не видел его за едой, он только курил и пил крепкий чай, – отвечая на приветствия, он приподнимал шляпу и чуть кланялся, – его жена страдала склерозом и улыбалась всем улыбкой Офелии – рассказывали, что, когда состояние ее ухудшалось, он сам подавал ей судно – не глядя на него, блуждая глазами по комнате, я попросил его дать мне другую квартиру, потому что за стеной жила женщина, с которой… и тут я запнулся, но, в общем, моей жене все это неприятно – он все так же выжидательно смотрел на меня, словно я еще не сказал самого главного, а когда я окончательно смешался и замолчал, он сказал мне, что это дело житейское, предложил стакан крепкого чая и на прощание крепко пожал мне руку, так что я даже усомнился в том, так ли уж дурно я поступил по отношению к своей жене.
На главной улице было людно, как, впрочем, и в каждое воскресенье. Они с Тусиком купили кефир, а когда они вышли из магазина, под большим черным репродуктором, прикрепленным к углу дома, там, где трамвай со скрежетом сворачивал с главной улицы и мчался вниз по узкому переулку, который пересекал улицу, где жил мальчик, и ему всегда казалось, что откажут тормоза, и трамвай врежется в трехэтажное казарменное здание, которое называлось «Дом профсоюзов», под этим репродуктором стояла толпа людей и молча слушала; обычно по радио так не выступали: говоривший делал паузы в неожиданных местах и иногда заикался, особенно на словах, начинавшихся с «п» и «т», – мальчик сразу уловил это, потому что он сам тоже заикался, особенно на уроке физкультуры, когда их выстраивали в шеренгу и нужно было рассчитаться по порядку номеров – «первый, второй, третий» – он выглядывал из шеренги, заранее подсчитывая, какой он, – если он оказывался вторым, можно было дожидаться спокойно – еще не так давно он видел в газете фотографию: говоривший по радио, поблескивая стеклами пенсне, полувопросительно поглядывал на черного с выпученными глазами человека с прядью волос, косо пересекавших низкий лоб, – поговаривали, что одна рука у него парализована или даже вовсе отсутствует, но говорить вслух об этом не решались, потому что он считался теперь нашим другом и союзником, – он стоял так, словно принимал парад, и разглядеть его рук было невозможно, а взгляд его выпученных глаз был обращен куда-то в пространство.
…И снова велосипед. Мальчик что есть силы налегал на педали – теперь уже по-настоящему. Пот градом катился с него, сердце стучало – он уехал из дому, воспользовавшись тем, что родители ушли на работу, – мать категорически запретила ему это делать – он миновал небольшое здание местной электростанции с несоразмерно высокими трубами – электростанция называлась почему-то «Эльвод» – и теперь ехал по главной улице города, вдоль трамвайной колеи – так далеко он никогда не заезжал – булыжник кончился, и велосипед катился теперь по немощеной части улицы, поднимая за собой столб пыли, – справа за забором тянулся местный ботанический сад, в котором росли такие же деревья, как и везде, слева – пятиэтажный «Дом печати», недавно построенный, слепящий белизной с черными прямоугольниками окон, пересеченных белыми крестами. Вот и трамвайное кольцо, дальше уже Московское шоссе, а справа – начало Ветряковского леса – по выходным дням жители города ездили в этот лес отдыхать, там росли сосны и пахло хвоей, и это особенно привлекало туда еврейское население города, потому что там, где сосны, там всегда сухо – моя мама до сих пор любит это повторять – между деревьями на специально вбитых крюках вешались взятые напрокат холщовые гамаки, потому что веревочные врезались в тело, – в них, словно в люльках, раскачивались дети или наиболее престарелые члены семьи, а остальные располагались рядом на подстилке – вокруг, на помятой траве, появлялись яичная скорлупа и листы промасленной бумаги, потом дети разбегались по лесу, слышались удары мяча, заглушаемые призывными женскими голосами: «Моня! Иди к маме, поешь клубничку!» – Тусик называл их всех «какаясниками» – от слов «какао и яйца», но по выходным дням мальчик с мамой тоже выезжали туда и захватывали с собой крутые яйца и какао в термосе. Мальчик миновал трамвайное кольцо и катился по асфальту Московского шоссе по направлению к Ветряковскому лесу, и если бы я сейчас был на месте мальчика или он на моем, то наверняка продекламировал бы про себя: «Здесь пресеклись рельсы городских трамваев, дальше служат сосны, дальше им нельзя…», но тогда я даже не знал о существовании Пастернака – в том же, что мальчик продекламировал бы эти строчки или хотя бы вспомнил о них, никакого сомнения быть не может, потому что моя мама до сих пор при слове «мороз» обязательно скажет: «Мороз и солнце, день чудесный…», а если, поглядев на первый выпавший снег, произнести при ней слово «зима», она тут же подхватит: «Зима, крестьянин торжествуя» и т.д., а когда я однажды спросил у кого-то, приехавшего из Болгарии: «Ну, как Болгария?», мама тут же вставила: «Хороша страна Болгария, а Россия лучше всех». У нее это, наверное, от бабушки, а у меня от нее. Мальчик ехал по Ветряковскому лесу, не разбирая дороги, напрямик, давя яичную скорлупу, шурша шинами по промасленным листам бумаги, оставшимся еще со вчерашнего утра, мимо сосен с одиноко торчащими ржавыми крючьями для гамаков. Возле дощатой зеленой будки, где обычно выдавались гамаки, за наскоро сколоченной оградой аккуратными рядами стояли велосипеды – до сих пор я не могу понять, как они удерживались, потому что никаких специальных стоек или даже столбов там не было, – может быть, они поддерживали друг друга? Боец в пилотке принял у мальчика велосипед и выписал квитанцию. Мальчик аккуратно сложил ее и спрятал во внутренний карман курточки. В квитанции был указан заводской номер велосипеда, так что после войны он сможет получить его обратно. Когда он подходил к трамвайному кольцу, поднялся ветер. Пыль попадала в глаза, скрипела на зубах, и одновременно мальчик услышал вой гудков – не монотонное, ровное, как накануне утром, гуденье, а тревожное – то взмывающее куда-то вверх, то неожиданно падающее вниз, в глухие басы. Орава мальчишек перебежала дорогу и с радостным гиканьем взобралась на крышу какого-то сарая. Над противоположной частью города, примерно там, где находился вокзал, один за другим стали появляться бурые грушевидные дымки – они возникали из ничего и надолго повисали в небе, и только доносившееся издалека глуховатое орудийное аханье, как будто где-то погромыхивало, объясняло их происхождение, и мальчик тоже взобрался на забор, чтобы лучше видеть, – казалось, что все эти дымки и эта пальба были ни к чему, просто так – забава или ученье, но внезапно между дымками, в белесой голубизне неба он увидел самолеты. Они шли ровным строем, словно на воздушном параде, – по три серебристых точки в каждом звене, не обращая внимания на облачка разрывов, словно эти облачка не имели к ним никакого отношения, и в этот момент воздух сотрясся от взрыва – в противоположном конце города, где-то в районе вокзала, взметнулся к небу черный, жирный фонтан земли, медленно оседая, – точно так, как в кинофильмах об Испании.
Во дворе Дома специалистов возле подъездов толпились люди – среди толпившихся мальчик сразу же узнал девочку с двумя длинными золотистыми косами, перевязанными голубым бантом. Она стояла рядом со своей мамой – мальчик протолкался к ним – они не то собирались уходить куда-то, не то возвращались домой – она радостно улыбнулась ему, как своему спасителю, и он почувствовал себя героем, – сдав велосипед, пренебрегая опасностью, он возвращался через весь город домой, а они жались в подъезде своего дома. Она улыбнулась, обнажив свои зубы, усеянные мелкими точечками, похожими на мушиные следы. Собственно, с этого все началось – отцы их работали вместе – отец девочки руководил клиникой, в которой работал отец мальчика, и их обоих пригласили в качестве консультантов в санаторий, открывшийся в одном курортном городке, который раньше принадлежал Польше, а после воссоединения стал нашим – кажется, она сидела на террасе в шезлонге, а может быть, мальчик сидел, а она проходила мимо и улыбнулась или сказала что-то, и он увидел на ее зубах мелкие черные точки – точь-в-точь такие же, как у него, – зубной налет, который не сходил у него, хотя он чистил зубы самым тщательным образом. В первый момент это неприятно поразило его – у девочки, с которой он даже боялся заговорить, и вдруг такой же дефект, как у него! – это было настолько невероятно, что на несколько дней она даже перестала ему казаться таким недосягаемым существом, и, возможно, именно благодаря этому она обратила на него внимание, а может быть, просто она почувствовала свою уязвимость, а в середине лета, в самом разгаре его, когда мальчику казалось, что всю свою жизнь он прожил в этом курортном городке, где по вечерам из двухэтажных вилл (мальчик впервые услышал это слово), отданных под санатории и дома отдыха, из двухэтажных вилл, густо обсаженных зеленью, доносились звуки танго – не обычного, записанного на патефонные пластинки, а исполняемого живыми музыкантами модного польского танго, – мальчик даже боялся заглянуть туда, чтобы посмотреть, как все это происходит, и только от одного своего соученика, высокого мальчика, который казался ему тогда уже взрослым мужчиной, он смутно знал, что происходит там, – соученик рассказывал ему, как он танцует танго с бывшими польскими горничными, и даже намекал, что он не только танцует с ними, отчего у мальчика в сладком ужасе провалилось сердце, – в середине лета они с девочкой поехали кататься на лодке. Они ушли из дому, не сказав, куда идут, – тогда мальчик еще был способен на решительные действия, потому что он еще не научился рассуждать, – как потом выяснилось, дома очень беспокоились, особенно мать мальчика, – когда они вернулись, она отчитала мальчика и объяснила ему, что лодка могла перевернуться, и он мог утонуть, потому что он не умеет плавать, – с тех пор я страдаю водобоязнью – все мои попытки научиться плавать ни к чему не привели, потому что я все время должен проверять, достают ли мои ноги до дна, а в тот полуденный час слепящая зеркальная гладь озера была пустынна, только вдалеке на берегу виднелась зеленая кладбищенская роща с белой каменной аркой, увенчанной католическим крестом, – байдарка легко скользила по воде – мальчик, никогда до этого не ступавший в лодку, без всяких усилий орудовал веслом. Он орудовал веслом, как это делают заправские гонщики, – по крайней мере, так мне кажется теперь, когда я смотрю по телевизору какой-нибудь спортивный репортаж, а девочка сидела напротив мальчика, лицом к нему, так что ему были видны ее пестрые ситцевые штанишки с двумя мокрыми пятнышками на самом постыдном месте – возможно, это были следы от водяных брызг, которые он иногда поднимал веслом, – он старался не смотреть на ее штанишки и на эти пятнышки, и это делало ее еще более уязвимой в его глазах – в этот момент ему даже стало жаль ее, и это чувство, вероятно, было похоже на то, что принято называть нежностью, а однажды вечером, когда он бродил по саду вокруг дома, где они жили, надеясь, что, может быть, она еще не легла спать и выйдет, он увидел в ее освещенном окне ослепительную белую статую. Это было мимолетно, потому что свет в комнате тотчас же погас, но это видение бело-розового тела с еще более ослепительными белыми маленькими полукружиями грудей, словно светящееся изнутри, как алтарь или Джоконда, все чаще посещает меня, а у мальчика лишь на секунду перехватило дыхание – теперь он знал о ней все, ее самая главная тайна принадлежала теперь ему, и когда через несколько дней вечером, накануне ее отъезда, они сидели на диване в полутемной комнате и она спросила его, любил ли он когда-нибудь раньше и не делал ли он каких-нибудь гадостей, он соврал ей, потому что ему хотелось быть перед ней мужчиной и пробудить в ней ревность, – он сказал, что у него была такая история с девочкой, которая приходила убирать к ним квартиру, и она отрезала от своей косы пучок золотистых волос и подарила ему – он завернул их в бумажку и спрятал в свой кошелек – потом он не раз доставал эти волосы и прикладывал их к губам, хотя они жили в одном городе, – неужели это та самая женщина, с которой я недавно ходил по Ленинграду, и она хорошо отработанным голосом профессионального гида рассказывала мне о памятных местах города и показала дома, где, как предполагается, жили герои Достоевского, с лисьим лицом, с жидкими волосами – я даже не запомнил, какая у нее была прическа, – с теми же мушиными следами на зубах – у меня этого налета уже давно нет, просто зубной камень – с непропорционально маленькими ручками и высохшими пальчиками, на одном из которых неизвестно каким образом удерживалось обручальное кольцо? – впрочем, теперь она не демонстрировала его, а в первое время после замужества она старалась держать свою руку так, чтобы это кольцо не могло не броситься в глаза, и без конца повторяла: «Мой муж, мой муж» – по ее словам, он был человеком необычайным и обожал ее, и она его, конечно, тоже, и жизнь их была заполнена очень тонкими интеллектуальными интересами и такими же друзьями, но при этом она многозначительно посматривала на меня, словно все это ни в какой степени не должно было отразиться на наших отношениях, которых уже давно не существовало, потому что, когда после войны она вернулась из Германии, куда она попала вместе с отцом, мне приходилось часто провожать ее на окраину города, где они с отцом поселились в деревянном домике у какой-то своей подруги-староверки, – рассказывали, что ходить там было небезопасно – я пристально всматривался в каждый столб и в каждый куст и мысленно подсчитывал, сколько домов еще осталось до ее калитки, а она в это время вела нескончаемые разговоры о немецком искусстве эпохи Возрождения и о религиозном мистицизме, к которому она приобщилась, живя у своей подруги. Утром, когда мальчик встал, было пасмурно, накрапывало, и окно девочки было закрыто ставнями – они уже уехали, но он все еще надеялся и бродил по саду, а потом, когда открыли ставни, он влез на скользкий от дождя деревянный карниз и, ухватившись за наличник, заглянул в окно, но увидел лишь свое отражение – он спрыгнул на землю и снова принялся ходить по мокрому саду – по небу, задевая верхушки деревьев, ползли тучи, и, наверное, все это называлось тоской, а потом, вернувшись в город, мальчик стал часто бывать в четырехкомнатной квартире в Доме специалистов – он находился как раз напротив дома, в котором жила приятельница Тусика, – теперь у мальчика тоже была девочка, и он мечтал о том, как они с Тусиком доедут на трамвае до одной и той же остановки и молча, по-мужски пожав друг другу руки, разойдутся в разные стороны – каждый к своему дому. Мальчику обычно открывала дверь мать девочки, черная разговорчивая женщина – в семье мальчика ее называли неприятной особой – вероятно, потому, что она любила одеваться и от нее всегда пахло духами, – немцы убили ее, потому что она была еврейкой, – она проводила мальчика по ярко освещенным комнатам с красными коврами на полу и на стенах, и он старался как-нибудь побыстрей миновать их, чтобы не встретить отца девочки, – даже когда его не было, дух его все равно незримо присутствовал здесь – наверное, он родился академиком – крупный, с крупным породистым лицом, запрокинутым вверх, как будто его подбородок был подперт тугим крахмальным воротничком, он, казалось, был создан для того, чтобы смотреть в зеркало, – не им ли воображал себя мой отец, благородно раздувая ноздри перед зеркалом? – выступая на научных заседаниях, он пересыпал свою речь латинскими терминами вроде «summa summarum», или «volens-nolens», или еще чем-нибудь в этом роде – недавно мы встретились с ним на одном очень узком совещании – он снова сделал вид, что не замечает меня, хотя мы не раз встречались за эти годы, но на этот раз я тоже сделал вид, что не замечаю его, и даже, кажется, чуть запрокинул лицо вверх, но я не уверен, что он заметил это. Черная разговорчивая женщина, от которой приятно пахло духами, отводила полного рыхлого мальчика с нездоровыми кругами под глазами в комнату девочки с секретером, на котором стояла настольная лампа, с тахтой, покрытой ковром, который со стены переходил на тахту, а оттуда на пол, с узким полированным шкафом, и девочка с длинными золотистыми косами, в которые был вплетен голубой бант, и это создавало интимную обстановку – мальчик усаживался на тахту, а девочка на стул, а иногда наоборот, но вспомнить, о чем они говорили, я не могу, – одно можно твердо сказать – мальчик чувствовал себя взрослым, потому что в это время Тусик находился, наверное, в доме напротив – однажды он побывал там с Тусиком – маленькая квартира, ковры, полусвет и почему-то полати, с которых Тусик что-то доставал, и в этом полусвете стриженая женщина в очках с близоруким прищуром и, кажется, с веснушками на лице и даже на руках – даже во сне она до сих пор уводит от меня Тусика. Но в общем они вели себя очень чинно, как настоящие благовоспитанные дети, и только один раз, придя к девочке, он застал у нее Леву Зайца – его подбородок не только выдавался вперед, но как-то еще и заострялся кверху, сходясь с кончиком приплюснутого носа, как у Плюшкина или у Иуды, и дышал он громко, с сопеньем, словно у него был хронический насморк или аденоиды, но он прыгал в воду солдатиком – в красных плавках, смуглый, с резиновой шапочкой на голове и так же великолепно плавал, даже, кажется, баттерфляем, по пояс выводя из воды свое смуглое тело, – летом он жил в том же курортном городке – там был специальный бассейн – мальчик ходил туда учиться плавать, его даже специально обучали – теоретически он знал все движения – лежа на постели, он проплыл не один километр и кролем, и брассом, и даже баттерфляем, но в бассейне он сразу поджимал под себя ноги, словно защищал свой живот от смертельного удара, так что водобоязнью он страдал уже тогда – просто мне хочется все свалить на маму – так легче жить, когда есть виновник, а Лева Зайц прыгал солдатиком, а иногда даже прогнувшись, отставив назад руки, словно парящая птица, и потом долго плыл под водой, уплощенно, как лягушка, в красных плавках, под прозрачным зеленым стеклом, и девочка тоже хорошо плавала, но ей было, конечно, далеко до него, и мальчику часто представлялось, как девочка и Лева Зайц вместе плывут куда-то – они уже далеко от берега, и ей отказывают силы, и тогда Лева Зайц спасает ее – мальчик старался не додумывать, как это происходит, потому что Лева Зайц должен был для этого обхватить ее одной рукой, но неопределенность была еще страшнее, а иногда мальчик воображал себя Томом Сойером, а ее – Бэкки Тэчер – они заблудились в пещере, полная тьма, он зажигает свечку – они вдвоем, вокруг никого, она дрожит от страха, она полностью в его власти, и эта ее беспомощность и сознание своей власти над ней рождали в нем чувство жалости – нежности к ней, и наряду с этим еще какое-то другое чувство, непонятное, но захватывающе-сладкое и оттого запретное – почему Том Сойер не воспользовался им? – примерно такое же чувство мальчик испытал, будучи еще совсем маленьким, – в жаркий полдень, в хвойном лесу, неподалеку от дачи, которую они снимали, – почему-то он остался один, может быть, на несколько минут, а может быть, и дольше – под крупной раскидистой елью, а может быть, на ее нижней ветви, он увидел зеленую лягушку, даже не лягушку, а лягушонка, потому что, когда он подошел вплотную, лягушка даже не попыталась убежать от него, – может быть, она была мертвая? – он взял какой-то сучок и потрогал ее – лягушка не пошевелилась, но, наверное, все-таки она была жива, только больна, пожалуй, но тут пришли взрослые и позвали его – весь день он думал об этой лягушке, ему казалось, что он мог с ней еще что-то сделать, но что именно, он не знал, к этой запретно-сладкой мысли примешивался запах сухой, жаркой хвои, а когда он пришел туда на следующий день, лягушки уже не было – впрочем, он не был уверен, что это была та самая ель – он еще несколько раз приходил на это же место и даже следующим летом, когда они снова жили там на даче, – точно такое же чувство он испытывал впоследствии при виде оставленного без призора плачущего младенца, и иногда даже мечтал о подкидыше – нечто подобное я испытываю теперь, оставаясь наедине с неохраняемым государственным имуществом.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?