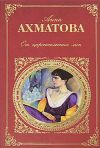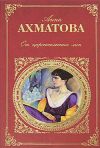Текст книги "«Лето в Бадене» и другие сочинения"
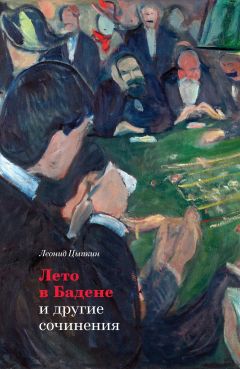
Автор книги: Леонид Цыпкин
Жанр: Классическая проза, Классика
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 30 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Машина остановилась напротив серого дома – прежде чем войти в подъезд, он постоял несколько секунд на тротуаре, вглядываясь в темные окна пятого этажа – три квадратных и одно узкое с прилепившимся к нему каменным балконом, и только очутившись на площадке перед знакомой дверью, он услышал, как бьется его сердце, – дверь была заперта – это немного успокоило его, потому что в таких случаях, он знал, двери оставляют открытыми и люди свободно входят в квартиру – еле справляясь с прыгавшим сердцем, он осторожно нажал кнопку звонка. Ему открыла мать – она была в своем байковом халате, как всегда по утрам, а из-за ее спины, из кухни выглядывала Настя со своим скуластым и хмурым лицом – словно фигура с картины «Сватовство майора» или «Арест пропагандиста» – в передней все было по-старому – немецкая трофейная вешалка с зеркалом посередине, высокий неуклюжий шкаф, в котором висело старое платье, холодильник, стремянка, стенной шкаф, в котором, как всегда, наверное, шпалерами выстроились банки с консервированным компотом, которые отец закупал в неисчислимом количестве, и две-три бутылки вина, – вино ему было запрещено, но он очень сердился, когда сын, приезжая, откупоривал бутылку в его отсутствие. «Ну что», – хотел спросить он, но мать, предупредив его, сказала: «Ночь он провел спокойно, только аритмия», как говорят врачи о больном, и так же спокойно добавила: «Можешь пройти к нему», – и он понял, что раз от него этого ждут, то он должен это сделать и что вместе с тем он облечен каким-то особым правом, и это ощущение своего привилегированного положения не оставляло его уже во все время болезни отца и потом на похоронах, – осторожно приоткрыв дверь, он вошел в комнату. Над обеденным столом, непривычно заставленным лекарствами, горела лампочка под оранжевым абажуром, а сквозь неплотно прикрытые шторы в комнату проникал дневной свет, и от этого двойного света создавалось странное ощущение еще не прошедшей ночи и уже наступившего утра, пахло камфарой, а на тахте, отодвинутой от стены так, чтобы можно было подойти к ней с обеих сторон, лежал отец в белой ночной рубахе, на которой слева, на груди, там, где было сердце, темнело расползшееся пятно крови – отцу накануне ставили пиявки – он лежал на спине, дыша тяжело и неровно, словно подстреленный зверь, – сын подошел к нему вплотную – от постели отца отделилась фигура медсестры в белом халате – она отошла куда-то в угол комнаты, наверное, чтобы не мешать свиданию сына с отцом, и он снова ощутил какие-то свои особые права, которые сполна признаются всеми и даже подчеркиваются, – выпуклые рачьи глаза отца были устремлены куда-то вверх, словно он пытался различить что-то на потолке, а на щеках, под глазами, отчетливо выступала сеть красных прожилок – такие же прожилки на этих же местах стали недавно появляться у сына, но пока их было еще мало – теперь, когда отец был без очков, было видно, что у него орлиный нос, даже, пожалуй, красивый, – сын молча взял руку отца и стал щупать его пульс, частый и слабый, – отец силился все разобрать что-то на потолке – его нисколько не удивило появление сына, словно они расстались только вчера, а может быть, он просто не узнал его. «Попался», – неожиданно сказал он. Он сказал это в пространство, по-прежнему не замечая сына. «Ничего, все будет хорошо», – сказал сын, он сказал так, потому что знал, что в таких случаях принято говорить такие вещи, а на обеденном столе среди лекарств, ампул и шприцев лежали очки отца и его плоские карманные часы.
12
Они приходили и уходили каждый день, по нескольку раз в день, вечером, днем, утром, сменяя друг друга, – из их легких, полупрозрачных сумок, которые они небрежно клали на пол, под пальто, выглядывали учебники, веточки вербы, разноцветные клубки шерсти и еще какие-то необязательные женские вещи, назначения которых он не мог понять, – смяв шубу и меховую шапку или пушистую косынку, они надевали на себя вынутый из сумки белый халат, мимоходом поглядевшись в зеркало, – прощальный взгляд перед тем, как войти в комнату, где лежал больной, – птицы с подрезанными крыльями, ложные смиренницы – они меняли больному простыни, поворачивали его, кололи его в тощие, желтые от йода ягодицы, прикасаясь к его телу, – к запаху камфары примешивался еле уловимый запах духов, а перед тем, как уйти, они становились особенно усердными, чтобы скрыть еле сдерживаемую радость приближающегося освобождения, и даже после прихода сменщицы оставались еще на некоторое время в комнате больного, словно они никуда не торопятся и считают для себя главным то, что происходит здесь, а все остальное, происходящее вне стен этого дома, не имеет для них никакого значения – свою меховую шапку или косынку они надевали перед зеркалом, не торопясь, как не торопятся выпить первую рюмку на праздничном обеде, но из окна он видел, как, выйдя на улицу, они бежали к троллейбусу или к трамваю легко и грациозно.
13
Он по обыкновению своему делал карандашные наброски или, может быть, сидел просто так, опершись подбородком на руки, когда она вошла в комнату – высокая, в белом халате и в накрахмаленном колпачке, надетом на ее пышные черные волосы, – лекарства уже не помещались в комнате отца, и она пришла в эту комнату, чтобы набрать шприц для инъекции.
– Поешьте что-нибудь, – сказал он ей, потому что столовая переместилась теперь в эту комнату и потому что ему очень хотелось угостить ее чем-нибудь, но она отказалась – тогда он подвинул к ней вазочку с конфетами, но она отрицательно покачала головой, – отломив горлышко ампулы, она набирала ее содержимое в шприц – когда часть жидкости ушла в шприц, она одним движением повернула его иголкой вверх, продолжая набирать жидкость из насаженной на него ампулы, даже не придерживая ее, – просто удивительно, как это ей удавалось!
– Бережете фигуру? – спросил он ее с деланной иронией.
– Ну что вы, – она сказала это так просто и с таким удивлением, что ему сделалось неловко за ту пошлость, которую он только что сказал.
Она уже стояла возле двери, со шприцем в руке, – еще секунда, и она выйдет из комнаты.
– Хотите семечек? – он вдруг вспомнил, что накануне от нечего делать купил их, и теперь они лежали у него в кармане.
– С удовольствием, – она улыбнулась и неожиданно покраснела, наверное, от той поспешности, с которой она согласилась.
Он подошел к ней и протянул горсть семечек.
– Я же стерильная, – сказала она, кивнув на шприц, и тогда он осторожно положил семечки в карман ее халата – пока он ссыпал их, она стояла не шелохнувшись, словно ожидая чего-то и вместе с тем боясь этого.
14
Она спускалась вниз, по улице, ведущей к речке, а он стоял возле моста – он уже давно стоял здесь, нетерпеливо поглядывая на часы, – она спускалась вниз, чуть раскосая, с высоко взбитой прической, – он пошел ей навстречу – она приближалась, словно спускаясь откуда-то с высоты, – он уже не видел ни домов, ни улицы, ни людей – только ее фигуру и лицо в ореоле высоко взбитых темных волос. Они остановились друг против друга, в неловком молчании – ему казалось, что она слышит, как бьется его сердце.
…Я так ждал вас… тебя.
Они пошли по направлению к речке, туда, где он только что стоял, ожидая ее, потом по узкому деревянному мосту и подошли к перилам его – мелкая речонка, затянутая льдом, вдруг стала широкой и быстрой, темная вода с плывущими по ней льдинами достигала почти настила моста, а по улице, ведущей к речке, выбивая друг у друга портфели, неслись школьники, целая ватага их, и среди них он. Они бежали, оглашая всю окрестность радостными возгласами: «Река вошла в свои берега! га-га, га-га, га-га, га-га!», хотя наводнение было еще в самом разгаре – весь парк, находившийся по ту сторону речки, был залит водой, так что деревья росли прямо из воды, и только за парком, между деревянными домиками, блестели озера – остатки начинающей сходить воды. Вбежав на мост, школьники рассыпались, повиснув на его деревянных перилах, – черная быстрая вода несла крупные льдины – они ударялись о сваи моста, так что мост вздрагивал, и мальчику, тоже повисшему на перилах, казалось, что это не вода движется, а плывет мост, рассекая льдины, и это уже был не мост, а ледокол «Седов» или «Красин», и он был капитаном этого ледокола.
– Удивительно, – сказал он, – почти все в городе сгорело, а этот мост уцелел. – Помолчав немного, он посмотрел на девушку: – Сколько вам лет?
– Я с сорокового года.
– Значит, все-таки довоенного издания, – он снова поймал себя на пошлости, но ему почему-то приятна была мысль, что она родилась до войны, и потом, когда они шли по парку, он расспрашивал ее о детстве – во время войны они с матерью жили в маленьком городишке, но немцев она не помнила, да и вообще, что она могла помнить в свои три или четыре года? – но он все время пытался представить себе, как мать носила ее на руках и раздобывала где-нибудь в соседней деревне картошку и тащила на себе этот мешок, а дома у них было холодно – заиндевевшее окно, на улице ни души и темно – только вышагивающие немецкие патрули, но все-таки им ничего не грозило – немцы проходили мимо и даже несколько раз заходили к ним в дом, чтобы узнать, не прячутся ли у них евреи, – на газонах снег был рыхлым и кое-где почернел уже под лучами весеннего солнца, а на дорожках было скользко, текли ручьи, местами образуя озерца, – он держал ее под руку, а она осторожно ступала своими открытыми замшевыми туфлями, выбирая сухие места и вместе с тем стараясь идти в ногу с ним, хотя во всей фигуре ее и в ее движениях все время чувствовалась какая-то настороженность. Он дал ей конфету – она долго мяла обертку, не решаясь ее выбросить, пока он не вынул бумажку из ее холодной руки. Они проходили теперь мимо летних павильонов с облупившейся краской и со снеговыми шапками, с которых бахромой свисали сосульки, – он исподтишка поглядывал то на ее профиль – чуть разрумянившаяся щека и выбивающиеся из-под шапочки темные волосы, то на ее ноги, обтянутые прозрачными чулками, – она все так же осторожно ступала, идя в ногу с ним, – на туфлях ее не было ни единого мокрого пятнышка, и на минуту он представил себе, как бы он переехал в этот город и поселился с ней, и они гуляли бы по главной улице города, и она поступила бы в институт, и по вечерам он объяснял бы ей анатомию, потому что все это он прекрасно знал. С велотрека доносился вальс «Дунайские волны» – наверное, через репродуктор – по залитому льдом полю скользили на коньках подростки – мальчики и девочки – на девочках были надеты высокие белые шнурованные ботинки, облегавшие их ноги до самых икр, а по наклонным дорожкам мчались велосипедисты – никакого ледяного поля не было – просто ровная, утрамбованная площадка, посыпанная желтым песком, а по наклонным дорожкам мчатся велосипедисты, но звучит тот же вальс «Дунайские волны» – несостоявшийся вечер летнего дня, – ведя велосипед за руль, он подходит к наблюдающим за катаньем – среди них девочка в ситцевом платье, хорошо обрисовывающем ее небольшие, но выпуклые груди, и с выпуклыми водянистыми глазами – она уже давно стоит здесь, – увидев его, она устремляется к нему, он берет ее за руку, а другой рукой он ведет велосипед, придерживая его за седло, – они идут по парку в быстро сгущающихся сумерках, от речки тянет прохладой и запахом тины, но они направляются в самый отдаленный уголок парка, где все заросло высокой травой и, наверное, даже по вечерам пахнет разогретой хвоей, – нет, это, конечно, было не тогда, потому что этот назначенный вечер был первым вечером войны – они шли по улице, держась за руки, ее ладонь была горячая и шершавая, и она спросила его: «Ты женишься на мне?» – а может быть, сказала: «Ты все равно на мне женишься», – они возвращались из кино – когда в зале погас свет, он осторожно положил руку на ее колено, а потом рука его поползла выше, и вот он уже преодолел тугую резинку – девочка сидела не шелохнувшись, – она даже, кажется, не дышала, и он тоже не дышал, только сердца их колотились как бешеные, – он даже не помнил, какой фильм они смотрели, – нет, с сердцами было раньше – она убирала их квартиру, потому что мать ее в этот день заболела, и он неотступно следовал за ней из комнаты в комнату – на ней был красный свитер из какой-то дешевой шерсти – наверное, его переделали из чего-то старого или, во всяком случае, перекрасили, потому что мальчик никогда раньше не встречался с таким запахом – острым, почти ядовитым, – сколько раз потом ему мерещился этот запах – у него прерывалось дыхание, и тогда он решал, что, вернувшись в свой город, он прежде всего разыщет девочку, которая убирала у них квартиру, – он следовал за ней по пятам, из комнаты в комнату – ядовито пахнущий красный свитер обтягивал две выпуклости на ее груди – когда они остались вдвоем в комнате, он подошел к ней вплотную и взял ее за руку – она испуганно смотрела на него своими бесцветными рачьими глазами – одуревший от запаха красного свитера, он потащил ее к дивану со словами: «А вот я сильнее тебя», – он не узнал своего голоса, как будто эти слова произнес кто-то другой, – они барахтались на диване, приминая его выпирающие пружины, – он выхватил из ее руки тряпку, которой она вытирала пыль, и отбросил ее в сторону. «Вот видишь, я сильней», – голос его прерывался, они неподвижно лежали, ее выпуклые бесцветные глаза смотрели на него с выражением тупой покорности. «Не надо», – тихо сказала она, но она не вырывалась, а лежала неподвижно, прерывисто дыша, и сердца их бешено колотились. Велотрек остался позади, музыка доносилась откуда-то издалека – все те же «Дунайские волны» – они проходили мимо большого круглого павильона, засыпанного снегом, дверь его была полуоткрыта – он подал девушке руку, и, пройдя по оледеневшему сугробу, они оказались внутри павильона – это была комната смеха, заброшенная, с кучами мусора на полу, с зеркалами на стенах, многие из них были разбиты. Они пошли вдоль стен, останавливаясь у зеркал, словно осматривая выставку картин, превращаясь то в донкихотов, то в оплывшую жиром семейную чету, – возле одного из зеркал она достала расческу и стала поправлять себе волосы – он попытался привлечь ее к себе, но она выскользнула из его рук – в зеркале, перед которым он стоял, отразился карлик с руками, беспомощно повисшими в воздухе, – схватка между мальчиком и девочкой возобновилась, но он снова оказался наверху – она дышала тяжело, рот ее был полуоткрыт, выражение ее выпуклых, водянистых глаз было бессмысленным – это были глаза умирающего – они лежали неподвижно, и только слышалось биение их сердец – удары их, вначале быстрые и ровные, постепенно потеряв свою ритмичность, стали беспорядочными, галопирующими – сын, стоя возле постели отца, выслушивал его сердце.
15
Он выслушивал отца, приложив к его груди фонендоскоп, – была глубокая ночь, он только что проснулся и его пробирал легкий озноб, рядом стояла мать – она считала пульс, возле изголовья сидела медсестра, вытирая пот с лица больного, – кажется, именно она дежурила в день приезда сына – невысокая полная молодая женщина. «Сколько?» – «Шестьдесят два». – «У меня девяносто». – «Большой дефицит», – мать и сын разговаривали вполголоса, почти шепотом, но это было излишне – выпуклые, близорукие глаза больного были устремлены на потолок, так, как и в день приезда сына, словно он все время силился там прочесть что-то, иногда он пытался повернуться на бок, но ему не позволяли этого, и тогда он начинал выкрикивать: «Я гвардии капитан!», а иногда он выкрикивал эту фразу, лежа на спине и все так же глядя в потолок, – он выкрикивал ее так, как будто хотел кого-то подразнить, а сестра терпеливо разъясняла ему, что он профессор и она работает у него в клинике и даже называла свое имя – на несколько минут он затихал, но потом с еще большим азартом принимался за прежнее – в женщине было что-то домовитое, хозяйственное, и он вспомнил, что ему кто-то говорил, что она замужем. Мать ушла к себе, потому что было уже очень поздно и потому что она всегда плохо себя чувствовала, когда не высыпалась, – оставшись вдвоем, они стали менять отцу простыни – когда на минуту открылись желтые ноги отца с тощими исколотыми бедрами, ему стало неловко, что она видит их в его присутствии, словно это были его ноги, и он старался не смотреть на них, а когда они стали приподнимать его, чтобы подстелить свежую простыню, пальцы их на мгновение соприкоснулись где-то под телом больного, и он вспомнил, что ему говорили, что она недавно развелась с мужем. Он уселся в кресло, положив на колени книгу, а она снова уселась в изголовье отца – он был теперь спокойнее – минутами даже казалось, что он засыпает, – и принялась что-то вязать, но клубок несколько раз выпадал из ее рук, – он читал механически, не понимая смысла фраз, – даже когда он не смотрел на нее, он видел ее, – под белым халатом на ней была легкая кофточка – ее ничего не стоило расстегнуть – и шея ее была шеей молодой женщины – густые каштановые волосы ее были собраны на затылке в тяжелый узел – он представил себе, как, стоя перед зеркалом, она лениво расплетала их, держа в зубах шпильки, – где-то он даже видел такую картину – женщина, расплетающая волосы перед зеркалом, а где-то там, в глубине комнаты, смятая постель – его тело пробирал легкий озноб – во всем доме и, может быть, даже во всем городе только они не спали.
– Вы прилегли бы, – сказал он ей, – у меня там все постелено, – и когда она ушла, мысль о том, что она сейчас ляжет в его постель, которая еще не успела остыть от его тепла, целиком захватила его – он вспомнил, что оставил в своей комнате сигареты. Он вышел в темную прихожую – из кухни доносился храп Насти – он тихонько приотворил дверь в свою комнату – на спинке стула что-то смутно белело – наверное, ее халат или одежда – он слышал ее спокойное, ровное дыхание молодой спящей женщины – не снимая пижамы, он лег рядом с ней, укрывшись тем же одеялом – она тихо застонала во сне и повернулась к нему – рукой он уже ощущал ее горячее упругое тело – она вся потянулась к нему и прижалась, потому что уже давно ждала этого момента, – он продолжал стоять в двери, отсветы уличных фонарей лежали на потолке и на чем-то смутно белевшем, небрежно брошенном на стул, – мальчик и девочка неподвижно лежали – ее выпуклые водянистые глаза с тупой покорностью смотрели на него, сердца их бешено колотились, оглушая его, а из комнаты больного снова послышалось прежнее, озорное: «Я гвардии капитан! Я гвардии капитан!»
16
Он поджидал ее на темном пустыре, напротив здания больницы. Ветер раскачивал фонарь, висевший возле проходной будки, – каждую женскую фигуру, появившуюся оттуда и попадавшую в колеблющийся конус света, он принимал за высокую девушку и даже выбегал из своего укрытия, но когда появилась она, он сразу почувствовал это по тому, что сердце его куда-то провалилось, а потом запрыгало – не теряя ее из виду, он пошел по своей стороне улицы, но на углу перешел на ее сторону и пошел рядом с ней – она даже не удивилась, как будто они шли вместе с самого начала. Они свернули в какую-то боковую улицу – здесь было меньше фонарей – и он остановился и поцеловал ее в щеку, но ему показалось, что он поцеловал пушистый воротник ее шубы, и потом, когда они снова останавливались и он целовал ее не то в щеку, не то в шею, лицо его снова погружалось в этот воротник, пахнувший духами и мехом, так что ему даже не хватало воздуха, – она останавливалась, когда он этого хотел, словно чуткая партнерша по танцу, но все-таки она шла своей дорогой, и у какого-то людного перекрестка они, не сговариваясь, разошлись – он вышел на главную улицу города и пошел по ней, влившись в толпу людей, фланирующих по тротуару, – по асфальту бесшумно скользили троллейбусы и машины, витрины магазинов были ярко освещены, под ногами хрустел вечерний мартовский лед – пройдя немного, он свернул на боковую улицу, и они снова встретились и пошли вместе, опять по той же плохо освещенной улице – ни он, ни она не удивились этой встрече, как будто это было вполне естественно, – они сворачивали в какие-то незнакомые улицы, – целуя ее, он думал о том, что вот он целует ее и что это, наверное, и есть счастье, потому что он так долго об этом мечтал, но, с другой стороны, какое же это счастье, если он не чувствует это, а понимает разумом? Неужели это та самая девушка, которая спросила его: «У вас такой взволнованный голос – что-нибудь случилось?» – это было несколько дней тому назад – он позвонил ей, чтобы узнать, когда она будет у них дежурить, – он не помнил, как вышел из автоматной будки и очутился на середине тротуара – он все еще слышал ее голос, чуть распевный – она беспокоилась о нем и о его отце, и он, понимая всю немыслимость этого и оттого еще больше пьянея, думал о ней как о своей жене – отец поправился, и она поселилась у них, и он устраивается на работу в этом городе, из которого он когда-то уехал, и получает законное право радоваться этим новым домам и магазинам, потому что он теперь житель этого города, и он торопится с работы домой, и на работе все время думает о ней – он стоял посередине тротуара, мешая проходу, и небо над городом было синим и безоблачным – он забыл, что должен был купить в аптеке, и вот теперь он целовал ее, и она позволяла ему это, и это была она, это ее голос он слышал по телефону, но почему для того, чтобы понять, что он счастлив, он должен был припоминать все это – разве ему мало было этого ветреного мартовского вечера и ее душного мехового воротника? – они стояли возле какого-то красного кирпичного здания – может быть, какой-нибудь фабрики или школы, на пустынной улице, под фонарем, и он вдруг понял, что она сейчас уйдет, потому что, хотя они и не разбирали улиц и шли наугад, она все-таки шла своей дорогой, а может быть, он просто должен был взять машину, отвезти ее домой и остаться у нее, и ему вдруг стало легко и приятно от мысли, что они сейчас расстанутся, – он представил себе, как он будет сейчас, возвращаясь домой, думать о ней и о том, что он целовал ее, – наверное, его ладони еще пахнут ее духами, и он будет прикладывать их к своим губам и к носу, погружаясь в воспоминания, которые пока еще были реальностью, и надо было ценить эту минуту, вот сейчас, когда он снова целует ее, и у нее чуть раскосые глаза и пышные волосы, выбивающиеся из-под меховой шапочки, и румянец на щеках – она позволяет себя целовать, она стоит молча, словно ее это вовсе не интересует, и иногда даже рассеянно поглядывает по сторонам – самка, которую нужно взять, – и вот он уже едет в трамвае и нюхает свои ладони, которые пахнут надушенным мехом ее воротника, а выйдя из трамвая, бежит к дому, потому что ему всегда кажется, что это может случиться в его отсутствие.
17
«Все-таки это необузданно – сидеть столько времени», – сказала мать – они с сыном находились в маленькой комнате, превращенной теперь в столовую, а у отца сидела их соседка, ровесница сына, – она жила этажом выше, как раз над их квартирой – у нее было красивое лицо, обрамленное тяжелой русой косой, и чуть подкрашенные губы – о чем они разговаривали с отцом – даже медсестра вышла из комнаты отца, а сын старался не смотреть на мать, но она, кажется, не испытывала никакой неловкости – просто во всем надо знать меру – ему вредно разговаривать и волноваться, и неужели она этого не понимает? – а он испытывал такое же чувство, как когда отец при нем провожал взглядом молодых женщин, – она преподавала французский язык, но, кроме того, кончила консерваторию, и отец с некоторых пор стал усиленно покупать пластинки и часто ставил их, но почти всегда забывал снимать, так что они продолжали крутиться вхолостую, и это раздражало сына, когда он приезжал к ним, – он слышал, как по утрам она стучала каблучками по полу, торопясь на работу, а иногда она разыгрывала какие-нибудь пассажи или музыкальные пьесы, а два раза в неделю она спускалась к ним, чтобы позаниматься музыкой с внуком, который жил у них, потому что бабушка считала, что ребенок должен жить там, где были лучшие бытовые условия, – придя с работы, отец первым делом интересовался, был ли сегодня урок музыки, а иногда он прямо после работы, не заходя домой, поднимался на шестой этаж – он постоянно дарил ей какие-нибудь вазы или чашки или еще что-нибудь в этом роде под видом благодарности за уроки, которые она давала внуку, – мать говорила, что во всем надо знать меру и что он просто потерял голову и что это стыдно – перед сном сын снова слышал, как она стучала каблучками – его комната находилась как раз под ее комнатой, а потом все затихало – ее кровать стояла над его диваном – она укладывалась спать, и он часто мечтал о том, чтобы ночью провалился потолок – ведь все-таки они были ровесниками – интересно, разрешила ли она отцу хотя бы раз поцеловать себя? – однажды, усевшись в кресло в комнате сына, – он любил заходить к нему перед сном, чтобы побеседовать, – сын уже обычно лежал в постели и с нетерпением ждал, когда отец уйдет, потому что ему хотелось спать, – усевшись в кресло, он долго молчал, а потом сказал, что если бы он был другим человеком, то мог бы решиться на что-то, но сыну очень хотелось спать, и кроме того, у него было такое ощущение, как будто он читает чужие письма, а теперь, во время болезни, отец, уже не стесняясь, повторял ее имя, часто давая ей всякие ласковые прозвища, и просил, чтобы ее позвали к нему, и вот теперь она сидела в комнате отца и, может быть, даже гладила его руку или держала ее в своей – после ее ухода отец впервые за все время своей болезни спросил у сына, как продвигаются его дела с диссертацией.
18
«Мы еще выпьем с вами шампанского», – сказал отцу профессор Зайцевич – он все еще не мог отдышаться после подъема на пятый этаж, сидя в кресле, положив нога на ногу, покачивая острым носком своего не по сезону легкого черного полуботинка, утопая в кресле, из которого торчала лишь его глянцевитая лысая голова, то и дело подрагивавшая, словно он от чего-то упорно отказывался или хотел согнать надоевшую муху, – его жена была вдвое моложе его – она работала у него ассистентом, хрупкая блондинка, носившая меховое манто, – они занимали отдельный коттедж, который он окружил высоким глухим забором, но рассказывали, что у нее не переводились какие-то военные, которых она принимала у себя дома, иногда даже в его присутствии, но он считался лучшим специалистом в городе и продолжал все так же подергивать головой и поблескивать стеклами своего пенсне – он только что выслушал отца, с удивительной легкостью переставляя по его спине, покрытой красными пятнами от банок и тщательно оберегаемой от охлаждения, запотевшую от мороза металлическую трубку фонендоскопа, как будто он играл в шашки, небрежно сбивая их одна за другой, – остроумная комбинация, которая должна была привести его в дамки. Отца посадили, задрав кверху его рубаху, поддерживая его, потому что сам он сидеть уже не мог, – ему не хватало воздуха, и он заходился приступами кашля – сначала казалось, что он просто откашливается, и это было вполне естественно, так что, находясь в соседней комнате, можно было вполне подумать, что отец просто немного простужен, но он откашливался намеренно громко, как будто нарочно хотел досадить кому-то, а потом покашливание переходило в лай, но этот лай снова был каким-то неестественным, натужным, словно отец передразнивал собаку и ему это не совсем удавалось, но постепенно он входил в роль, все больше и больше распаляя себя, и уже не мог остановиться, и вот уже сам оказывался жертвой своего озорства – он закатывался сухим, трескучим кашлем, как будто в комнату ссыпали горох или свинцовую дробь, а в перерывах между приступами кашля он судорожно хватал ртом воздух, словно выброшенная из воды рыба, – его близорукие выпуклые глаза придавали ему еще большее сходство с рыбой, но когда Зайцевич стал выслушивать его, он почти перестал кашлять – значит, он все-таки мог сдержать себя, так что Зайцевич, переставляя фонендоскоп, несколько раз даже говорил ему: «Покашляйте», и он покашливал – запотевшая металлическая шашка Зайцевича явно просилась в дамки, так что сын, стоявший тут же рядом, чувствовал на себе прикосновение этого холодного металла, но раз Зайцевич делал это, значит, это можно было – может быть, отец просто слегка занемог, и к нему вызвали Зайцевича, и он осматривал больного. Сидя в кресле, держа в руках пенсне, покачивая острым носком своего ботинка, все еще не отдышавшись от крутого подъема, Зайцевич диктовал назначения, а отец, которого снова уложили, зашелся приступом кашля, но на это не обращали никакого внимания, потому что главное теперь заключалось в тех назначениях, которые делал Зайцевич, а кашель отца был лишь помехой этому. «Мы с вами еще будем пить шампанское», – сказал Зайцевич отцу, надев пенсне и кивком головы сгоняя с себя воображаемую муху, – он пережил отца на три месяца – его похоронили рядом с отцом, но все-таки чуть поближе к центральной аллее – когда на могиле отца оставались только ржавые остовы венков и истлевшие ленты, на могиле Зайцевича еще возвышался шалаш из венков, перевитых красными и белыми лентами, и шалаш этот был чуть пышнее и ярче отцовского, потому что было уже лето и потому что Зайцевич лечил всех ответственных работников города.
19
Была глухая ночь. Он стоял возле окна, а на его диване лежала мать, потому что в ее комнате ночевали теперь врачи из клиники отца – они сменяли друг друга – это были хирурги, ничего не смыслившие в болезни отца, но мать считала, что ввиду ухудшения состояния больного у его постели должны были дежурить врачи, и они приходили – светловолосые мужички, молодые ординаторы – они старательно вытирали ноги, долго топтались в передней, прежде чем войти к отцу, с преувеличенной готовностью и оттого неловко помогали носить и выносить кислородные баллоны, ходили курить на лестничную клетку, зажав, словно школьники, сигарету в кулаке, а по ночам спали беспробудным сном дежурных врачей – мать была в своем синем байковом халате с разводами – она даже не лежала, а полусидела, облокотившись на подушку, – из комнаты доносился кашель – теперь это уже были не приступы кашля, а сплошной кашель, так что непонятно было, когда отец умудрялся сделать вдох, чтобы запастись воздухом, требовавшимся для поддержания в себе такого кашля, – его озорство обернулось теперь трагедией для него же самого – кашель заполнял всю его грудь, всю квартиру, так что, когда он хоть на мгновение прекращался, сын заходил в комнату отца, чтобы выяснить, не случилось ли чего – теперь отец уже все время полусидел, поддерживаемый сестрой или врачами, и это никого не беспокоило, хотя раньше ему запрещалось даже ворочаться, – значит, теперь это уже не имело никакого значения – слово «пневмония» впервые произнесла мать – сын мысленно видел, как серовато-синее уплотнение распространяется все выше и выше, свободными от него оставались только верхушки легких, но и их ждала та же участь, и это были легкие его отца, и они с матерью находились в отдаленной комнате, вдвоем, словно спасаясь от кашля отца, предоставив его другим, – где-то внизу виднелись цепочки фонарей, черная пустынная улица была словно покрыта лаком – чуть приоткрыв форточку, сын прислушивался к звуку шагов на тротуаре – час назад мать позвонила своей приятельнице и попросила ее прийти – приятельница эта была педиатром, но мать считала, что она вообще очень хороший врач и буквально выходила своего мужа, недавно перенесшего ту же болезнь, что и отец, правда, в значительно более легкой форме, и вот теперь они ждали ее прихода, как будто он мог что-то изменить, – иногда сын даже становился коленями на подоконник и высовывался в форточку – в этот момент ему казалось, что кашель отца стихает.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?