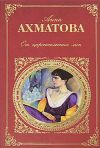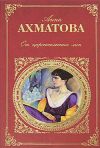Текст книги "«Лето в Бадене» и другие сочинения"
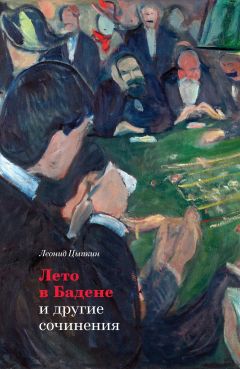
Автор книги: Леонид Цыпкин
Жанр: Классическая проза, Классика
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 30 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
«До свидания», – сказал он девочке с длинными золотистыми косами, стоявшей среди толпы вместе с матерью в подъезде Дома специалистов. Наверное, она снова улыбнулась ему, и кто-то из них, а может быть, оба они сказали друг другу: «Мы еще увидимся».
8
На улице было светло, как днем, и мальчик даже не оглянулся на два железных столба с незатейливым узором, подпиравшие козырек над подъездом дома, где он жил, – сверху с балкона было видно, что козырек этот покрыт ржавым железом, точно таким, каким были покрыты крыши домов, – сколько раз в засыпанном снегом деревянном домике он вспоминал вход в свой дом – хозяйка оставила им только две железные кровати и один стул, а из кухни доносился запах жарившейся на свинине картошки – однажды, когда хозяйки не было дома, мать мальчика открыла маленький висячий замок, которым хозяйка запирала от них кухню, – но и мать мальчика, и бабушка, и сам он знали, куда она прячет этот ключик, – они с мамой вошли в кухню, и она, руководствуясь каким-то безошибочным чутьем, а может быть, она уже и раньше заприметила это место, просунула руку за какую-то занавеску и достала оттуда несколько картофелин, розовых, упругих, немерзлых, и мальчик тоже захватил пару картофелин, и ему хотелось взять еще, но ему казалось, что он слышит шаги хозяйки и что она уже стоит в дверях кухни – это было похоже на ожидание выстрела в спину – замочек почему-то долго не хотел защелкиваться, и ключ застрял, но, наверное, они все-таки оставили какие-то следы, а может быть, хозяйка вела счет своим картофелинам – вечером она раскричалась сначала на кухне, а потом ворвалась к ним в комнату с криком: «Понаехали, окаянные, золото понавозили и еще воруют!» – а мама мальчика в ответ повторяла одно и то же: «Вы что, с ума сошли?» – и с тех пор он понял, что его мама может врать, а второе слово, которое обозначало то, что она сделала накануне, и он помогал ей, он даже мысленно боялся произнести, настолько это не вязалось с его представлением о маме, но насчет «окаянных» и «золота» хозяйка кричала еще и до этого и после этого снова повторяла то же и грозила выбросить их на улицу, а ночью мальчик укрылся шуршащим рыжим плащом отца, потому что отец в это время находился на излечении в психиатрической больнице, – особенно неприятно было, когда он касался голого тела, – сколько раз мальчик вспоминал этот крытый козырьком, опирающимся на два железных столба, вход в свой дом, широкую каменную лестницу, пахнувшую кошками, – эта лестница не раз снилась ему: он поднимается по ней, но почему-то минует второй этаж и оказывается на площадке третьего, последнего этажа – он всегда немного завидовал жившим на третьем этаже, потому что с балкона третьего этажа было видно больше домов, чем с его балкона, и, кроме того, они видели балкон мальчика, как на ладони, а он только мог догадываться, что у них там происходит, – он оказывается на площадке третьего этажа и звонит, но ему долго не отпирают дверь, а потом открывают, и он долго бродит по квартире – расположение комнат точно такое же, как и у них, но в каждой комнате живет семья – настоящая коммунальная квартира, а у них только две подселенных семьи, но все-таки они этажом выше, и он мечтает добраться до их балкона и даже, кажется, выходит на балкон, а когда однажды вечером в газете он увидел снимок своего города, находившегося тогда в глубоком немецком тылу, но снятого с птичьего полета, с наших самолетов, он попытался найти тот квартал, где они жили, – к тому времени он уже знал, что дом их сгорел, да и весь квартал тоже, но он продолжал рассматривать снимок, пытаясь узнать хотя бы соседние кварталы или какое-нибудь другое знакомое место, – ему казалось, что во всем виноват тусклый свет коптилки, – он приблизил фотографию к самым глазам, так что вся она оказалась состоящей из перемежающихся между собой темных и светлых точек – следов типографского клише, а потом, когда после войны они вернулись в свой город, он пошел на то место, где была их улица, и среди груды кирпичей пытался найти остатки железных столбов, подпиравших козырек над входом в их дом, – весь центр города представлял собой сплошные груды кирпичей, среди которых лишь иногда возвышались пустые коробки или кирпичные стены с прилепившимися голландскими печками и развевающимися на ветру обоями, а потом груды кирпичей убрали и на том месте, где находился их квартал и соседние кварталы, сделали центральную площадь города – огромное залитое асфальтом пространство с возведенным посередине деревянным помостом для членов правительства и с бронзовой статуей Сталина, которую однажды ночью ликвидировали, но основание ее оказалось настолько глубоко и прочно врытым в землю, что в течение еще нескольких ночей раздавались глухие взрывы – его доставали по частям, словно корни сломанного зуба. Мальчик забыл оглянуться на подъезд своего дома, но почему я до сих пор помню полутемную улицу с глянцевитым булыжником и с пляшущими тенями приближающихся пожаров и молчаливый, темный трехэтажный дом, ожидающий своей участи, с выходящим во двор и потому не видимым с улицы окном каморки, в которой, сидя на кровати, тихо молилась Стефанида – не то перед образом божьей матери с младенцем, не то перед фотографией своей племянницы, а в темной столовой на массивных высоких стульях с соломенной сеточкой на спинках сидели наши знакомые с Интернациональной улицы, поставив на пол рядом с собой свои аккуратные кожаные саквояжи, – высокий лысый старик с орлиным носом, его жена, еще нестарая интеллигентная женщина, черты лица которой я никак не могу вспомнить, и их дочь, перезрелая девица с узким, как у отца, лицом, в пенсне и с немецким именем Эльза – всех их убили в гетто, а может быть, Стефанида уже бродила неслышной тенью по квартире, открывая шкафы и чемоданы, – уже после войны кто-то рассказывал, что она, захватив какие-то вещи, ушла в деревню к каким-то своим родственникам, но она уже не могла ходить из-за отеков и вскоре умерла – мама до сих пор не может ей простить этого – неужели где-то еще могли сохраниться наши вещи – клетчатый плед, которым укрывался Тусик, или бинокль, который мальчик так и не взял с собой? – это так же неправдоподобно, как обнаружить вдруг труп Гомера или Александра Македонского. Так почему же было светло, как днем? Наверное, это было уже возле объятого пламенем дома Гецова, на углу двух улиц, там, где заворачивал трамвай, как раз напротив того места, где позавчера они с Тусиком, стоя в толпе людей, слушали заикающийся голос из черного репродуктора. Гецова давно уже не было в живых, но в семье мальчика дом этот, так же как и дом Туников, называли по имени его бывшего владельца – в этом доме жил когда-то доктор Минц – о нем в семье мальчика постоянно рассказывали одну и ту же историю, как к нему на прием пришла какая-то женщина и на его вопрос: «На что жалуетесь?» – сказала ему, что когда она дышит, то ей больно, на что он ей сказал: «Так не дышите», – эта история, кажется, пошла от дедушки, который был знаком с Минцем, потом после смерти дедушки ее рассказывала бабушка, потом моя мама и тетка, и когда теперь кто-нибудь говорит, что ему больно нагибаться или ходить, то мама или тетка говорят: «Так не нагибайтесь или не ходите, как сказал бы доктор Минц», и я тоже не один раз повторял эту историю моему сыну, и он, наверное, тоже передаст ее своим детям, если они у него будут – настоящая эстафета поколений! – дом Гецова, в котором жил когда-то доктор Минц, горел, объятый пламенем со всех сторон. Дом этот был четырехэтажный, да еще стоял на возвышенном месте – самый высокий в этом квартале – слуховое окно дома, в котором жил мальчик – он поднимался на чердак со Стефанидой, когда она ходила туда развешивать белье, и, взобравшись на какую-нибудь рухлядь, ухватившись руками за нагретое солнцем шершавое железо, выглядывал в слуховое окно – так вот, это окно располагалось как раз на уровне четвертого этажа дома Гецова, а все остальные крыши внутри их квартала располагались настолько ниже, что их можно было вообще не принимать во внимание, но дом Гецова! – впрочем, мальчик успокаивал себя тем, что дом Гецова стоит на возвышенности, а если бы он стоял рядом с их домом, то еще неизвестно, не оказались бы ли они одного роста, тем более что в доме, где жил мальчик, были очень высокие потолки, так что их три этажа вполне могли бы оказаться такими же, как четыре гецовских, – встречаясь с людьми, преуспевающими в жизни, я утешаю себя мыслью, что я все равно умнее и способнее их, – и вот теперь он горел – скелет, объятый пламенем, и, наверное, скоро он должен был рухнуть, – они шли посередине улицы, потому что противоположный дом с укрепленным на его углу репродуктором тоже горел, но он был двухэтажным – раскаленные головешки с сухим треском падали на мостовую, вдребезги раскалываясь и извергая снопы искр, – было жарко, как будто приоткрыли дверцу паровозной топки, и от дыма слезились глаза, и дальше по улице Розы Люксембург тоже горели дома, постреливая головешками, и только на улице Островского возле дома профессора Ойзермана было темно и прохладно – они остановились как раз под самым балконом Ойзерманов, и мальчик вдруг понял, что была поздняя летняя ночь, но Ойзерманов не было дома, – наверное, они уже тоже ушли, и кто-то из знакомых, проходивших по тротуару под балконом Ойзерманов, окликнул их, и они тоже кого-то узнали и перебросились с ними несколькими фразами. По такой же темной и молчаливой улице они спустились к реке и пошли по деревянному мосту – в черной, еще не успевшей обмелеть Нерочи отражались огни пожаров, пылавших где-то там, наверху – в дни праздников Москва-река точно так же отражает огни салютов, потому что воде все равно, что отражать, – по главной аллее городского парка в обступившей их тьме слышалось шарканье чьих-то ног, из боковых аллей неожиданно появлялись темные фигуры, и такие же фигуры двигались по главной аллее и затем по молчаливым немощеным улицам, расположенным за парком, мимо глухих деревянных заборов и одноэтажных домишек с маленькими черными окнами, в которых уже тоже дрожали багровые блики, и только когда они вышли на шоссе, не на Московское, потому что оно должно было быть самым опасным, а на другое, но тоже ведущее на восток, только тогда мальчику стал окончательно ясен смысл этого шарканья и темных фигур, появлявшихся из боковых аллей и боковых улиц – по обочинам шоссе, справа и слева, тянулись нескончаемые вереницы людей, уходивших из города, – с портфелями, с маленькими чемоданами и с сумками в руках, с велосипедами, на которых было что-то навьючено (мальчик вполне мог не сдавать велосипед – как бы он пригодился сейчас!), с детскими колясками, в которых везли не то детей, не то вещи, а может быть, и то и другое, многие с детьми на руках или ведя их за руку – мальчик никогда не думал, что в их городе живет столько людей, и его даже охватило чувство гордости за свой родной город – можно было подумать, что люди идут на прогулку, или на маевку, или на демонстрацию – только странно – почему под покровом ночи? – многие окликали друг друга, узнавали, справлялись о ком-то – самое главное было не потерять друг друга – мать мальчика и сам он служили как бы связующим звеном между отцом и бабушкой, потому что отец все время отрывался от них и уходил куда-то вперед, – впоследствии, когда уже все стало ясно и отец мальчика, лежа на полу в кишевшей клопами комнате, которую им уступили хозяева, жители одного из провинциальных среднерусских городов, куда они попали в жаркие июльские дни, лежа на полу и шурша рыжим плащом, которым он укрывался, тряс по ночам кровать, на которой спали вповалку мальчик, его мать и бабушка, а днем пожирал огуречную кожуру, ежеминутно подбегал к окну и, увидев военных, начинал метаться по комнате с криком: «Это идут за мной!» – и считал, что его выискивает заведующий местным горздравотделом Татанов, так что это имя стало даже нарицательным в семье мальчика, когда хотели изобразить несуществующую опасность, – когда уже все было ясно, мать мальчика говорила, что это его стремление вперед, этот безудержный бег его были первым признаком начавшегося психоза – бабушка же шла позади, нормальным прогулочным шагом – в семье мальчика считалось, что бабушка любит гулять, – впоследствии бабушка не один раз с гордостью говорила, что только благодаря этому она сумела пройти в свои семьдесят лет эти тридцать шесть километров, и все подтверждали это; быстроту ее шага, кроме того, может быть, сдерживала мысль о том, что Тусик так и не заехал за ними и, значит, остался в городе, и все они, кроме отца мальчика, пристально вглядывались в обгонявшие их грузовые машины – не было ли там Тусика? Стояли самые длинные дни и самые короткие ночи – за спиной их багровело зарево горящего города, а впереди, на востоке, уже светлело, запах дыма, по временам еще догонявший их, смешивался с запахом раннего дачного утра – впрочем, так рано мальчик никогда не поднимался, он мог только догадываться, что это должно быть так, – по обочинам шоссе двигались вереницы людей, а между ними, по самому шоссе, обгоняя их, шли грузовые машины – в кузове их на скамейках сидели темные неподвижные фигуры в фуражках – среди шедших по обочинам прошел слух, что это была не то милиция, не то части НКВД, – мальчик то и дело догонял отца, и пока они, чуть отступив в сторону, ждали бабушку и маму, мальчику казалось, что вереница людей сейчас кончится, и его охватывал страх, что они окажутся последними, и отец нетерпеливо кричал: «Скорей, скорей!», а мама кричала ему, что бабушка не может так быстро ходить, но он, не дождавшись их, снова бежал вперед. Грузовые машины прошли – между двумя вереницами идущих, громыхая по асфальту, ехали запряженные лошадьми двуколки – не то орудия, не то полевые кухни с темными на фоне светлого неба, молчаливо ссутулившимися фигурами бойцов в пилотках – из уст в уста стала передаваться брошенная кем-то фраза, что это отступают наши войска, но говорили об этом почти шепотом, потому что считалось, что границы наши неприкосновенны, – какая-то старуха с растрепанными седыми волосами побежала за двуколкой – она отчаянно жестикулировала, умоляя о чем-то, но ехавшие сидели все так же молча, не шевелясь, – тогда она побежала за какой-то другой повозкой и даже попыталась взобраться на нее, но ехавшие все так же молча сидели, слегка ссутулившись, – тогда она стала кидаться от одной повозки к другой, так что казалось даже, что она это нарочно разыгрывает, а потом она остановилась посередине шоссе, между повозок, бесстрастно объезжавших ее, и, воздев руки к небу, стала громко причитать – легкий предутренний ветерок развевал ее седые космы – кто-то сказал, что она, наверное, сумасшедшая, и только впоследствии мальчик понял, что она была еврейкой. А когда небо совсем просветлело и стало ясно, что предстоит жаркий и безоблачный день, и войска уже почти прошли – мимо идущих с грохотом проносились лишь шальные повозки, догоняя своих, словно отставшие на параде, – над шоссе появились самолеты. Они летели низко, на бреющем полете, серебрясь в лучах еще не видимого солнца, в вырезе фюзеляжа отчетливо вырисовывались фигуры летчиков в шлемах – они проносились над шоссе, уходили в сторону, потом снова возвращались – послышались короткие пулеметные очереди, и многие из шедших по шоссе бросились в сторону, и семья мальчика тоже кинулась в какой-то лесок. С ними было еще несколько человек, кажется их знакомых, с которыми они встретились в начале пути, потом расстались, а потом снова встретились, потому что по пути то и дело встречались знакомые, словно во время демонстрации или народного гулянья, и когда в лесу возле самого уха мальчик услышал эти короткие свистящие звуки «фьюить», как будто кто-то легонько пощелкивал кнутом или подманивал собаку, он не удивился, потому что много раз слышал их, когда смотрел «Семеро смелых» или «Тринадцать», и именно такими представлял себе их, и только крикнул: «Ложитесь!», потому что из книг и фильмов знал, что в таких случаях полагается делать, – взрослые, подчинившись его команде, бросились на землю, положив возле себя портфели, и мальчик впервые понял, что такое утренняя роса. В полутемном еще, предрассветном лесу, где-то вдалеке, между стволами деревьев, промелькнуло несколько серых фигур – не то военных, не то милиционеров, потом все стихло, и когда они снова вышли на шоссе, кто-то сказал им, что они попали в перестрелку между пограничниками и немецкими парашютистами, переодетыми в форму милиционеров, – не с тех ли самолетов, которые летали над шоссе, сбросили этих парашютистов? – впоследствии мальчик узнал, что это называется десантом и что немцы широко пользовались этой тактикой, – значит, они столкнулись лицом к лицу с настоящими немцами – интересно, какие у немцев были лица? и как они могли легко попасться в руки к немцам, но этим передовым группам, видимо, было не до гражданского населения, хотя, как он узнал впоследствии, уже на следующий день немцы возвращали людей в город, который к этому времени уже был занят ими, и мальчик потом не один раз представлял себе, как их семью вместе с остальными попавшимися возвращают под конвоем в город – немецкие солдаты в касках с выступающим массивным подбородком и с бесцветными арийскими глазами загоняют их прикладами автоматов с примкнутыми ножевыми штыками за колючую проволоку, на них нашивают желтую звезду, а дальше уже страшно было додумывать, потому что профессора Ойзермана, так и не ушедшего из города, – очень полного человека с лысиной, которую наискосок пересекала тщательно примазываемая прядь волос, отчего еще больше подчеркивалась лысина, – его вызывали к дедушке накануне его смерти, он молча щупал его пульс, и все ждали его решающего слова – как немцы профессора Ойзермана заставили чистить уборные голыми руками, и он, наверное, задыхался, а потом с ним сделали такое, о чем даже не говорили вслух, и только уже потом его убили, и то же самое могли сделать с его отцом, хотя он, наверное, до этого покончил бы с собой, потому что он уже пытался это сделать, когда мальчик был еще совсем маленьким, – отца привезли и положили на кровать с большим пружинным матрацем – у него был поврежден позвоночник – он бросился в пролет лестницы, когда его вели с допроса или на допрос, – он дал такие фантастические показания, что даже там это показалось подозрительным – у него уже начинался психоз, и его выпустили – он лежал на кровати, не замечая окружающих, и твердил, что он уже никогда больше не встанет. Солнце уже давно поднялось, и было жарко, и хотелось пить, и тогда на шоссе стали появляться колонны людей в поношенной серой одежде, с давно не бритыми серыми лицами, с коротко остриженными волосами – каждую колонну сопровождало несколько бойцов с винтовками на плече, – обгоняя идущих по обочинам, колонны скрывались за поворотом, а когда солнце стояло уже высоко в небе, почти над самой головой, и нещадно палило, и во рту пересохло от жажды, и мальчик научился спать на ходу, на обочинах шоссе стали появляться первые спящие – люди в поношенной серой одежде, с давно не бритыми серыми лицами – они лежали на боку, с чуть согнутыми в коленях ногами, и только на виске виднелась маленькая, круглая, уже подсохшая ранка с запекшейся струйкой крови, теряющейся где-то в щетине, – идущие вдоль шоссе молча обходили их, но, обходя, не отрывали от них взгляда и потом еще долго оглядывались, как бы стремясь запечатлеть в памяти их черты, – точно так же проходили когда-то мимо гроба первого секретаря в клубе Совторгслужащих – вначале все думали, что это немцы, но небо было чисто, и не слышалось никакой перестрелки, а потом распространился слух, что это конвоиры пристреливают тех, кто не может быстро идти и отстает от колонны.
9
Ранней весной из подворотни одного из домов на Кропоткинской улице не торопясь вышел мужчина среднего роста, полный, с лицом не то помятым, не то обрюзгшим, и, остановившись в воротах, обвел улицу взглядом человека, только что родившегося на свет. В его добротном портфеле рядом с папками и книгами стоял пузырек со спиртом – черта с два! – он правильно сделал, что не отдал его этому пьянчуге-слесарю – таким типам, как он, вперед ничего нельзя давать, а кроме того, тот все равно забыл бы до завтра – и так ему пришлось собственной рукой записать на грязном листе бумаги, покрывающем стол, на котором стояли опорожненная поллитровка и мутный граненый стакан и лежали остатки луковицы и корка хлеба, свое имя и отчество и время, на которое он назначил свой приход, – имя он написал свое, потому что на вопрос пьянчуги «Как тебя дразнят?» он в первую секунду растерялся, а отчество – первое попавшееся, но оно оказалось производным от имени пьянчуги, так что тот, скверно улыбнувшись, сказал ему: «Значит, сыном мне будешь?» – они были примерно одного возраста – и, многозначительно покосившись на портфель, не поворачивая головы, потому что он лежал вдрызг пьяный да еще с гриппом, спросил: «Чего там у тебя в чемодане?», но черта с два дал он ему этот пузырек, а когда он услышал про точное время даже с какими-то минутами, которое назначил пришедший, он, все так же брезгливо улыбнувшись, сказал: «Как скорая помощь», но пришедший по своей профессиональной привычке положил кончики пальцев на тяжелое мускулистое запястье лежащего – рука у него была горячая – наверное, у него действительно был жар, – а пульс жесткий, как туго натянутая струна, – пульс склеротика и гипертоника. Впрочем, все это могло быть и на следующий день, когда наконец произошло то, чего он так хотел, – женщина ушла чуть раньше, чтобы не выходить вместе, а он зашел в котельную, где тот, уже выздоровевший, возился с чем-то или делал вид, что возится, – уже хмельной, он посмотрел на вошедшего тяжелым любопытным взглядом – пока они были там, он несколько раз подходил к двери и один раз даже, кажется, попробовал ее – вошедший отдал ему пузырек, а тот увязался за ним и просил подлечить его приятеля – все это могло быть и на следующий день, потому что с чего бы он стал смотреть вокруг себя глазами только что родившегося человека, хотя, с другой стороны, когда выходишь из комнаты на улицу, или даже входишь в трамвай, или вообще переходишь из одного состояния в другое, всегда смотришь вот так вот.
Войдя в метро, человек влился в поток людей – люди спускались по эскалатору в несколько рядов, тесно прижатые друг к другу, словно обреченные, которых по конвейеру доставляли к месту уничтожения, и среди них человек в добротной, но уже не очень новой шубе, с каракулевым, как у артистов, воротником и в каракулевой шапке-конфедератке с опущенными наушниками, придающей ему, несмотря на лицо еврейского типа, странное сходство с пленным немцем – уже с самого верха эскалатора взгляду его открылся подземный вестибюль станции метро, кишащий людьми, и одновременно стали видны тяжелые, чуть покачивающиеся от движения воздуха люстры – все ближе и ближе, словно с самолета, идущего на посадку, – наверное, это было метро «Автозаводская», потому что только там такие высокие своды, позволявшие сразу же увидеть всю платформу, – никакой весны еще не было – зима в самом разгаре, на улице мело – человек просто возвращался с работы домой. Опустившись вниз, он попал в человеческий круговорот – встречный поток людей то и дело увлекал за собой его портфель, он с трудом выдергивал его. Пройдя подземный вестибюль, человек начал подниматься по ступенькам, ведущим к переходу, – скорей всего, это было метро «Таганская» или «Площадь Свердлова» – значит, часть пути он уже проехал, а может быть, только что спустился в метро и сразу же направился к переходу – навстречу ему спускались портфели, хозяйственные сумки, авоськи с апельсинами и батонами, брюки, в меру и не в меру узкие, расклешенные, потрепанные, женские сапожки всех видов и фасонов, ноги, обтянутые чулками, мини-юбки. Среди спускающихся он увидел стройную, модно одетую девицу в очень короткой меховой шубке, брюках на молнии, идущей сбоку, в замшевых низких сапожках, тоже на молнии, с сумкой через плечо – человек чуть замедлил шаг, провожая ее взглядом, – еще минута, и она исчезнет. Расталкивая идущих, он догнал ее, что-то шепнул ей на ухо, она засмеялась, он взял ее под руку, и вот они уже в полутемной комнате, она сидит в кресле в своем костюме, стилизованном под комбинезон, подчеркивающем ее фигуру, а он устроился на ковре у ее ног – замшевые полусапожки он уже снял с нее и теперь начал расстегивать молнию, идя снизу вверх, – чем выше поднималась его рука с застежкой, тем медленней становились его движения, а когда, достигнув ее бедра, он наклонился к прорези и приблизил свои губы к ее телу, словно погружаясь в теплую ванну, его толкнули, кто-то раздраженно сказал ему что-то, он стоял на ступеньках, мешая проходу. Теперь он шел по мостику с перилами, а внизу проплывали крыши вагонов – поезд, быстро наращивая скорость, с грохотом исчез в тоннеле – в черноте его еще виднелись красные сигнальные огни – человек подошел к противоположной стороне мостика и, опершись на перила, посмотрел вниз на черную колею со стальными накатанными рельсами – на них пока еще неуверенно дрожали блики – из черноты тоннеля надвигались два прожектора – поезд стоял, далеко не дотянув до конца платформы, и это казалось странным – стоящий поезд и длинный неприкрытый отрезок пути – возле одного из вагонов темнела небольшая толпа – со всех сторон бежали люди – толпа увеличивалась на глазах – человек тоже побежал – протиснувшись сквозь толпу, он увидел лежащего на асфальте в луже темной крови мужчину с отрезанными ногами – лохмотья одежды были впрессованы в мясо, а кисть руки судорожно сжимала портфель, лицо трупа было черным – наверное, его убило электричеством, но все это было не сейчас, а однажды летом, поэтому ему так легко было бежать, а сейчас человек спускался по лестнице в своем тяжелом добротном пальто, с портфелем в руках – маленькая частица среди огромного потока подобных себе. Вдоль края платформы в несколько рядов стояли ожидавшие поезда, и он влился в этот новый, на секунду остановившийся поток – взгляд его невольно упал на облицовку стены – белый мрамор, пересеченный по горизонтали черной кафельной лентой, – автобус с траурной каймой медленно двигался по главной улице города, за ним целый кортеж машин – на каком-то перекрестке милиционер даже перекрыл движение, чтобы пропустить похоронный проезд.
10
«Какая у него мягкая рука… как у живого», – сказала какая-то женщина, поправив руку отца, – траурная процессия остановилась напротив серого дома – из автобуса хорошо были видны окна квартиры – четыре окна и балкон с пузатыми колоннами из ноздреватого известняка. «Говорят, это бывает только у тех, кто прожил свою жизнь очень чисто», – сказала другая женщина, а кто-то третий постучал в кабину водителя: «Поехали», – и автобус тронулся, а за ним вся процессия.
На кладбище было полно снега – на улицах он уже таял под лучами весеннего солнца, а здесь люди утопали по колено в снегу. Вокруг свежевыкопанной могилы, на земляной насыпи плотным кольцом разместились провожающие, кто-то попытался влезть на насыпь, но, не удержавшись, сполз назад, некоторые примостились на соседних оградах, остальные небольшими кучками или поодиночке стояли поодаль на утоптанных местах, вполголоса ведя деловой разговор. Над гробом один за другим выступали ораторы, они говорили громко – это было видно по их артикуляции и жестам, но не было слышно ни одного слова, а в промежутке между выступлениями ораторов во всю мощь звучал фальшиво исполняемый траурный марш Шопена – человек стоял рядом с матерью возле самого гроба, поддерживая ее под руку, однако делал он это как-то неестественно – чувствовалось, что это для него непривычно. Остальные близкие – его жена, родственники, друзья – находились тут же, возле самого гроба, однако улавливалась какая-то невидимая дистанция, отделявшая их от человека с матерью, – тем самым как бы молчаливо подчеркивалась наибольшая близость этих двоих к покойному и их право на особое положение. Небо заволокло тучами, шел редкий снежок – он ложился на лицо покойного, на его костюм – отец всегда боялся холода – выходя зимой на улицу, он поднимал воротник своей старомодной шубы, и мать тоже боялась, что он простудится, – во время болезни отца форточку открывали в соседней комнате, а из той комнаты открывали дверь в комнату, где лежал отец, – новую шубу с удлиненным, как у артистов, каракулевым воротником отец успел поносить всего несколько месяцев, она очень шла сыну, и сегодня он надел ее под предлогом кладбищенского ветра, исподтишка бросив на себя взгляд в зеркало, стоящее в передней. Он беспокойно искал кого-то глазами, иногда даже вытягивая шею или приподнимаясь на цыпочки, – он старался делать это незаметно, потому что в такую минуту это не полагалось, – пока не встретился глазами с высокой девушкой с чуть раскосыми глазами и пышными черными волосами, выбивающимися из-под меховой шапочки, – она стояла чуть поодаль, позади толпы, окружавшей могилу, – поймав на себе его взгляд, она опустила глаза, а потом и вовсе отвернулась в сторону, как будто они даже не были знакомы.
11
Низкое утреннее солнце заглянуло через ветровое стекло, ослепив его, так что он опустил защитный козырек – обычно на этом месте, рядом с водителем, сидел отец – весь уйдя в свою шубу с поднятым воротником, он сидел, чуть повернувшись к сыну, слушая и не слушая его, потому что он всегда был занят своими мыслями, а может быть, ему просто мешал поднятый воротник – он то и дело протирал рукой запотевшие очки, не снимая их, когда же он снимал их, было видно, что у него глаза навыкате – в них сквозило выражение беспомощности, а с подбородка свисали две дряблые складки, как у боксера, – лицо его уменьшилось за последние годы, так что оно совсем пряталось в поднятом воротнике, – сын рассказывал ему о столичных новостях, небрежно называя фамилии ученых, чьи доклады он слушал или с которыми встречался на заседаниях, и с таким же чувством превосходства он рассказывал отцу об открытии новой станции метро или о какой-нибудь театральной премьере, как будто это было его собственной заслугой, а отец протирал очки и рассеянно покачивал головой, не то в такт речи сына, не то в такт собственным мыслям – сукно его каракулевого воротника снаружи было прострочено множеством стежков. В этот ранний час воскресного зимнего дня улицы города были почти пустынны – в воскресные дни в это время мать обычно еще не вставала, Настя, уже побывав на рынке, возилась на кухне, делая заготовки к обеду, меню которого было тщательно обсуждено уже с вечера, а они с отцом уже выходили из дома – в магазинах у отца были знакомства, наверное потому, что он лечил кого-нибудь из работников прилавка, – сын нес сумку с продуктами, потому что отцу нельзя было носить тяжести, хотя портфель, с которым он ходил на работу, а потом на обратном пути заполнял его бутылками с кефиром или банками с консервированным компотом, был, наверное, намного тяжелее этой сумочки, но сын считал своим долгом носить ее, потому что больше он ничем не мог помочь отцу, – войдя в магазин, отец протирал очки – даже когда он входил с улицы домой, у него был вид человека, только что вошедшего в трамвай, а на обратном пути сын переходил улицу в неположенном месте, потому что, что такое была эта улица по сравнению даже с самой окраинной улицей Москвы, а отец делал крюк и дожидался на переходе зеленого света, а потом они поднимались по лестнице на пятый этаж – отец останавливался на каждой площадке, чтобы отдохнуть, а сын чувствовал себя в эти минуты особенно здоровым и сильным и молодым – он еле сдерживал себя, чтобы не взмыть пулей на пятый этаж, – он тоже останавливался где-нибудь, на один или два лестничных марша выше отца и делал несколько громких выдохов, чтобы показать отцу, что он тоже устал. Сквозь защитный козырек, который он опустил, небо казалось густо-синим, словно перед грозой или где-нибудь на юге, и точно такое же небо – не то предгрозовое, не то южное, увидел он однажды сквозь застекленную крышу троллейбуса – это было уже в разгаре болезни, он возвращался домой с диабетическим хлебом и лекарствами для отца – безоблачное небо, предвещавшее весну еще в разгаре зимы, и странно потемневшие дома, как будто солнце вдруг спряталось за тучу, – новые, чужие дома, выросшие здесь без него, в его городе.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?