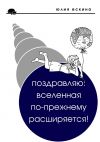Текст книги "Ниднибай"

Автор книги: Леонид Фраймович
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 6 страниц)
Упорядоченные записки бывшего жильца
Привет! Как дела? Можешь не отвечать.
Из SMS
Часть 1

Какой ужас! Я – еврей!
Мама всё рассказала: мы, то есть папа, мама я и сестра, принадлежим к проклятому народу евреев. Это тот самый народ, который предал Христоса. И за это другие народы ненавидят и презирают их.
Сегодня Сёма из дома возле базара рассказал мне, откуда берутся дети. Оказывается – для этого папы и мамы должны чухаться. Непонятно, как от простого чуханья могут появляться дети, но мне теперь стыдно.
Я просто не могу смотреть на взрослых.
Витька, наверное, не знает, что я еврей. Сегодня на линейке кто-то назвал меня жидом, и он полез драться. Его все боятся. Он самый сильный в классе. У него руки длинные и прямо, как крюки.
Первый раз видел, как папа плакал. Мама заболела. Он думает, что она умрёт.
Дети из школы дразнили контуженного после войны. Он бросил в них огромный камень, который пролетел рядом со мной и ударился со страшным грохотом в ворота школы. Всё произошло так быстро, что я даже не успел испугаться. Я испугался уже потом, когда представил себе, как плакал бы папа, если бы камень попал в меня. Но я не дразнил же.
Папа сказал, что купит телевизор! Чтобы маме не было так скучно сидеть: она теперь не может ходить. Класс! Мало у кого в городе есть телевизор.
Есть телевизор! Соседи ходят к нам смотреть. Николай Иванович и Марья Ивановна. Папа и мама их очень уважают. Мама даже заставила сестру извиниться, когда она сказала Марье Ивановне «дура».
Сестра пролепетала: «Малья Вановна, звените, со вы дула». Соседи очень смеялись. Даже мне было смешно.
Они учителя. А Николай Иванович вообще директор школы.
Пацаны в школе скручивали и курили сухие листья. Я тоже попробовал. Какая гадость!
Вовка из соседнего дома сдёрнул с меня трусы, когда я разговаривал с Маринкой, соседкой из другого бока нашего дома. Я от стыда расплакался, а Маринка стала меня утешать, что она ничего не видела. Потом взяла и поцеловала меня в щёку. Странная какая-то.
Хоть бы меня забрали из этого пионерлагеря! Сегодня в уборной один пацан посмотрел на меня и спросил: «Ты что, бедненький, из евреев?» Я хотел сказать «нет», но сказал «да».
Как он догадался?!
А вожатый, который рядом с уборной зачем-то лапал вожатую, подмигнул ей и сказал: «Каждая царапина укорачивает жизнь».
У нас, видимо, всё-таки один живой дедушка есть.
Папа с мамой всё время говорили, что все наши бабушки и дедушки погибли во время войны. Но оказывается – этот дедушка поссорился с мамой, и они долго не разговаривали.
А теперь, когда мама заболела, он приехал мириться и даже плакал.
Сидели мы на уроке. Вдруг дверь открывается, и кто-то как закричал: «Человек в космосе!». У меня сердце радостно ёкнуло: вот оно, началось! Что-то из чудесно-странного. Космические полёты. Другие миры… Уже никаких уроков не было. Все только радовались. Но говорили почему-то о том, какая наша страна сильная, что мы уже теперь точно перегоним Америку, построим коммунизм, все люди будут братьями и будут жить мирно. Скорее бы.
Этот жирный первоклашка с круглой и розовато-свинной мордой испортил мне весь новогодний вечер. Нам сказали смотреть, чтобы младшие не трогали ёлку, а он что-то пытался оторвать от неё. Я подошёл и схватил его за руку. Он вырвал руку и сказал: «Пошёл вон!».
Я разозлился и тихо проговорил: «Ты чего орёшь?» А он мне в ответ: «Я знаю кто ты». Я почему-то спросил: «Кто?».
И тут этот кабан как закричит: «Жид!». Меня как-будто кувалдой по голове грохнули. Язык отнялся. Многие слышали, и я видел, как некоторые осклабились. И главное, слышала Верка, самая красивая девчонка в школе.
Вчера на медосмотре каждого пацана подзывали к столу и заполняли анкету. У нас в классе все оказались украинцами, кроме длинного Вальки и меня: мы оказались русскими.
Когда мы выходили, длинный Валька подмигнул мне и сказал: «Мы с тобой самые умные».
Папа рассказал, что, когда его во время войны, после месяца на фронте под Сталинградом, отправили – вместе с другими бессарабцами – работать на шахту в Сибирь, какой-то власовец прицепился к папе, что он еврей, и они подрались. Это было на краю шахты. Оступившись, власовец не удержался и упал в шахту. Папа был в ужасе.
Вокруг было полно народу, шахтёров. Кто-то похлопал папу по плечу и сказал: «Идём». Больше никогда никто не вспоминал об этом случае.
Я спросил папу: «Приходилось ли тебе стрелять в немцев на фронте?». Он ответил: «Приходилось». Я говорю: «И они падали убитыми?».
Папа сказал: «Не знаю» – и перевёл разговор на то, как будучи страшно голодным во время войны, съел полную кастрюлю варёного лука. Его потом стошнило, и он вырвал всё. С тех пор он на варёный лук даже смотреть не может.
А мама возразила, что у них, во время блокады Ленинграда, такое блюдо считалось бы деликатесом.
Переходим в другую школу. Будем учиться теперь одиннадцать лет. Вот не везёт!
Сегодня мой друг мне сказал, что за мной «гоняется» одна девчонка. Потом добавил: «Ты, вообще, хороший пацан, если бы не…» – и замолк.
На пляже познакомился с курортницей, Олей. Тоненькая, с глазами, как море. Она меня попросила смазать её кремом от загара.
Пока смазывал, она успела прощебетать всю свою родословную и что мама у неё русская, а папа калмык.
Вдруг этот одноглазый придурок говорит: «Калмык?!».
Оля ему: «Калмык. А ты что – националист?». Он отвечает: «Нет. Я люблю все национальности, кроме жидов, которые вечно дрожат».
Я сказал, что пойду в туалет, и ушёл с пляжа. Больше Олю я не видел.
Наконец-то понял, почему в свободно падающем на Землю лифте наступает невесомость. Потому,
что сила тяжести в том и проявляется, что лифт и все предметы в нём, падают.
Для того, чтобы медленно поднимать вверх какую-либо массу в таком лифте, нужно лишь небольшое усилие для замедления этого падения.
Если же лифт не падает, то для такого же результата нужно сначала приложить усилие, полностью препятствующее падению массы, а затем добавить к нему ещё небольшое усилие.
Подрался с Джоном. Он меня толкнул в классе.
Я упал, вскочил и в ярости ударил его кулаком в скулу.
Потом, когда мы помирились, Джон сказал мне, что у меня было такое зверское лицо, что он просто опешил, поэтому не дал сдачи.
Теперь ясно, почему космический корабль вращается вокруг Земли и не падает на неё. Дело в том, что, на самом деле, он всё время свободно падает на Землю, но никак не может упасть, так как касательная к орбите скорость всё время поднимает его ровно на столько, на сколько он упал. Поэтому-то в таком космическом корабле и невесомость, как в свободно падающем лифте.
Выпускной вечер. Почему-то тоскливо. Теперь поеду поступать в институт. В этом году два выпуска: десятые и одиннадцатые классы. Конкурс будет дикий. Хуже всего, что как раз во время экзаменов в институт будет чемпионат мира по футболу – фиг посмотришь.
Папа рассказывал, как он потерял полноги. В 1942 году, после месяца боёв на фронте у ст. Карповка, что под Сталинградом, всех бессарабцев, и его в том числе, сняли с этого фронта и послали «отдохнуть» на три года в сибирскую шахту.
В 1945 году опять взяли в армию и направили к границе в Забайкалье. Там его и ещё несколько солдат отправили на боевое задание и при этом «забыли» сказать, что по дороге своё же минное поле. Конечно же они подорвались на мине, и осколок попал папе в ногу.
Только в 1946 году попал в Иркутский госпиталь, но было уже поздно: гангрена, пришлось отрезать.
«Зато, – добавил папа с улыбкой приятного воспоминания, – отъелся: шея была шире головы».
Ленинград не такой, как я думал. Мрачнее. Общежитие грязновато.
Со мной в одной комнате трое. Один – кубанский казак, который почему-то воробьёв называет «жидами». Другой, – с хорошим музыкальным слухом, всё время выбивает пальцами на столе «восьмёрку». От него и я научился. А третий – всё время мне говорит: «Ты, вроде, русский, а нос у тебя нерусский».
Каждый вечер у окна в доме напротив общежития какая-то молодая женщина, в ярко освещённой комнате, снимает с себя лифчик, и множество абитуриентов комментируют это событие. Абитуриентки тоже комментируют, но по-другому.
* * *
Оторвите меня билетиком,
Бросьте в ящичек «Для использованных…».
Я хочу полежать отогреться там
От вконец надоелой осени.
Заверните меня в обёрточку,
Прицепите на ней наклеечку,
Что я зла накопил лишь горсточку,
Что я жизнь собирал по копеечке.
* * *
Пораскиньте своими кудряшками,
Разудалые боги древности:
Ну зачем вы такими зигзагами
Изукрасили род человеческий?
Советы начинающему нацисту-любителю
Значит так. Начинать нужно с малого:
Пристрелите пару евреев.
(Если нет автоматов – повесьте их.
Для начала – можно и за ноги).
Если нужно пытать, то пытайте по-разному.
Не старайтесь быть консерватором.
Например, если иглы под ногти втыкаете,
То потом нестандартно выбейте глаз ему.
Получив влюблённую пару,
Хорошо бы связать их вместе.
Пусть попялят на дружку фары.
Постарайтесь держать их так с месяц.
В каждом деле нужна капля дерзости,
Чтобы жизнь была бы вам в радость.
Не достигнуть нацисткой мерзости,
Не любя страстно делать гадость.
Не поступил. Тошно. И стыдно перед родителями.
Надо было набрать 15 из 15, а у меня только 12. Возвращаюсь домой.
Дадут ли на следующий год ещё раз попробовать?.. Или заберут в армию?..
* * *
Уберите свои датчики!
Что карманите в моём сердце?
«Подъевреивал» я удачу,
А «съевреил» в котёл дверцы.
Приехали в село на комбинат провести телефон для директора. Дядя Саша (так я называл старшего надо мной смуглого, высокого, симпатичного монтера-еврея) попросил секретаршу-нацменку, которая, приняв его за своего, уже начала с ним заигрывать, сказать, что приехали монтёры, и назвал свою фамилию. Она зашла к директору…
Вышла оттуда с надменным лицом и произнесла: «Директор сказал, что сегодня не надо, а завтра пусть пришлют кого-нибудь другого».
Вышли на улицу – по радиоточке Ойстрах играет на скрипке. Дядя Саша говорит: «Вот умел бы ты так на скрипке играть – не работал бы монтёром. Жлобство, пьянь, похабщина».
На следующий день еду в то же село с другим старшим. Он, дыша на меня перегаром, цедит:
«Что не пустили его? Чтоб знал, как дурить нас, православных. Правильно?».
Вернулись из села, а во дворе управления стоит жена «телеграфного столба» и жалостливым голосом мне: Синок, цеж воно… на вашому жидивському кладбыщи… багато памъятныкив побилы».
Вновь плацкарта в Ленинград. Только успел отвертеться от Советской Армии – Израильская преподнесла сюрприз.
С одной стороны приятно: за шесть дней размолотили кучу арабских армий. А с другой – теперь опять, наверное, фиг поступишь в институт.
Поступил всё же! Правда, если б не лучеглазая красавица, Марина, то сейчас было бы неизвестно: устная физика – 5, устная математика – 5, а в письменной математике – решил все задания правильно, но в последнем, время уже закончилось, и я впопыхах написал неправильный ответ.
Однако теперь – наверняка: простили ошибку!
До сих пор я думал, что среди евреев не бывает красавиц. Может, слишком умные?.. Ан нет!
В ней – и то, и другое.
* * *
Волны задницей прибоя
Давят зыбкость берегов.
Солнце раскалённо воет,
Тучку светом проколов.
И застывшим коромыслом
Жрёт сверкающую синь
Ослепительная птица…
Жизнь – борьба, куда ни кинь.
Опять общежитие. Опять четверо.
«Старик» – двадцативосьмилетний студент, любящий выпить и «вслепую» легко выигрывающий у меня в шахматы, хотя я считал, что играю неплохо.
Коля – не по годам задумчив. Основное положение – горизонтальное. Особенно, перед экзаменами, которые, по его мнению, нужно переждать, как пережидают осень или зиму.
Толик – умён, высок, замкнут, с затаённым желанием «пробиться». Может на спор съесть за один присест девять эклеров.
И я – неруссконосый еврей, у которого, как выяснилось из походов на «подкормку» к родителям Марины, от смущения пропадают все мысли, и начинает жутко бурчать в животе (до такой степени, что однажды дядя Миля, отец Марины, подмигнув Марининой маме, тёте Зине, повёл меня прямо из-за стола в туалет).
Ночью приходили две проститутки. Одна подошла к «Старику», а другая ко мне, стащила с меня одеяло и спросила, как меня зовут. У меня страшно забурчало в животе…
Потом «Старик» выяснил, что они ошиблись дверью: их пригласил Славик, красавец, сексуальная гордость института, владевший папой-секретарём обкома в Белоруссии.
«Старик» пошёл их проводить и заодно, может, выпить. Утром он рассказывал, что «девочки» подрались из-за того, кто будет спать со Славиком, а кто с ним, «Стариком».
В результате обе спали со Славиком и остались довольны.
Подружился с Димкой из нашей группы. У него мускулатура, как у Тарзана. Качается штангой. Полощет нос солью. Говорит, что в детстве был очень хилым. Иногда подрабатывает тем, что достаёт на спор задницей потолок в узком коридоре общежития.
Сошлись на том, что оба любим пофилософствовать.
Родителям
Всё в порядке, мои дорогие.
Дождь всё так же стучит мне в окно.
И его косолапые ливни
Нашептали мне это письмо.
Разве мало на свете печалей?
Разве мало их было у вас?
Что ещё бы вы мне рассказали?
Что ещё бы спросить мне у вас?
О себе и писать-то противно.
Я всё так же здоров и умён.
Поглощаю в обед витамины,
Зубы мою всегда перед сном.
А у вас как? Всё так же тоскливо?
Тяжело и вставать, и уснуть?
И купаться опять без отлива?
И смотреть кинескопную муть?
«Старичочки» мои золотые,
Я-то думал, что всем помогу.
Я ведь думал, что всех осчастливлю.
А выходит – я лгу, просто лгу.
Ну да ладно, всего не распишешь.
До свиданья, знакомым «прывiт».
Помогай им, сестрёнушка. Слышишь?
Всех целую. Ваш сын, Леонид.
Автопортрет
Глаза, как у коровы.
Седые кудреля.
Так организм здоровый.
Вот разве голова?..
В голове муравейник: раньше науки разделялись. Понятно было, где математика, где физика, где химия.
Углубляясь-расширяясь в своих познаниях, я не мог понять умнею я или глупею.
Химия, внедряясь в электронные оболочки атомов, превращалась в физику; физика, заполучив теорию относительности, вместе с пространством принимала облик геометрии-математики, которая симметрией, экспериментами теории вероятностей, выводом законов сохранения, опять становилась физикой, уже неотличимой (со своими квантами, элементарными частицами и причастностью к космологии) от философии.
Непонятно было, где кончается физика и химия и начинается биология. Где кончается биология и начинается история.
* * *
Кто пуст, тому в толпе привольно:
С толпы по слову – мозги полны.
* * *
В познании горе? Счастье в неведении?
Угрюмым кажется нам мир,
Когда простейшее явление
Доводит нас до утомления.
* * *
Друзья, скажу вам кратко я:
«Кто травит речи сладкие
И рвёт слонов в словесной муке,
На деле убивает муху».
* * *
Великий Гейне, только две строфы
Шепни мне. Полных тайной грусти.
А я их выдам за свои…
И ангел в рай меня пропустит.
* * *
Бойтесь, бойтесь скуки —
Тихонькую жуть.
Стискивайте зубы,
Чтобы не уснуть.
«Старик» «вылетел» со второго курса и скрылся в извилинах Дальнего Востока. Коля дотянул до четвёртого.
Толик и я пока задержались.
Надя сказала, что если бы я не был «такой хороший парень», то не дала бы себя целовать.
Когда шли по лестнице в общежитии, я сказал, что жалко выбрасывать деньги на всякую ерунду. Она в ответ засмеялась: «Ну ты, прямо, как жид. Терпеть-ненавижу». Я остановился и спросил: «Что?». Надя встрепенулась и покраснела: «Ой, извини. Я забыла. У моей сестры муж – полуеврей, и ничего – хороший человек».
Выявил ещё два своих недостатка: если не выучу по нотам, то часто неправильно пою мелодию, а когда кушаю, так из носа течёт (короткое замыкание что ли в голове между слюнявым и сопливым нервами?). Оба Надя мне подметила: «Ой, ты же фальшивишь». И в тот же день: «Ты всегда шмыгаешь носом, когда кушаешь».
Сегодня Джон приходил. Он учится тоже в Ленинграде. Потом Надя мне сказала, что Джон «шикарный парень».
А про Вову она заметила, что «он ей очень, ну просто очень, нравится». Интересно, к какой категории он относится: сексуальной, хорошей или шикарной.
Оказалось, что Вова – «симпатичный парень». Итак, я теперь знаю такие градации мужских достоинств: сексуальный мужик, хороший парень, шикарный парень, симпатичный парень и хороший человекоеврей.
* * *
Обожди, я тебе отомщу.
Научусь только вот не любить.
Научусь только вот не жить
И мучения в пустяк превращу.
Я пойду пожалуюсь морю.
Причешу его серую гриву.
Нагрублю животу его с горя.
Нахлестаюсь прибоя-пива.
А потом – забалдевший и синий,
Под ракушачьий хруст кудрявый,
Буду хлопать по спинам дельфинов,
Буду в солнце глядеть, шалаву.
* * *
Когда осенний небосвод
Устало чертят листьев длани,
Душа взволнованно бредёт
По улочкам воспоминаний.
Вот поворот, мой дом, и вновь
В нём грусти и веселья даты.
На клумбе с надписью «Любовь»
Прочту всех глупостей цитаты.
Брожу по лужам простоты,
По кирпичам непониманий.
Вот бочка: в ней мои мечты.
Открыл – и поминай как звали.
Когда очнусь – облезлый клён
Кивает в такт дождю и веку.
Как будто понял странный «сон»
И всё прощает человеку.
* * *
Не всё ли равно вам? Из праха ведь вы.
Сегодня вы живы, а завтра – увы.
Сегодня вас греют любовью и лаской,
А завтра убьют равнодушия маской.
* * *
Я еду в одиночество.
Стучат, стучат колёса.
И жизнь мою заносит
Останками несбывшихся надежд и упований,
Обломками разбившихся каравелл мечтаний.
Перешёл в другую комнату. Теперь нас три с половиной еврея: я, Люсик, Илья и колоритный Саша, то ли узбекский еврей, то ли еврейский узбек, из Бухары, который если чему-нибудь удивляется, то говорит гортанно: «Э!..» – и надолго замолкает.
Люсик и Илья из одного и того же местечка. Люсик рассказывает, что в детстве не говорил на русском – только на идиш и на украинском. Он не любит евреефобов, но и сам не евреефил, и часто предупреждает меня: «Евреи – плохой народ». Илья любит искусство и умеет усыпать почти мгновенно после принятия горизонтального положения, не договорив начатой фразы. Несмотря на всё, обладает хорошей памятью.
* * *
В твоих глазах читаю я разлуку.
«Счастливо!», – говорю в закрывшуюся дверь.
Благодарю тебя! И вот такая штука:
Я был несчастлив – счастлив я теперь.
Уже привык, что границы между науками расплывчаты и условны. И уже спокойно отношусь к тому, что для оценки всех моих высказываний достаточно нуля или единицы Булевой алгебры. Что куб памяти электронной вычислительной машины совсем не похож на выкорчеванный мозг.
И даже к тому, что мы расстались: видимо, «хороший парень» и «хороший» человекоеврей не чета просто «симпатичному парню».
Итоговые оценки получились вполне приличные. Только коммунизм у меня получился не совсем научный. И, видимо, как следствие, политэкономия. Это логично. Но как связаны с коммунизмом теория механизмов и теоретическая электротехника?.. Пока не знаю…
Теперь дипломная работа.
Этот руководитель моей дипломной работы с блудливой фамилией или ничего не знает, или не хочет знать: даже литературу не сказал, где достать.
Почти ничего не могу найти по этой теме. Изобретаю сам.
Сейчас, когда я уже получил тройку по дипломной работе и увидел ухмылку моего руководителя, до меня дошло: мои итоговые оценки были настолько неплохие, что, если бы я получил пятёрку по дипломной работе, то меня, еврея, не ленинградца, пришлось бы оставить (при распределении на работу) в Ленинграде: спрос был велик.
Унизительно. Но, главное, опять стыдно перед родителями, перед дядей Милей, перед тётей Зиной, Мариной, Витей и вообще перед всеми: умный-умный – и обкакался. Скажу, что четвёрка.
А может – не умный?..
На комиссию по распределению, в знак протеста, пошёл в старой, рваной футболке.
Та, с которой я расстался, увидев меня, сказала: «Ты чего?!..».
Комиссия тоже удивилась, но «сделала вид». В итоге получился Ярославль.
Люсику присудили Тамбов, а Илье – Владимир.
Военную практику на кораблях отменили. Осталась просто практика. Мою спиртом накопители на магнитных лентах и ничего не понимаю в мигающих лампочках вычислительного центра завода.
Но зато есмь провожаемый уважительными взглядами работников, когда везу бутыль со спиртом со склада.
Чтобы не отупеть, начал читать книгу об алгоритмах и рекурсивных функциях. Так я кажусь себе умнее: если уж ни фига не понимать, то хотя бы на более высоком уровне.
Практика закончилась. Я вновь в Ленинграде. Получаю дипломные «корочки».
Выпускная вечеринка. От Кати исходил такой аромат, смешанный с грустью расставания, что я поцеловал её в губы. Она ответила… Кое-кто смотрел на нас завистливым взглядом.
* * *
Еврей ли тебе половина,
Катя-Катюша, скажи?
Не отыскать славянина
В нашей Великой Руси?
Что ты нашла в этих грустных
Карих семитских глазах?
Римскую месть захолустью
И унижения страх?
Уж не снести мне вторично
Эту любовь-нелюбовь.
Искариотова притча
Завтра помянется вновь.
Снова появятся толпы,
Грустно бредущих людей,
Газовой камеры сопла,
Крики – и плачи детей?
Вечное это скитание
Не для того ли дано,
Чтоб не забыли страдания?
Впрочем… То было давно.
Странно. Евреефобии «достаточное количество», жлобства – тоже, рожи краснопьяные «цветут» в метро и на улицах, сыро, холодно, иногда грязно.
Но расставаться с Ленинградом тяжело. Ощущение, что был долго знаком с красивой женщиной, сквозь грязные лохмотья которой просвечивал стройный силуэт. Теперь по этапу. В Ярославль.
Перед дверями отдела кадров круто развернулся и пошёл сел на обочине напротив. Чего я испугался, ведь был уже здесь на практике?.. Просто понимал, что студенческие годы закончились, и не мог в это поверить.
Потом всё же зашёл.
Прощай, Свобода!
Работаю инженером, то есть опять же: мою спиртом накопители. Удивительным образом соседи по комнате в заводском общежитии напоминают «Старика» и Колю: один – умница-алкоголик, другой – не в меру задумчив. Может просто вероятность велика?..
Переписываемся стихами с Мариной. Она ещё и неплохо сочиняет.
Приезжала сестра с полной, глазастой, молодой еврейкой. Стало почему-то грустно-жалко их: вдруг замуж не выйдут?
Договорились с этой глазастой переписываться.
* * *
Два чувства знаю я: иронию и жалость.
Союз их странный, оказалось,
Родит в мозгу нелепейшие слухи,
Что близок, криво шкандыбаясь,
Незрим, но верен миг разлуки.
Драма в двух действиях
Действие первое.
Он:
Грей плыл к Ассоль,
Как вдруг Нептун надул щеку,
Икнул, ругнулся,
Сел, поудобней развернулся…
И понеслась…
Так лист осенний кружит вальс,
И даже Архимед не скажет,
Где этот лист на землю ляжет.
Действие второе.
Она:
Ассоль ждала, лишилась снов
И думала, гоняя женихов, кляня стихию:
«Не все дождутся Алых Парусов,
Но синие – ведь тоже неплохие?».
И прекратилась одна переписка.
И началась другая.
И договорились встретиться вновь, но в Ленинграде.
И Димка спросил: «Ты хорошо подумал?».
И я ответил: «Да».
И была помолвка.
И учила меня танцевать вальс Лена с глазами цвета дыма.
И была опять война в Израиле.
И была свадьба.
И поехали жить в Ярославль.
И жили там.
И уехали оттуда.
И прошёл год.
Годовщина
Давай-ка прикинем, давай-ка припомним,
Как прожили жизнь мы семьёю своей.
Любили? Любили. Кутили? Кутили.
Квартиры меняли, как цыган коней.
Прописку и мясо искали подолгу.
В театры ходили и писем ждали.
Шутили? Шутили. Грустили? Забыли.
Выходит, что жили мы, как короли.
Моя дорогая, пусть будет не хуже
Нам в новых, идущих навстречу годах!
Открыли? Открыли. Налили? Налили.
Так выпьем, чтоб было всё именно так.
И прошло ещё время.
И жили в Аккермане на съёмных квартирах.
И работал я инженером.
И никак не мог понять инженер чего я.
И менял я работу.
И устроился работать на строящийся завод инженером.
И родился сын.
И назвали его Михаил.
И ещё называли его: Мишутка, Мишушка, Мишулька, Мишулик, Махрютка, Мышастик, Маняшка, Масик, Масюха, Мышонок, Гайгайгаечка, Мишунтик-Кузюнтик, Мишулька-Кузюлька, Букалка, Масёныш, Махрюшка, Махрюнтик, Малыш, Малышик, Масёнок, Зайчонок, Зайчуха, Лапушка, Цыплёнок, Геракл; Граф де ля Пись де ля Пук де ля Как Герцог Нарыгай-Навоняйский; Писюшка, Кузёныш, Волосатик, Мальчишечка, Солнышко, Черноглазик, Глазастик, Чмокалка, Глупыш, Роднулька, Лягушонок, Человечек, Моё родное Существо, Мой родной Мальчик, Маленький мой, Сыночка…
И стал повелевать он сердцем моим, и умудрил его.
В 9 часов 40 минут 7 июля 1976 года. Вот когда родился этот человечек. Вес – 3100 грамм. Рост – 50 сантиметров.
Утром я пришёл в роддом и услышал: «Ваша жена – уже нормально, а ребёнок выживет или нет – не знаем».
Мир стал чёрным. Нет! Не может быть! Как же это?! Я ведь шёл сюда с надеждой на счастливую весть!
Вчера вечером я отвёл жену в роддом, так как уже прошли все сроки. У неё были сильные отёки и другие проблемы, но я верил, что всё обойдётся.
Не обошлось. Видимо, мало было: войны-блока-ды, папиного протеза, маминой неподвижности в кресле, бесплодных моих попыток им помочь с помощью заменяющих тело механизмов, еврейского унижения и унижения от осознания всё возрастающего комплекса своих недостатков.
Нужно было что-то более убедительное.
Диалог
– Суета, суета одолела тебя.
Вот и всё: этот Круг завершается.
– Я хотел бы покой.
– Новый Круг, дорогой.
Это всё, что тебе причитается.
– Но когда же и где, отчего же и чем
Завершится моё наказание? —
Лишь молчание в ответ…
Верно, это был бред…
Не стена – бесконечность молчания…
Приходили подробности со знакомыми и неизвестными сжимающими сердце словами: белая асфиксия, вакуум, тугое обвитие пуповины (еле сняли), нарушение мозгового кровообращения третьей степени, пневмония, тетрапарез, 20 – 40 (60) минут не дышал, нет (слабый) сосательного рефлекса, судороги, внутричерепное кровоизлияние.
Дома, оставаясь один, я метался от глубокого пессимизма к слабому оптимизму и от обоих – к неизвестности. Будет ли Малыш жить? Если да, то будет ли здоров? Если нет, то будет ли ходить, не будет ли полным инвалидом, и если не будет ходить или будет полным инвалидом, то будет ли всё это понимать?
Но одно я уже знал наверняка: эту кроху я люблю-жалею и никогда не смогу его оставить.
Мишутке становилось то лучше, то хуже (хуже – по странному совпадению – всегда после приезда в роддом тёщи).
Через 14 дней, после очередного ухудшения, Мишульку с женой отправили в Одессу, в областную больницу (в отделение патологии новорождённых).
Круги продолжались: это была та самая больница, где лежала мама, где её забыли под рентгеновским аппаратом (врач сказал: «Можете подавать на нас в суд»), откуда она приехала полумёртвой лежачей и уже больше никогда не смогла ходить.
Я ехал вместе с ними и только теперь впервые увидел Мишушку.
Маленькое существо спало, чмокало губками и дышало кислородом из подушки. Чёрные бровки, верхняя губка выступает над нижней – вот и всё, что я запомнил с того времени.
И ещё жалость. Безмерную жалость-любовь, которая звенит во мне и до сегодняшнего часа, когда я пишу эти строки.
Потянулись горестно-длинные дни, в которые, приехав в больницу или позвонив по телефону, я с пульсирующим сердцем ждал, что скажет мне жена.
Тёща с какой-то ещё родственницей повадилась тоже ездить в Одессу.
Мишулику опять становилось то хуже (в том числе, из-за вспышек пневмонии), то лучше.
Иногда я слышал, как он плачет: басом, словно медвежонок.
В один из дней врач сказал, что нужна моя кровь, чтобы перелить Мишуньке. Я опять увидел моего сына: чёрную головку, бледное личико. Мой Человечек плакал: ему было больно, так как переливали в вену его височка мою кровь.
Сердце вновь разрывалось от любви-жалости. Слишком часто и слишком рано моему мальчику было так ужасно больно.
Бывая в этой больнице, я узнавал от жены о страданиях и смертях других детей, так же или по-другому больных.
Душа наполнялась горечью. Я не знал, что так много и так часто страдают дети.
После переливания крови Мишунтику стало лучше. Его посмотрел невропатолог и поставил диагноз – паралич всех четырёх конечностей. Говоря мне это, жена заплакала, а у меня в очередной раз заледенило душу.
Я не знаю – есть ли Рай, но Ад безусловно есть. Это та ирреальная реальность, в которой я «имею счастье иметь несчастье» жить. Правда, некоторые и даже очень-очень неглупые, вплоть до гениальности, люди считают, что жизнь – это прекрасный подарок.
Но ведь иногда то, что у одних вызывает боль, другим – приносит наслаждение.
Тост
(По мотивам произведений Омара Хайама, Льва Толстого и кинофильма «Кавказская пленница»)
Будь весел!
Этот мерзкий мир – лишь сна короткий бег.
Настанет смерти день —
Проснёшься, человек.
Как хорошо, что не рождаются навечно!
Какое счастье, что живём короткий век!
Так випьем же за то, чтобы, не дай Бог, не нашли средство для продления жизни!
* * *
В дебрях усталости вязнет наш ангел
раскаяния.
И в безысходность усилий тонет со стоном
душа.
Где же вы? Где же Ты? Судьи-Мессия
страдания.
Явится ль чудо, сомнения скалы
круша?
Но вращает рулетку
Он
Непоспешно.
И, видать, не дождёмся
Их,
Что потешно.
* * *
Боже! Сколько сказано слов!
Сколько спето!
Но кому, для чего, почему?
Ты Молчун – не даёшь Ты ответа.
И не дашь? Никогда? Никому?
* * *
Всё сказано уже. Добавить невозможно.
Когда покажется – родил ты новость-мысль,
Со стула встань, оденься осторожно
И к психиатру обратись.
Наконец настал день (24.08.1976 года), когда Малышика выписали из больницы, и мы приехали домой.
Махрюнтик очень плохо спал, нервничал: сопел носом и делал плавающие движения руками. Мы по ночам и днём качали его на руках. Давали ему бром, глутаминовую кислоту. Я видел, что Черно-глазик очень болен, но верил, что теперь, когда он дома, и мы будем лечить его, ему будет становиться лучше и лучше. Он ел очень мало: ему было тяжело глотать (паралич горла), часто срыгивал, рвал, и, из-за всего этого, плохо набирал вес.
Когда мы начали его подкармливать (с трёх месяцев) молочными смесями, Маняшка немного поправился. Личико у него стало кругленькое, даже щёчки появились.
А тельце худенькое оставалось (гипотрофия второй степени).
Фигурка у Мишутки красивая, чисто мужская: таз узкий, плечи широкие, всё пропорциональное. Спинка и ручки волосатенькие (таким и родился).
Вот и теперь, когда я, наконец, нашёл время описать всё, что произошло, мы продолжаем лечить Мишульку.
Я завёл дневник его лечения.
То ли начался новый круг мучений, то ли старый продолжается: тестя засудили на десять лет за приписки.
Ко мне он относился хорошо, и я его уважал, но был мне непонятен и не вписывался в мои представления о евреях (несмотря на все предупреждения Люсика): любил выпить, покутить, «пошершеляфамить».
Написал письмо в Москву, Брежневу, с описанием нашего положения и просьбой помиловать тестя.
Вызвали в военкомат. Думал заберут на сборы. Но завели в какую-то комнату с интеллигентно слащавым мужиком, который мягко предложил мне: или «стукачество» для КГБ, или тоже самое. Короче, совершенно свободный выбор.
Что интересует КГБ? Да пустяки: всё подозрительное ну и, в том числе, если, может, кто в Израиль засобирался. Потом отпустил недолго подумать.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.