Текст книги "Драма жизни Макса Вебера"
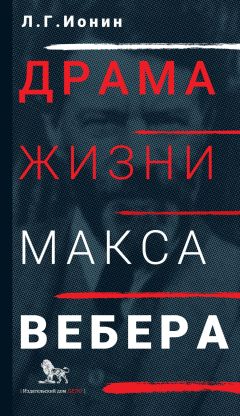
Автор книги: Леонид Ионин
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 24 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Язык в науке
Теперь, как обещано выше, несколько слов о языке книги. Ясно, что многие термины и описания, которые встречаются на предыдущих и, возможно, будут встречаться на следующих страницах, трудно отнести к языку науки, особенно социальной, например демоны, да и те же самые поллюции и эрекции. У кого-то даже это может вызвать негодование, мол, какая же это социология. Но посмотрим на вопрос шире. Социология – это двойственная вещь. Есть социология как наука, есть социология как гуманитарное исследование. Применительно ко второму случаю у нас говорят о гуманитарных науках. То есть в нашем языке это различие не выражено достаточно ярко – и то и другое именуется наукой. У нас даже философия именуется наукой – в классификации ВАК есть раздел «Философские науки». Может возникнуть некоторая путаница. А вот в английском языке под наукой (science) понимается то, что мы считаем естественными науками, то есть науки, которые имеют эмпирическое основание и суждения которых могут быть проверены опытом – верифицированы или фальсифицированы. Поэтому если в английском языке говорят social science, то имеется в виду социальная наука, организуемая по модели и методологии естественных наук. В ней должно быть много математики. Science без математики не science. А нарративная социология, такая, в частности, как у классиков и вообще теоретиков, подходит под рубрику «исследования культуры» (culture studies), «философия культуры» или «гуманитаристика» (humanities). Хотя, разумеется, никто не освобождал ни тех ни других – ни саентификов, ни гуманитариев – от требований логики. Логическая строгость мышления и внимание к фактам должны быть свойственны социологам, работающим в обоих жанрах. Разумеется, все эти разделения достаточно условны, в реальной работе социологов часто смешиваются оба жанра и их трудно разделить.
Нас здесь интересует язык, не язык науки вообще (крайне сложные эпистемологические проблемы вроде формирования научных понятий мы не затрагиваем), а тот язык, который можно считать правильным либо уместным в одном и другом типе исследований. Что я под этим подразумеваю, попытаюсь прояснить, сославшись на статью социолога из Австралии – специалиста в culture studies скорее, чем в social sciences – Алана МакКи. Так и хочется сказать: что хорошего может быть из Австралии! («Из Назарета может ли быть что доброе!») Тем не менее он написал интересную статью под любопытным названием «В социальных науках не говорят Titwank». Идея в том, что языковые предписания, практикуемые в социальных науках, с одной стороны, и в гуманитарных – с другой, сильно различаются. В частности, в social sciences избегают «вульгарного» языка при описании секса, тогда как в гуманитаристике и исследованиях культуры он в определенной степени допускается. Это ярко проявляется в журнальной политике. МакКи, например, рассказывает, что однажды послал рукопись статьи на тему сексуальности и ее отражения в массмедиа в ведущий журнал по социальным наукам. Статья была принята, но рецензент просил внести ряд изменений, так как некоторые выражения, по его мнению, являются вульгарными и ненаучными. «В статье говорится… ‘wanking’ вместо masturbating… ‘tit rubbing’ вместо breast rubbing or fondling… ‘turkey slapping’ [and] ‘titwanking’… Я сделал замены, которые были предложены, и статью опубликовали»11, – пишет МакКи. Видно, что замены эти, как говорится, вкусовые и отражают не столько характер «научного» языка при описании соответствующих реалий, сколько представления рецензента о языковой норме.
У автора есть много разных интересных мыслей, но здесь меня интересует лишь язык, и интересует прежде всего в отношении к настоящей книге. До сих пор я не очень провинился перед воображаемым рецензентом, разве что его внимание сможет привлечь онанизм вместо мастурбации (с. 96), но это ведь почти цитата из Бинсвангера, великого невролога начала XX в., а тогда именно так все и называлось. Что же касается пресловутых поллюций и эрекций, то это ведь вполне естественнонаучные термины, суждения относительно которых вполне могут быть фальсифицированы. Может вызвать возражение и даже отталкивание не просто эрекция, а эрекция у Вебера, но это уже не по линии языка, а по линии морали, как мы это описали в предыдущем разделе.
Тем не менее в настоящей книге, которая все же претендует на то, что это не беллетристика, а научная биография, трудно, если вообще возможно, реализовать принципы социальной науки в позитивистском смысле, то есть social science. Потому что в последней есть требования, которые просто невозможно удовлетворить, например требование объективности, которая теперь обычно понимается процедурно как фальсифицируемость, или необходимость оставаться в рамках парадигмы, то есть, по сути, требование, чтобы новое исследование согласовывалось с теми, которые были проведены ранее. Здесь как раз так не получается, по крайней мере, применительно к отечественной научной среде, где эта книга вряд ли находит предшественников и единомышленников, хотя с некоторыми западными работами она согласуется, прежде всего с книгой Радкау, собственно и открывшего нового Вебера, у которого был не только героический аскетизм, как о нем писали десятилетиями и часто продолжают писать и сейчас, но и, простите за вульгарность, эрекции и поллюции, а также демоны, определившие во многом его творчество. В наших толковых словарях, к сожалению, не находится сколько-нибудь приемлемого определения термина «вульгарность». Чаще всего решающим в определении является слово «пошлость». И наоборот. «Разрешите вас познакомить. Пошлость – это вульгарность! Вульгарность – это пошлость!» А если приемлемого определения нет, то и пошлость, и вульгарность определяются контекстуально. И мы опять возвращаемся к противопоставлению социальных наук и гуманитаристики. И можем перефразировать Алана МакКи: в социальных науках (во всяком случае, в России) не говорят поллюция и эрекция. А в гуманитаристике, по крайней мере, как показывает наша книга, это допустимо. И мне кажется, очень важно, чтобы термины обыденного языка допускались в научные описания, потому что они скрывают за собой целые области человеческого опыта, в которые, может быть, через посредство сугубо научных, строго определяемых понятий вообще не пробиться.
На научном языке нужно остановиться особо. Почему-то вышло так, что в русском языке научная терминология для описания разделов человеческого опыта, связанных с полом и сексуальностью, практически отсутствует. А когда делается попытка перенести их напрямую из других языков, результат выглядит не меньшей пошлостью, чем вульгарное просторечье или непристойный жаргон. Я вспоминаю, как давно, еще в советское время столкнулся с новаторской для того времени статьей уважаемого И. С. Кона из области сексологии. Там приводилась таблица с классифицированными по полу и возрасту данными о приобщении молодых соотечественников к разным формам сексуального опыта. Среди категорий этого опыта фигурировали «легкий петтинг выше пояса» и «тяжелый петтинг ниже пояса». Я даже вздрогнул, прочитав эти обозначения. Сейчас не помню, задавались ли девочкам и мальчикам вопросы типа «в каком возрасте вы стали практиковать тяжелый петтинг ниже пояса?» Вообще каким-то загадочным образом мы пришли к тому, что все слова, касающиеся сферы половой жизни, – это ныне, как правило, транскрибированные по-русски слова из иностранных книжек. Сегодня все эти консумации и мастурбации представляются труднопереносимой пошлостью. Хочется воскликнуть: «И это в языке Пушкина, Достоевского, Акунина, наконец!» Мог же А. С. Пушкин объясниться с читателем так, чтобы «не рассердить богомольной важной дуры, слишком чопорной цензуры». А нынешние авторы не только не могут, но и не пытаются. Конечно, можно сказать, что Пушкин – не ученый, ему таких языковых трудностей преодолевать не приходилось. Но наши ведь и не преодолевают. Они просто переписывают, что читают, только русскими буквами. Все эти гендерквиры, гендерфлюиды, демибои и демигерлы (это все из Википедии!) – одна, только малая часть нового языка науки о любви и сексе. Это даже не обязательная когда-то научная латынь, это просто с английского. Но и латынь не должна непременно транскрибироваться по-русски. Например, для обозначения непристойного языка, непристойной лексики возникло слово «обсценный» – «обсценный язык». Это вроде из латыни, но пришло через английский. Правда, по-английски это, во-первых, звучит приемлемо [əbˈsiːn], во-вторых, представляет собой термин обыденного языка. У нас же это вроде научный термин, и не в какой-нибудь науке, а в филологии (!) Слово «филология» вроде бы первоначально имело смысл «любовь к слову», но именно филологи принесли это слово («обсценный») в русский язык, а от сексологов и психологов пришли все эти петтинги, консумации, демигерлы и пр. Для этого надо очень не любить русское слово. И все теперь говорят на этом совершенно «обсценном» языке. Поистине наступает «глухота паучья».
Но вернемся к сциентистике и гуманитаристике. Настоящая книга имеет в основном нарративный характер, и в этом смысле относится скорее к гуманитаристике. Основоположник нейропсихологии знаменитый А. Р. Лурия любил говорить о «романтической науке» и считал нужным писать книги двух видов: формально-структурные, которые он именовал классическими, и другие, как он выражался, романтические. Из собственных работ к первым он относил, например, «Высшие корковые функции человека», ко вторым – «Маленькую книжку о большой памяти» (раннее название «Ум мнемониста) и «Потерянный и возвращенный мир» (с подзаголовком «История одного ранения»). Хотелось бы, чтобы настоящая книга в какой-то степени соединяла в себе черты обоих этих жанров.
Диагнозы
Продолжим рассмотрение болезни Вебера. Самым распространенным объяснением болезни Вебера практически все врачи считали отсутствие нормальной половой жизни. В медицине (и не только в медицине) того времени (и не только того времени) это было общим местом. Недостаточные либо, наоборот, избыточные половые сношения считались главной причиной любого рода неврологических нарушений. Этому способствовало новое открытие пола в психоанализе Фрейда, его учеников и последователей. Свое мнение о психоанализе вообще и об идеях Отто Гросса, одного из enfants terribles психоаналитического движения, сам Вебер жестко сформулировал позднее, когда волей судьбы оказался замешан в одном из громких сексуальных скандалов эпохи (с. 207). Й. Радкау, которого можно считать одним из главных специалистов по «эпохе нервозности» (так называется его книга, на которую мы ссылались выше), говорит, что точка зрения, согласно которой секс – лучшее лекарство от душевных проблем, была популярной в среде врачей. И не только в среде врачей, но и в самых широких народных массах. Есть много оснований считать, что такое мнение, по крайней мере в широких народных массах, господствует и по сей день.
Так вот, даже в самом первом санатории на Бодензее, куда направился Вебер при обострении симптомов болезни, его лечащий врач Мюльбергер пришел к выводу, что в корне веберовских несчастий лежит недостаточное половое удовлетворение (R, 277). Супруга Марианна и тогда, и впоследствии жестко критиковала такой диагноз, ибо в этой медицинской констатации содержался как бы невысказанный упрек в ее адрес по причине ее недостаточной женственности, привлекательности, отсутствия шарма и пр. Но был в этой ее критике и позитивный аспект – она находила источник болезненного состояния мужа в необходимости «морального самопреодоления», то есть преодоления последствий слишком жесткого воспитания в детстве. Врачи полагали необходимым обеспечить супругам «нормальную» половую жизнь, что должно было стать основанием полного выздоровления мужа. Марианна же считала иначе. Дело не в их супружеской жизни, ибо в течение многих лет подобных проблем не возникало. «У тебя не возникало сексуальных возбуждений, – писала она мужу, – поскольку у тебя вообще не было нервной болезни. И эта половая неврастения, по моему убеждению, есть следствие нервной возбудимости вообще и исчезнет вместе с нею, а не наоборот». Кроме того, писала она, «Альфред недавно сказал мне, что у него затруднения возникают, только когда разгуливаются нервы, и никогда иначе»12. Это к тому, что брат Альфред, очевидно, тоже страдал половой неврастенией, хотя и не в такой тяжелой форме.
Врачи в разных санаториях – в Констанце на Бодензее, в альпийском Урахе – применяли разные методы лечения, в частности лечили гипнозом, как раз входившим в моду в то время, прибегали к разным манипуляциям, о которых Марианна пишет с отвращением, в частности к обертываниям, лечению электричеством13. Главное – доктора, кажется, не понимали, что происходит с больным. Общая позиция всех консультантов состояла в том, что больному нужно обеспечить «половое возбуждение» и что это обязанность жены. Грубо говоря, жена должна пробудить мужа сексуально, что в дальнейшем должно привести его к выздоровлению. Такое суждение не требует специального медицинского образования, это – на уровне народных рецептов. Но что гораздо хуже, больной и его супруга в результате оказывались в тупике. Ведь в этих рецептах, даже если их давали светила медицины, не учитывалось, что супруги живут в браке вот уже пять или шесть лет, что таких приступов неврастении раньше не возникало, что половых сношений в браке, скорее всего, не было и что брак, тем не менее, как можно предположить, был счастливым. Муж и жена были товарищами и были нужны друг другу. Как жена в таких обстоятельствах должна «сексуально возбудить» мужа? Тем более что доктора, выдвигая такую рекомендацию, одновременно прописывали больному успокоительные таблетки для избегания ночных эрекций. Марианна приходила к выводу, что «ничего позитивного об этих вещах врачи не знают»14.
Самый общий диагноз медиков гласил: неврастения. Это был крайне популярный в то время, но при этом очень двусмысленный диагноз. Он мог выглядеть как успокоительно расслабляющим («это ведь только нервы», нарушения в вегетативной системе), так и опасно настораживающим – как приближение душевной болезни (R, 291). Применительно к Веберу он выглядел скорее тревожно. Призрак душевной болезни постоянно бродил вокруг семейства: душевная болезнь Эмми Баумгартен, с которой был помолвлен Макс еще до встречи с Марианной и мать которой (Ида Баумгартен, родная сестра матери Макса) позже покончила с собой; сумасшествие отца Марианны, свидетельницей чего она стала еще в детстве; психические заболевания троих ее братьев; наконец, тяжелая депрессия и самоубийство юного племянника Макса Отто Бенеке, которого Максу и Марианне некоторое время пришлось опекать уже в тяжелые годы болезни Макса. Кроме того, упоминание менингита, или воспаления оболочек головного мозга, перенесенного Максом еще в раннем детстве – как минимум внешние следы менингита он сохранял вплоть до времени студенчества, – заставляли консультирующих профессоров озабоченно покачивать головами. Да и господствующее в культуре в то время представление о связи духовной одаренности с душевной болезнью прекрасно укладывалось в диагноз. Книга знаменитого итальянца Чезаре Ломброзо «Гениальность и помешательство» уже тогда была причислена к научной классике. А культ Ницше, господствовавший в Европе, превращал больного, страдающего философа в икону интеллектуалов. Вебер и его жена относились к учению Ницше с его иррационализмом и имморализмом явно отрицательно, что, однако, не означало отрицания его таланта и силы убеждения. Ницше был элементом их духовной среды, частью воздуха, которым они дышали, и тревожную мысль о связи гения и безумия они вдыхали с этим воздухом.
Все это заставляло Вебера пристально всматриваться в себя, опасаясь увидеть знаки потери разума и буквально заставляя себя мыслить четко и методично. Уже гораздо позднее, в предпоследний год своей жизни, в письме Эльзе Яффе он ругает свой тогдашний «чуждый любви холодный мозг», признаваясь тем не менее, что «этот шкаф со льдом часто был мне нужен, целые годы он был последним спасением, тем, что оставалось „чистым“ против бесов, которые играли со мной в свои игры, когда я болел (да часто и раньше)» (MWG II/10, 514). Радкау высказывает, на наш взгляд, обоснованно мысль о том, что стремление добиться максимальной четкости мышления, да и убедить себя в том, что болезнь не разрушила его разум, объясняет тот факт, что первыми работами, которые последовали в период относительного выздоровления, стали именно методологические работы.
Указанная двойственность неврастении заставляла Вебера в попытках самодиагностики делить симптомы болезни на физические и психические. Он разъяснял в письме матери, что апатия, которая им овладевает, это «не психическая» апатия, а нарушения речи – «чисто физическое явление, отказывают нервы» (R, 295). Это все совершенно не медицинские понятия, а своего рода натурфилософские попытки понимания собственной болезни. Кроме того, здесь опять налицо стремление заговорить болезнь, то есть обезопасить себя от нее путем произнесения магических формул, отделяющих физическое от психического; физическое – это функциональные нарушения, которые хотя и не привязаны к каким-то телесным изменениям, но имеют проявления в телесных функциях, тогда как психические функции – способность логически мыслить, например, а также способность отслеживать и умственно фиксировать проявления собственных болезненных процессов и состояний – эта способность остается незатронутой. Когда Вебер говорит о локальных функциональных нарушениях физического характера, он, скорее всего, имеет в виду именно сексуальные нарушения. Но, как справедливо восклицает Радкау, можно ли предположить, что сексуальность – это исключительно физический, то есть исключительно телесный процесс, а не сочетание физического с психическим? И можно ли всерьез предположить, спросим мы, что изощренному уму Макса Вебера было недоступно понимание психической природы сексуальности? Поэтому мы и говорим, что указанное подразделение симптомов на физические и психические и попытки свести болезнь к физическим проявлениям – это не столько попытки диагностики, сколько заговаривание душевных ран. Иначе это трудно объяснить. Конечно, такое псевдорациональное, а в сущности суеверное поведение не делает чести пророку «расколдовывания» (с. 222), но его можно понять как проявление страха перед потерей разума. «Не дай мне бог сойти с ума. // Нет, легче посох и сума; // Нет, легче труд и глад», – писал Пушкин. Страдания – физический или психический характер они имели – конечно, затемняли восприятие и мешали мыслить ясно.
Другие диагнозы
Несколько слов о других попытках диагностировать болезнь Вебера и объяснить ее происхождение. В качестве альтернативы неврастении предлагалась истерия, что для самого Вебера было в определенном смысле более приемлемо. В обоих случаях речь идет о функциональных нарушениях психосоматического характера, но с точки зрения тогдашних представлений при неврастении следовало бы говорить об унаследованных органических пороках, а при истерии – о текущих расстройствах, которые могли быть излиты наружу и таким образом хотя бы на время изжиты. Именно поэтому врачи говорили, что неврастения доставляет страдания больному, а истерия, прежде всего, окружающим. Истерия сначала понималась как женская болезнь, происходящая из неудовлетворенности матки (от греч. hуstera – матка), позднее этиология изменилась и истерия (она же истерический невроз) стала пониматься как и мужская болезнь. Вебер позже много размышлял о культурно-историческом характере истерии и связи с истерией определенных религиозных представлений и практик, в частности женских истерических пророчеств и греческих оргиастических культов (ХИО, 2, 245–246). Теперь во время болезни истерия была одним из альтернативных диагнозов. Но основательность того или иного диагноза не предполагала изменения лечебных процедур. Не было, да, по-моему, и до сих пор нет отдельного лекарства от истерии или отдельного лекарства от неврастении. Все болезни невротического характера лечатся в конечном счете одинаково в зависимости от преобладающих симптомов, на которые и ориентированы предписываемые больному препараты и процедуры.
Отдельного рассмотрения заслуживают предполагаемые причины болезни. Но нервные и психические болезни представляют собой столь сложное многоуровневое сочетание разного рода феноменов, что искать для каждого случая одну причину просто бессмысленно. Если ее все же хотя бы предположительно называют, то оказывается, что вывод делается не на основе опыта изучения индивидуальной болезни, а на основе парадигмы, в которой работает тот, кто называет болезнь. Не от единичного к общему, так сказать, делается заключение, а от общего к единичному – не от больного к болезни, а от болезни – к больному. Соответственно подбираются (определяются) и причины.
Применительно к болезни Макса Вебера работали две парадигмы: модель научной неврологии того времени и модель только еще зародившегося психоанализа. О научно-неврологическом подходе рассказывает Радкау: Отто Бинсвангер, автор самого знаменитого в то время пособия по неврастении, объяснял своим студентам, что рано или поздно «почти каждый неврастеник» «раскроет вам свое сердце и попытается доказать, что он стал несчастной жертвой своих юношеских глупостей» – читай: онанизма15. В научно-неврологическом и вообще в научно-медицинском обиходе того времени онанизм виделся иногда как вредная привычка, а чаще как болезнь, следствием которой становятся многочисленные психические расстройства. Поэтому избегание онанизма рассматривалось как строгое требование половой гигиены; оно предписывалось медиками, его внушали родители детям, а те, кто не сумел избегнуть соблазна, но не был обнаружен как занимающийся онанизмом, носил в себе эту тайну как бомбу с часовым механизмом, которая нередко сама по себе порождала в человеке внутренний, иногда невыносимый психический конфликт. Там же у Радкау приводится несколько историй болезни пациентов, ставших жертвой собственных фобий, вызванных занятиями онанизмом. Часто неврастенические симптомы таких пациентов напоминают симптомы болезни Вебера.
Напоминают, да. Но в книге о Вебере Радкау старается показать, что по целому ряду причин заключить «по аналогии» о причине болезни Вебера невозможно. Аргументация у него весьма причудливая. Так, говорит он, такому объяснению (через онанизм) противоречит факт ночных поллюций у пациента. Почему он противоречит? Потому что у взрослых мужчин поллюции встречаются очень редко, а еще реже в случаях, когда сексуальный позыв был уже удовлетворен в состоянии бодрствования. Однако последнее, как представляется, не могло происходить с Вебером именно в тот период. «Если верить записям старого Ясперса, Вебер научился этому (половому сношению. – Л.И.) только с Миной Тоблер и Эльзой Яффе» (R, 298). Если половых актов не было, а поллюции были, значит, и онанизм исключается. Так мыслит Радкау. На самом деле именно сексуальная аскеза, которой Вебер, «человек с сильной половой конституцией», в некотором смысле даже гордился, и могла привести к ночным поллюциям или вообще к половой неврастении даже в отсутствие половых актов в состоянии бодрствования. То есть не безвольное и безответственное самоудовлетворение было виной страданий профессора, а, наоборот, героическое воздержание.
Такое объяснение можно назвать научно-неврологической парадигмой. О психоаналитической парадигме мы уже рассказали – это объяснение через отцеубийство, комплекс вины и конфликт Я и Сверх-Я. Что сразу бросается в глаза, так это то, что две модели объяснения отнюдь не должны исключать одна другую. Просто речь идет о разноуровневых процессах. Неврология изучает нервную систему и ее заболевания, психоанализ – влечения человека и их превращения в ходе социальной жизни. Нервная система – носитель этих самых влечений. А пресловутые поллюции и эрекции, а также припадки – эпилептические и коитальные – это необходимые связующие звенья, которые соединяют в познании два подхода и соответственно две системы понятий и методов, а в самом человеке – его нервы и его личную жизнь. Поэтому ситуация, описанная в предыдущем абзаце, может быть истолкована и с точки зрения неврологии, и с точки зрения психоанализа, и в практике объяснения и понимания связать оба подхода.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































