Текст книги "Сочинения русского периода. Прозаические произведения. Литературно-критические статьи. «Арион». Том III"
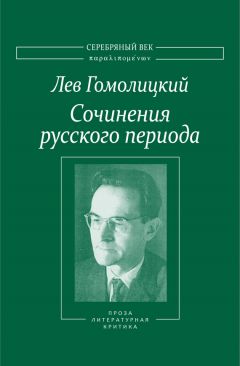
Автор книги: Лев Гомолицкий
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 54 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
Ветка черемухи
«Ветка Черемухи» – второй сборник стихов молодого польского поэта Яна Щавея{165}165
Ян Щавей (1906–1983) – польский поэт крестьянского происхождения, в послевоенной Польше участвовал только в крестьянских общественных организациях. Собрал капитальную двухтомную антологию польской поэзии военного времени («Poezja Polski Walczacej. 1939–1945», Warszawa, 1974), куда включил и произведения поэтов, запрещенных в ПНР (в частности, Чеслава Милоша). На склоне жизни изредка переводил советскую поэзию (А. Софронов, А. Твардовский).
[Закрыть]. Первый его сборник – «Творящая Любовь» – вышел в 1930 г.
Судя по приложенным в конце книги цитатам из отзывов о первой книге Щавея, поэт был принят польской печатью благосклонно. Критики не поскупились на похвалы. В одном из отзывов начинающий автор назван даже «пророком одной из новых религий неоромантизма».
Но скромная лирика Щавея вовсе не нуждается в рекламе, задыхающейся от своего деланно восторженного тона. Темы его не претенциозны, не претенциозна и форма. Всё здесь просто и уютно, как в доме хороших знакомых, куда приходишь «отдохнуть душою».
Любовь, немного осенней философии на тему «всё проходит» и что после лета неизменно наступает осень, немного грустных размышлений о смерти поэта, и снова любовь, и снова размышления. Надо сказать, что любовная лирика Щавея неровна: порою бурна, порою сентиментальна, порою несколько фривольна.
Некоторые образы в стихах Щавея останавливают внимание.
«Вечна любовь, – говорит он, – и вечно плещут над нею черные крылья печали».
Деревья у него «шумят огнем красных листьев», вечернее небо «блестит влажными звездами». «Медный, ржавый лист», упав с яблони, «тихо звякнул в траве»; облака вокруг месяца, как «дым вокруг смолистой лучины». Эти образы могут дать представление о художественных приемах молодого поэта.
Молва, 1933, № 77, 2 апреля, стр. 4. Подп.: Л.Г.
Клоунский грим
Если кинематографическая драма почти с самого начала пошла по следам театра, для того чтобы в лучших своих достижениях перерасти последний, – «смех» в кинематографе по каким-то, несомненно существующим, причинам до сих пор несет в себе грубый грим клоунской маски, пыль цирковой арены.
Прославленные кинематографические комики, «короли смеха мирового экрана» шли до сих пор по пути создания карикатуры, характерные маски которой навсегда прочно пристали к их имени. Среди этих созданных ими масок только маска Чарли Чаплина носит на себе черты «портрета», остальные – более или менее грубые карикатуры на человеческую глупость.
Жизнь кинематографического комика на экране поразительно напоминает неудачи «рыжего» клоуна, вызывающего в амфитеатре цирка раскаты смеха, вечно суетящегося попусту, пытающегося помочь тем, кто занят «делом», и получающего за свои непрошеные услуги одни затрещины и подзатыльники.
Чаще всего «король смеха», точь-в-точь как клоун, изображает идиота, который с невозмутимым видом проделывает тысячи глупостей и потом наивно удивляется, за что на него сыпятся, как из рога изобилия, неудачи, неприятности и побои.
Явным пережитком цирка осталась также в кинематографической комедии эта ничем не оправдываемая мания уничтожения вещей, эквилибристические фокусы, погони с препятствиями и проч. и проч. Всё это рассчитано, по-видимому, на того же «циркового» зрителя, по какой-то психологической ошибке попавшего в зал кинематографа…
На эти размышления меня навел фильм с Бустер Кетоном{166}166
Joseph Frank «Buster» Keaton (1895–1966) – американский комический актер и режиссер. См. о нем: David Thomson. A Biographical Dictionary of Film (London: André Deutsch, 1994), pp. 389–391; Noël Carroll. Comedy Incarnate: Buster Keaton, Physical Gumor, and Bodily Coping (Malden, MA: Blackwell Publishing, 2007).
[Закрыть], идущий сейчас в «Святовиде». Название фильма, как и во всех кинематографических комедиях этого типа, не имеет особого значения. Всё уже сказано именем «короля смеха», участвующего в фильме. В самом деле, не всё ли равно, по какой глупой случайности Бустер Кетон будет бить посуду, мчаться на автомобиле и совершать утомительный ряд нелепостей. Всё искусство этого «короля смеха» состоит в том, что в какие бы глупейшие положения он ни попадал, он сохраняет на лице одну и ту же невозмутимо-идиотическую маску. В этом есть свой смысл. У идиота своя прочная, неколебимая логика. Это нам кажется, что действия его ничем не оправданы. Для него же всё, что он делает, основано на прочной и по-своему стройной системе предпосылок.
Кетон изобрел револьвер с электрической лампочкой, которая в темноте должна освещать цель. Изобретение он хочет продать военному штабу. И вот он поджидает у дверей казино начальника штаба. Подъезжает автомобиль, из него выходит в сопровождении адъютанта седобородый генерал. Решив, что это и есть начальник штаба, нужное ему для переговоров лицо, Кетон бросается ему наперерез, выхватив револьвер и размахивая своим изобретением по воздуху. Адъютант генерала, принимая Кетона за террориста, кидается на него. Происходит борьба, револьвер стреляет, Кетон вырывается, бежит. Начинается погоня…
Но вот он спасся от рук преследователей. Вы думаете, он успокоился? Вовсе нет. Он возвращается к дверям казино. Его не пускают, так как он не одет соответственно требованиям, предъявляемым к гостям казино. Он пытается проникнуть незаметно. Его замечают и спускают с лестницы подъезда. Но он упорен в своей маниакальной идее. Он проходит сложный ряд более или менее правдоподобных приключений, чтобы раздобыть фрак, преодолевает тысячи препятствий, проникает в казино и, встретив там генерала, снова бросается к нему, размахивая над головой револьвером. Его схватывают, револьвер стреляет, он вырывается, бежит, за ним гонятся… Он вскакивает в автомобиль, несется по улицам, въезжает в витрину магазина, летят осколки стекла, автомобиль превращается в груду хлама, из-под которого цел и невредим, только немного потрепан и с расстегнувшимся галстуком, вылезает Кетон…
Рассказанное мною – только один из эпизодов фильма. Но и всё целое картины основано на той же «психологии».
Бустер Кетон прекрасный артист и обладает прирожденным юмором. Отнимать у него таланта не приходится. Но тем более досадно за него, зачем он унижает свое достоинство артиста и человека, изображая «рыжего», кувыркаясь через голову и проделывая все эти цирковые трюки, неизбежно однообразные и уже давно бы, казалось, набившие оскомину кинематографическому зрителю обоих земных полушарий.
Молва, 1933, № 78, 4 апреля, стр. 4.
Смерть с голубыми глазами. О творчестве С. Барта (Доклад, прочитанный в литературном содружестве)
1Главная тема поэзии С. Барта – смерть.
Смерть – это та его «единственная», его возлюбленная, которой он отдал без остатка всё свое вдохновение, все свои мысли и сердце.
Говорит он о жизни – и голос его сух и невнятен. Но вот вы слышите нарастание звучания; стихотворение превращается в симфонию, слово приобретает величественную значительность… Он заговорил о смерти.
Жизнь, ее повседневность или праздничность, даже природа, даже любовь к женщине – не вдохновляют С. Барта.
Любовь для него полна горечи, отравлена сознанием бренности и недостижимости земной радости и раздвоена каким-то душевным опустошением.
Он говорит:
Любовь… но это так печально.
……………………..
Всё, что вершится на путях,
Что сердце жадное тревожит —
Всё только прах, цветущий прах.
И в другом стихотворении:
Ласкают пальцы белый прах…
Но в сердце лишь осколок страсти.
И понятно, раз в сердце лишь «осколок страсти» – все огорчения, бури и крушения в неверной стихии любви – только мучительны для опустошенного сердца.
Не может дать С. Барту утешения и природа. И она полна для него опасностей и страданий. Он задыхается весенним днем, – воздух слишком «колок» для его легких. Наслаждение миром – достояние тех, «кто дышать умеет».
Описания его лишены пластичности. Вступая в его мир, мы погружаемся в вихрь звуков и теней. Всё здесь ускользает от нашего прикосновения, меняя формы.
Образ и слово становятся зыбкими, теряют свое прямое значение, делаются намеками на отвлеченные представления. Но звуки колдуют, ведут, внушают – и вы забываете о нереальности вас окружающего.
Ничего не могут дать ему и люди. Мир их – «торжище шумливых площадей». В нем поэт встречает только «темные обличья хулящих мир, творящих суету». И если он спускается в него, то только для того, чтобы через скорбь сознания своей отчужденности прийти к мудрости, к высшей ступени созерцательного познания – в сущности, отрицания людского мира.
«Злая змеиная мудрая нежность» хранится в его сердце для ближнего. Но с нею ему все-таки легче в тишине своей комнаты, вдали от шума и суеты.
И представить его можно только в тишине одиночества. Вот, с полузакрытыми глазами в сумерках он раскачивается, шепча эти скупые слова:
2
Тихо над книгой. Ладони скрестил.
В скорби и в нежности то же сиянье…
Жизнь по С. Барту – игрушка неумолимого жестокого рока. Року молится он в одном из своих стихотворений:
И Палачу как скучно без затей.
Как в небе много трепетных свечей.
И я затеплил ярую свечу,
И я всю ночь молюся Палачу:
Казни меня, казнящий без вины,
Казни любовь и царственные сны.
Тебе тоску в награду отдаю,
Безмерную и вечную – мою.
Но боли скопилось уже так много, что «маленькая ложь» жизненного самообмана становится невыносимой, кажется ненужной и напрасной. И он восклицает:
Испепелить, испепелить
И эту маленькую ложь —
И он не сможет больше жить…
Испепелить!.. Испепелить!..
«Люби меня», —
обращается к нему голос жизни. Но поэт отвечает:
– Могу жалеть.
«Люби меня».
– Нет… умереть
Мне было б легче, чем любить!
Испепелить!.. испепелить…
Удивительно это отсутствие страха смерти у С. Барта. Жажда смерти вырастает у него в какую-то всепоглощающую страсть. Сначала как будто мелькают моменты колебания, сомнения. Кажется, жизнь еще не потеряла над ним власти. Но вот он точно срывается в черный провал уничтожения, сжигая в себе остатки жалости жизни и страха. И память жизни расплывается в его сознании в «полузабытое лицо».
Эта стремительность полета в бездну с удивительной силой передана им в следующем стихотворении:
3
Туда, туда – в безликий тлен.
Избыть столикой жизни плен.
Избыть себя, свой дух, свой прах,
Свою истому, боль и страх.
И нежность разлюбить: твое
Полузабытое лицо.
Пепел – его излюбленное слово. «Пепельная тень» на лице мертвеца, пепел – сгоревшая плоть… А затем – тленье, тленный, тлен.
Жизнь для него – огонь, вспышка, пляска, звон, всплеск.
Смерть – пепел, тленье, тлен, тишина, скованные губы, каменное надгробие.
И тишины исполнюсь я, и тленья,
Сгорю дотла,
говорит он о вожделенном часе смерти. И в других стихотворениях:
И тишину и исщербленный камень
Назвать своим заслуженным концом.
…………………………..
Слишком тихо у могильных плит.
В агонии он слышит «смерть, идущую вдоль комнат на тихое земное торжество». Да, земное торжество смерти – тлен, пепел, тишина.
Но какой торжественной симфонией он приветствует ее приход! В лучшем своем по музыкальности и конструкции стихотворении, особенно богатом внутренними рифмами, аллитерациями и созвучиями, С. Барт так воспевает «час уничтоженья»:
4
Не трубы прогремят, не трубы озарят тревогою тот день.
На восковые скованные губы
Возляжет траурная тень.
Тот пепел, нацелованный жестоко и ласкою и муками земли,
Расскажет вам, что я избыл все сроки
И все повинности свои.
Стихи С. Барта проводят через все этапы медленного угасания, покорного муке и смерти.
В доме умирающего жуткая настороженная тишина – «в шаги и шорохи вникал угрюмый ветхий дом». Приближение неизвестного чувствуется в каждом шаге, каждом движении. Кажется, проходящий по пустым залам входит в них «не один». И этот «кто-то второй» нашептывает пока еще невнятную тайну. И вдруг… смятение. Все бросаются к окну, куда вылетела жизнь и умчалась, вскочив на коня…
Чей это конь отпрянул вскачь?..
Так дайте ж свет скорей!
И бег в свечах, и стук дверей,
И плач… и плач… и плач…
Так С. Барт изображает миг смерти.
Но вот всем стало ясно, что свершилось непоправимое. Волнение улеглось, плач перешел в тихие слезы, а мертвец возлег на стол при свете свеч… Тут в поэте происходит раздвоение: мысленно созерцая свой труп, его вечная духовная частица приближается к своему прежнему обиталищу, чтобы дать ему последнее целование:
Чей это гроб туманят свечи
Слезами тусклого огня?
Чьи это призрачные речи
Встречают призрачно меня?
И эта песнь… Взмахнув крылами,
Умчался в небо душный свод.
И веет древности веками
Надгробной мудрости полет.
Своя ли боль, иль боль чужая?
Целую бледное чело.
О гроб великий! даль ночная!
Предельной тишины русло!
И вот уже похоронное шествие увлекает останки «сгоревшего дотла» к тишине исщербленного надгробия. Мудрой тишине кладбища посвящены лучшие стихи С. Барта. Вот одно из них:
5
Весеннее небо. Весенний погост.
Напев похоронный так прост,
Как будто успенье приходит весной,
Как будто цветенье – покой.
Влекут и уводят аллеи крестов.
И мнится – под пенье псалмов
Весна сочеталась со смертью моей
Под сенью поникших ветвей.
И солнце склонилось. И день изнемог.
И тихо за синий порог,
Покорно ступая, несут – пронесли
Последнее утро земли.
Казалось бы, надгробная тишина, веющая холодом, тлен, окаменение смерти должны приводить в содрогание всё подвижное, теплое, живое. Должны внушать отвращение. Но С. Барт представляет себе смерть в виде девушки с золотою косой и голубыми глазами.
Может быть, какое-нибудь впечатление «печального» детства заронило в его душу этот образ. Одно отрывочное четверостишие С. Барта намекает на это:
Над садом старинным я помню звезду,
Печального детства светило,
И девушку помню; и – в сонном пруду
Ее голубую могилу…
С тех пор, пройдя через разочарования и страдания в жизни, память о «голубой могиле» девушки превратилась для опустошенного сердца в страну,
Где боль цветет во имя Бога,
Где смерть веселая дана.
Как свидания, ждет поэт прихода своей голубоглазой девушки – смерти:
У смерти моей голубые глаза
И странные нежные речи.
У смерти моей золотая коса
И детские робкие плечи.
Темнеет. На травы ложится роса.
Стихаю для трепетной встречи.
Уже различая ее приближающиеся черты, он восклицает:
Это ты, как виденье легка.
Это ты – сквозь века, сквозь скитанья…
Наконец она появляется для первого и одновременно вечного объятия:
6
И я простер невольно руки,
И тихая явилась ты.
И где-то в зеркалах, в пролетах
От глубины до глубины
В безумном, в непомерном взлете
С тобой мы были сплетены.
Не напрасно дана «веселая смерть» поэту. «Вспомни, вспомни, – говорит он: – смерть не всё сжигает…»
Тишина земного торжества смерти – намек на иную тишину – тишину тайны «вечности существования». Всё временное преходяще – и мысли и лица, но
…Звезды в сияющей мгле,
Облака, облака и зарницы
Никогда не пройдут на земле.
Смерть – только переплавление несовершенной формы в более совершенную, синее очистительное пламя. И заклинанием кажется стихотворение С. Барта, раскрывающее этот высший смысл смерти:
Чтоб родиться, нужно умереть —
В тленье кануть, в тлении сгореть.
Ты не бойся тела – плотью дух сожги.
Все безумства мира, все пути твои.
Синий пламень… синяя река…
Синий пламень… первая строка…
Дрогнула завеса… Ярый, золотой
Всходит мир телесный, юный мир земной.
Путь души – канатной плясуньи, по оригинальному образу С. Барта, – вечное балансирование над бездной страдания и смерти, пока в момент, когда «ропщет бубен» и «ждет стихия», она не восходит в вечное, «небес касаясь».
7
За окном – за синей льдиной,
За покоем снежной дали
В робком свете книги синей
Зори вечные звучали.
Он пришел – о боль свершенья!
В белом облаке метели.
Я не верю в привиденья,
Но шаги прошелестели.
Встал в сторонке, точно нищий,
Весь в снежинках – в звездной пыли.
Тени строгие кладбища
На лице его застыли.
Я молчала. Скорбь иная
Мне открылась в этом миге.
Отступая, замирая,
Я замкнулась в синей книге.
На первый взгляд темное и косноязычное, стихотворение это становится ясным, стоит только внимательно вглядеться в него при свете поэтического светильника С. Барта.
Мир, в котором течет жизнь человека, – комната. За окном ее в «синей книге» небесной тайны звучит о чем-то вечность.
Но вот он – гонец смерти – внезапно входит в комнату жизни в белом облаке холода уничтожения. «О боль свершенья!» – восклицает поэт.
Строгие тени кладбища застыли на лице пришельца, и иная скорбь – не житейская боль, не «кровный крик» страдания, срывающийся в «пустоту», – но иная, мудрая, тихая скорбь сознания неизбежности переплавления, преображения в смерти раскрывается в этом миге.
И, отступая, жизнь входит в «синюю книгу» неба, входит из явного в тайну, из тленного – в вечное…
8Мировоззрение автора неуловимо. Оно раскрывается в области неосознанного.
Он любит холодные цвета «голубой» и «синий», подчеркивая ими метафизичность своих образов.
У его смерти – голубые глаза. Могила – голубая. Синий пламень переплавления в смерти. Синяя книга неба. Синий порог – кладбище. Синий весенний воздух.
Томление, вечная тоска, ожидание, тревога, неясные переживания и, наконец, тени и безмолвие наполняют его стихи.
Он воскрешает романтику.
В одном своем стихотворении он, одинокий, поет осанну «распятому Другу», в то время как чуждые им, толпясь, проходят мимо холма – вечной Голгофы – «стада поколений».
Смиренномудрое, одинокое утешение мукам он нашел в своем романтическом христианстве. Не потому ли так торжественно звучит его восторженное приветствие смерти –
9
Великая радость во мне.
Великая нежность. Без злобы
Стихаю в преддверии гроба.
Что было, то было во сне…
Великая радость во мне.
Мне остается сказать о форме и художественных приемах С. Барта.
Как в народных заговорах, в отдельных стихотворениях С. Барта повторяются одни и те же слова. Кажется, поэт снова и снова произносит их, опьяняясь их звучанием:
Синий пламень… синяя река…
Синий пламень… первая строка…
……………………….
И плач… и плач… и плач…
……………………….
Казни меня, казнящий без вины,
Казни любовь и царственные сны…
Любит он повторять и обороты, одинаково строить соседние фразы, любит параллельные места. Любит начинать несколько фраз подряд «и», «как», «где». Любит повторять в одном стихотворении одни и те же строки.
Повторения его то стремительны:
Туда, туда, в безликий тлен…
то кажутся имеющими «бесконечную длительность»:
прощаясь навеки… навеки…
то приобретают строгую значительность:
Вспомни. Вспомни. Смерть не всё сжигает.
Рифма, в общем небогатая и иногда дающая осечку, у него подчеркнуто значительна главным образом не в конце, а в середине строчки:
Туда, туда, в безликий тлен
Испить столикой жизни плен…
……………………….
Это ты, как виденье, легка.
Это ты – сквозь века, сквозь скитанья…
Как ни статичен, казалось бы, мир стихов С. Барта, в них много движения. Ощущение ритма движения в С. Барте обострено в зачет пластичности. Зато движение, о котором он повествует, видишь точно воочию, присутствуешь при нем. Даже как бы ощущаешь ветер, производимый этим движением. Так, он пишет:
И тихо за синий порог,
Покорно ступая, несут, пронесли
Последнее утро земли.
……………………….
Твоя любовь как луч в снегах!
Как зори в окна – настежь! настежь!
Стремительность, покой, ускорение, замедление и мерность он умеет передать удачным словом, скачком через пустоту логического зияния, повторениями, замедлением или ускорением ритма и т. д. Недаром у него столько восклицательных и вопросительных знаков, тире и многоточий.
С. Барт испробовал много стихотворных размеров и все претворил, подчинил себе, окрасил своею индивидуальностью. Подражания в его стихах не чувствуется. Но сознается их родство лирике Тютчева и Блока.
Каждое его стихотворение имеет свою самостоятельную жизнь. Это завершенные до конца художественные единицы – я говорю о лучших его стихах. Со своими недостатками и достоинствами они входят в жизнь того, кто их понял и полюбил, входят как нечто живое – почти существа.
Сначала стихотворение звучит, потом звуки раскрываются в слова, а слова – в бездонную тайну вечного.
Таков их путь к читателю.
И я могу смело, не боясь впасть в преувеличение, сказать, что это единственный и истинный путь настоящей поэзии. То, чем оправдано и во веки веков закреплено ее существование в жизни.
Молва, 1933, № 83, 9 апреля, стр. 3. С сокращениями помещено в качестве предисловия в кн.: С. Барт. Стихи (Варшава, 1933). См. также: Соломон Барт. Стихотворения. 1915–1940. Проза. Письма. Издание второе, дополненное. Подготовили Д. С. Гессен и Л. С. Флейшман (Москва: Водолей, 2008), стр. 266–279.
К спектаклям Михаила Чехова в Варшаве
В индусском эпосе творческая ипостась Божества, небесная воля, обращенная к земле и плодотворящая землю, Кришна, обладает способностью воплощаться в любую материальную форму, превращаться в двойника каждого живого существа. Кришна – многоликая сущность Божества, и его проявления в видимом мире так же многолики и неуловимы.
Об этом «божественном оборотне» вспомнил я, думая о удивительной способности перевоплощения М. Чехова. Кажется, что роли, создаваемые им, – живые двойники людей, где-то действительно существующих или существовавших, получившие благодаря ему самостоятельную жизнь. По какому-то творческому капризу он входит всё в новые и новые личины, торопясь как можно полнее и шире проявить себя, свою невидимую сущность в видимой случайной форме. Вы забываете, что существует артист, большой искусник и мастер своего дела, Михаил Чехов. Маска роли так тесно прирастает к его настоящему лицу, что становится живою плотью.
Особенно подчеркнута эта его способность в инсценировках чеховских рассказов, с которыми он сейчас выступает в Варшаве и где он на протяжении одного спектакля появляется на сцене в самых разнообразных ролях.
Я хотел говорить о гриме М. Чехова, но грима у него, собственно, нет. Кажется, у него в запасе множество живых человеческих лиц, которые он надевает по желанию. Чем достигается такое, я бы сказал, «одухотворение грима»? Тем ли, что каждая проведенная гримировальным карандашом черточка не случайна, но до конца продумана и обоснована ролью, художественным ли мастерством исполнения и мимикой, но каждый раз перед вами новые черты лица, то изможденные, то одутловатые, и, кажется, даже новые формы головы. Но на этом не кончается его метаморфоза. Не только голова, но всё тело у него способно менять свою форму, сжиматься и вырастать по желанию. Вы не знаете, какие у него в действительности руки, потому что в каждой роли они меняются, становясь то костлявыми руками старика, то дрожащими потными руками пропойцы, то безвольными рассеянными руками обывателя. Но что самое удивительное – вместе с внешним обликом меняется и его голос, точно он обладает несколькими тембрами и может по желанию менять его высоту. Костюм его продуман до последней ниточки, последней пуговицы. Здесь мы присутствуем перед чудом оживления мертвой материи. Петля истрепанного сюртука «бывшего человека» недаром застегнута пуговицей жилетки, недаром подкладка торчит из-под полей соломенной шляпы обывателя – все эти мелочи выводят нас из рамок театра, заставляют верить в несуществующий мир, куда уходят, удаляясь за кулисы, эти создания творческой фантазии, верить, что и в этом призрачном мире они продолжают жить.
Этими мелочами, «междустрочиями» артист колдует, внушает, усыпляя бдительность разума – этого скептика, всегда с настороженным недоверием смотрящего из зрительного зала на сцену. Да, это колдовство, и колдовство, имеющее свою задачу. Натурализм М. Чехова не самоцель, но средство. Заставив поверить в созданный им образ, он одной точечкой, нарушающей реальность в гриме ли, в косноязычии ли, в жесте ли, переносит вас за грань действительности, где образ этот вырастает в жуткий символ, в намек на какую-то высшую тайну. И здесь, на этой вершине, вы как бы сознаете, что перед вами не артист, меняющий маски, но оборотень, и что общим для всех этих оживленных творческою волей людей является не телесная индивидуальность артиста, но неуловимая, невидимая сила, стихийный дух, творческий гений.
О Кришне говорится в одной древней поэме, что он, утысячерившись, сошел к тысячам девушек, чтобы дать жизнь племени человекобогов. Так же и артист М. Чехов, дробя во множестве воплощений свое творческое «я», оплодотворяет своим искусством наши души, преображая жалкую повседневность, находя в малом великое и возвышенное в униженном и оскорбленном.
Молва, 1933, № 89, 19 апреля, стр. 3.
См. также заметки: Л.Г., «К приезду в Варшаву М. А. Чехова», Молва, 1933, № 74, 30 марта, стр. 2; Л.Г., «К приезду в Варшаву М. А. Чехова», Молва, 1933, № 76, 1 апреля, стр. 3. Спектакль М. А. Чехова был посвящен инсценировкам рассказов А. П. Чехова.









































