Текст книги "Potestas clavium (Власть ключей)"
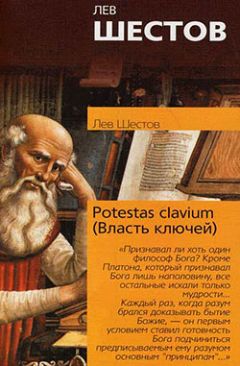
Автор книги: Лев Шестов
Жанр: Философия, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 24 страниц)
10
De novissimis.[39]39
О новейших (лат.).
[Закрыть] Вы сами, верно, своими глазами не видели, но, должно быть, слышали, что люди иной раз за одну ночь седеют: ложатся спать черными, а встают белыми. Есть основание думать, что случается и обратное: старики за ночь обращаются в юношей, только что волосы не чернеют. Но если это так, если бывают на земле такие превращения, – как могут люди говорить о неизменных предпосылках мышления? И чего стоят основания, на которых покоятся знаменитые кантовские постулаты? Кант объясняет, что он не может отказаться от своих постулатов, «weil dadurch meine sittliche Grundsätze selbst umgestürzt werden würden, denen ich nicht entsagen kann, ohne in meinen eigenen Augen verabscheuungswürdig zu sein».[40]40
Так как этим были бы ниспровергнуты сами мои нравственные принципы, от которых я не могу отказаться, не став в своих собственных глазах достойным презрения (нем.).
[Закрыть] Вот, подлинно, спроси не старого, спроси бывалого. Канту, хотя ему уже кончался шестой десяток, когда он выпустил «Критику чистого разума», казалось невероятным, чтобы когда-либо пошатнулись его нравственные принципы, и потому невероятным, что он стал бы в таком случае самому себе отвратительным. Но, если бы он заглянул в жизнеописания святых – св. Терезы, Иоанна дель Кроче – или хотя бы в книги Лютера, он убедился бы, что то, что ему казалось невероятным, даже немыслимым, происходило в действительности. И св. Тереза, и Иоанн дель Кроче, и Лютер бесчисленное количество раз приходили к сознанию, что они хуже всех людей на свете. А если бы Кант прочел Ницше или задумался над посланиями ап. Павла, он убедился бы, что его моральные принципы не так уж прочны: достаточно одного сильного подземного толчка, чтобы всякая надземная прочность рассыпалась в прах. Но Кант этого совершенно не подозревает. Через страницу он снова повторяет, что его постулат – «ist mit meiner moralischen Gesinnung so verwebt, dass, so wenig ich Gefahr laufe, die letztere einzubüssen, eben so wenig besorge ich, dass mir der erste jemals entrissen werden könne» (Kr. d. r. Ver. 857, n).[41]41
[Вера в Бога и загробный мир] так сплетена с моими моральными убеждениями, что, так же как я не подвергаюсь опасности утратить эти убеждения, точно так же я не беспокоюсь, что эта вера может быть отнята у меня (нем.).
[Закрыть] Откуда у Канта такая беспечность? Кант, ученый par exellence, привыкший к необычайной осторожности в суждениях, подвигавшийся в своих размышлениях с черепашьей медленностью, не решавшийся сделать ни шагу, не исследовав предварительно добросовестнейшим образом почвы, на которую он собирается поставить ногу, вдруг проявляет почти юношескую доверчивость?! И ведь Кант не один. Посмотрите у Платона. Установив, что душе, стремящейся к общему и целому в человеческом и божественном, противна всякого рода мелочность, он спрашивает: ‘̃Ηι ου̃̓ν ὑπάρχει διανοίᾳ μεγαλοπρέπεια καὶ θεωρία παντòς μὲν χρόνου, πάσης δὲ ούσίας οι̃̔όν τε οί̓ει τούτῳ μέγα τι δοκει̃ν ει̃̓ναι τòν ἀνθρώπινον βίον,[42]42
Resp. VI, 486а.
[Закрыть] т. е. считаешь ли ты возможным, чтобы дух, которому присуща возвышенность и способность созерцать все времена и всю сущность, мог бы придавать большое значение человеческой жизни? На свой вопрос Платон отвечает отрицательно и с такою же уверенностью, с какой Кант разрешает свои. И что особенно важно, и платоновский, и кантовский вопросы являются решительными для их философских систем. Если бы оказалось, что кантовская мораль вовсе не так прочна, как ему казалось, или что, вопреки Платону, дух возвышенный, дух много скитавшийся по отдаленнейшим окраинам вселенского бытия, убедился бы, что отдельная человеческая жизнь имеет не меньше значения, чем все человеческие жизни вместе взятые, – что осталось бы от систем Канта и Платона? Я уже говорил по поводу Канта, что, если бы он порасспрашивал бывалых людей, они бы открыли ему, что на небе и на земле есть многое, что не снилось учености ученейших. Ему бы пришлось после этого испытать то, что ему казалось совершенно невероятным, – величайшее отвращение к самому себе! Но ведь может статься, что этого вовсе не так нужно бояться и избегать, что это необходимое условие дальнейших прозрений?! Св. Тереза, Иоанн дель Кроче, Лютер, Шекспир, Достоевский, Толстой – я мог бы удлинить список имен до бесконечности – испытывали чувство отвращения к себе, все с ужасом повторяли слова Псалмопевца: de profundis ad te clamavi, Domine – почему же Кант решил, что все, что ведет человека к ужасу перед собой, должно быть отвергнуто? Почему в отвращении к себе видеть следствие заблуждения? И уважение к себе считать признаком истины или наградой за истину? Заметьте, что и у Платона в основе его утверждения лежит предположение, что естественное и нормальное отношение души к себе есть отношение уважения, а не отвращения. Платон говорит о душе возвышенной, т. е. такой, к которой другие и которая сама к себе относится с уважением и относительно которой все полагают, что она это уважение получает не как gratia gratis data,[43]43
Милость, дарованная безвозмездно (лат.).
[Закрыть] а по заслугам. Можно еще обобщить: можно сказать, что всякий философ исходит из предположения, что душа, при желании, может добиться того, что и другие ее уважать будут, и она сама будет себя уважать. Без такого допущения ни одна философская система не продержится ни минуты. Это есть догмат stantis et cadentis philosophiæ.[44]44
Жизни и смерти для философии (лат.).
[Закрыть] Но тут и уместно вспомнить показания другого типа людей, которых я противупоставил раньше Канту и Платону. Устами своего Гамлета Шекспир признается: если обходиться с человеком по его заслугам, то кто же избежит пощечины? Обратите внимание на то обстоятельство, что ведь и Гамлет не всегда так разговаривал. Было время, когда Гамлет с не меньшей уверенностью, чем Платон или Кант, утверждал, что никогда он не доведет себя до того, чтобы испытывать отвращение к самому себе. Думаю, что нет надобности приводить тому доказательства, т. е. цитаты из более ранних произведений Шекспира. Их подберет всякий, кто знает хотя бы его «Исторические хроники». Шекспир долгое время испытывал состояние удовлетворения, душевного равновесия и привык думать, что этому так и быть полагается, что человеку свойственно любить и почитать себя. Исходным пунктом всей его догамлетовской философии было убеждение, что душевное равновесие есть самое ценное благо для человека. Т. е., пожалуй, я употребил не совсем подходящее слово – убеждение. Могло случиться – да и случилось, что Шекспир даже не подозревал, что у него есть такое убеждение, как не подозревает здоровый и сильный человек, что здоровье и сила сами по себе ценны. Об этом узнает он, потеряв то и другое. Но дело от этого нисколько не меняется. Человек может и не давать себе отчета в том, какое значение он придает душевному равновесию, и все же направлять свои силы к тому, чтобы обеспечить себя в этом отношении. Конечно, при первых угрозах судьбы разум всполошится и станет делать все, что ему делать полагается, чтобы предотвратить надвигающееся бедствие. Когда естественная почва уходит из-под ног человека, разум пытается сам, силой собственного творчества, создать почву искусственную. И это обыкновенно называется философией. Человек спрашивает себя: как мне обратно получить от судьбы то, что она у меня отняла? Что нужно вернуть обратно отнятое, он в этом нисколько не сомневается. Ибо вверить свою жизнь судьбе, допустить, что судьба, отнявшая у него равновесие, может быть так же права, как и судьба, давшая ему это «высшее благо», человек – в особенности разумный человек, всегда уверенный, что он сам все лучше знает, – совершенно неспособен. Он знает, что душевное равновесие – благо, добро, что потеря равновесия – несчастье, зло. Знает это по своему опыту, скажете вы. Конечно, по опыту, но тут есть не только опыт. Ведь если бы дело шло только об опыте, ни Кант, ни Платон не могли бы делать своих утверждений в той форме, в которой они их делали. Они могли бы говорить только о себе, и то лишь в прошлом. Т. е. Кант мог бы заявить: когда мне случалось в прошлом на минуту подумать, что, пожалуй, мои нравственные принципы окажутся ложными или ничего не стоящими, я испытывал к себе чувство отвращения, от которого я стремился избавиться. Такое признание мы приняли бы как факт, и только. Но ведь Кант претендует на неизмеримо большее. Он уверяет, что не только он, но и всякий человек, всякое разумное существо, всегда чувствовал и всегда будет чувствовать неразрывную связь своей жизни со своими моральными принципами, что всякий человек хочет уважать себя и боится больше всего на свете испытать отвращение к самому себе. Я спрашиваю, кто дал право Канту делать все эти обобщения и антиципатии, в которых, как известно, заключается сущность всех его критик? Откуда он знает, что испытывает всякий человек? Откуда ему известно, что будет с ним завтра? А что если завтра ему станет противно то чувство своего достоинства, сладостью которого он сегодня упивается? Что если он принужден будет вслед за Антисфеном заявить: μανείην μαλλον ή̓ ἠσθείην – лучше мне сойти с ума, чем испытать наслаждение, и пойдет еще дальше Антисфена, т. е. к ἠσθείην отнесет не только физические наслаждения, т. е. еду, питье и т. п., но и нравственные, или, того больше, почувствует, что худшее, омерзительнейшее приятство есть вовсе не приятство питья или еды, а как раз то приятство добра, нравственной правоты, о которых он говорит как об основе своей философской и моральной системы. Этого не может быть, скажут мне. Я только этого ответа и ждал. Ибо нужно добраться, наконец, до того невидимого суфлера, который так уверенно нашептывает людям всякого рода широковещательные утверждения. Кто говорит: этого не может быть? Конечно, наш разум – тот разум, который всегда гордился и гордится тем, что может руководительствовать нами в самых трудных жизненных случаях, который убедил нас, что он «расширяет» наш бедный и жалкий опыт. Но вглядитесь, что он делает! Ведь он своими обобщениями и предвосхищениями не расширяет, а суживает, бесконечно суживает наш и без того в самом деле скудный и жалкий опыт. Он знает один случай Канта и отсюда делает «вывод», что знает все возможные случаи. И сам уже не хочет и другим не дает возможности ни видеть, ни слышать, ни искать. Канту кажется страшным, что, может быть, ему придется испытать чувство отвращения к себе, и он патетически восклицает: держитесь за свои моральные устои, иначе вы погибнете! Это все равно как если бы кто-нибудь, схватив за руку Колумба, решившегося пуститься в безбрежное море, стал заклинать его не покидать домашнего очага, ибо только в своей семье, под крышей своего дома можно найти покой и радость, а в открытом море человека ждут только лишения и опасности. Конечно, опасности – кто станет тут спорить?! Но Колумб не послушался своих домашних Кантов и пустился на авось в далекое плаванье. Не слушается и Платона ὁ ἀνθρώπινος βίως – отдельная человеческая душа. Она рвется на простор, прочь от домашних пенатов, изготовленных искусными руками знаменитых философов. Ей часто об этом некогда и думать. Она не умеет дать себе отчета о том, что разум, превративший свой бедный опыт в учение о жизни, обманул ее. Ей вдруг дары разума – покой, тишина, приятства – становятся противны. Она хочет того, чего разуму и не снилось. По общему, выработанному для всех шаблону она жить уже не может. Всякое знание ее тяготит – именно потому, что оно есть знание, т. е. обобщенная скудость. Она не хочет знать, не хочет понимать, чтобы не связывать себя. Разум – сирена: он умеет о себе и о своих так рассказать, будто его учения и знания не связывают, а освобождают. Он только и говорит о свободе. И обещает, обещает, обещает. Обещает все, кроме того, что ему не дано постичь, даже заподозрить. Но мы знаем уже, что он может постичь и предвидеть. Он сулит вам все постулаты – и те, которые называл Кант, и те, о которых говорил Платон, если только, падши, вы ему поклонитесь. Но посулами все и окончится. Если с вас этого достаточно, – примите разум в руководители, обобщайте и предвосхищайте опыт и продолжайте верить, что это необыкновенно важное и нужное дело. Если нет, – бросьте всякие расчеты и обобщения и идите смело, без оглядки в неизвестность, куда Бог поведет, и что будет, то будет. Не пойдете? Дело ваше.
11
Неопровержимость материализма. Скажу прямо и сразу: материализм еще никем и никогда не был опровергнут. Все возражения, обычно представляемые противниками материализма, относятся не к самому материализму, а к доводам, приводимым им в свою защиту. Доводы разбить, конечно, нетрудно, но разве в этом смысле другие метафизические системы находятся в лучшем положении? Правда, материализм принимает очень близко к сердцу судьбы своих доводов, будучи почему-то уверенным, что ему придется непременно разделить их судьбу. И вообще он слишком щепетилен и, несмотря на свою видимую грубость, нервничает гораздо больше, чем следовало бы философской теории. Достаточно противникам назвать его метафизикой, и он уже бледнеет от ужаса: ему кажется, что все пропало. Ничего не пропало! Материализм, даже если бы ему и пришлось называться метафизикой, нисколько не изменился бы от того в своей сущности. И я не думаю, чтобы идеалистам стало легче, если бы материализм осуществил свои права в качестве метафизики. Но главное возражение против материализма – это то, что он допускает возможность чудесных превращений, своего рода Овидиевы метаморфозы. Материя, бездушная и мертвая, вдруг превращается в дух. Это возражение не дает покою материалистам – еще больше, чем первое, – и они всячески хлопочут, чтобы снять с себя подозрение в легковерии, и для этого пытаются слово «вдруг» заменить словом «постепенно». Конечно, защита плохая – проницательные враги превосходно разыскивают среди постепенности роковую внезапность. Но если бы я был материалистом, я бы совсем не стеснялся никаких внезапностей. Наоборот, я бы сам на них настаивал и уже тогда совершенно обезоружил своих оппонентов. Да, бывают внезапные превращения – может быть, не всякого рода, а только известного рода. А может быть, и все что угодно может произойти из всего чего угодно. Что ж из этого следует? Разуму внезапность непонятна?! Разве материализм подрядился сделать все понятным разуму? Или разве непонятность, даже неразумность какого-нибудь явления может дать нам право не признать его? Разуму многое из того, что существует, непонятно. Не понимает он и того, как атомы, собравшись в большую кучу, становятся обезьяной или мыслящим человеком. Все это мог бы сказать материализм, но материалисты, я знаю, никогда этого не скажут. Они все-таки, в конце концов, не меньше заискивают у разума, который они производят от атомов и считают преходящим, чем их противники, идеалисты, считающие разум вечным и изначальным. И потому столько же дорожат своей истиной, сколько и возможностью доказать ее разумными доводами. Понятно, что при таких условиях они ничего не могут добиться. Доказать истинность материализма невозможно, если же признать, что доказанность есть conditio sine qua non истинности, то материализму придется плохо. Его противники это отлично понимают и потому говорят не о материализме, а о правоте материализма пред судом разума. Но это прием явно недопустимый, даже недобросовестный. Пред судом разума всякая метафизика, идеалистическая в такой же степени, как и материалистическая, окажется неправой, ибо в тот или иной момент своего развития она сошлется на необъяснимое, т. е. для разума неприемлемое, как на данное. Так что, если материализму хочется стать неуязвимым, ему лучше всего отказаться от всякой аргументации. Sic volo, sic jubeo, sit pro ratione voluntas.[45]45
Так хочу, так приказываю, да первенствует воля над разумом (лат.).
[Закрыть] Пора было бы знать, что только та философия может проложить себе путь, которая дерзнет быть своевольной. Последуют материалисты моему совету? Думаю, что нет. Вероятно, они охотнее пойдут навстречу идеалистам, ибо их сердцу ближе забота идеалистов, стремящихся очистить мир от неожиданностей и чудес, чем самая идея материалистического миропонимания. Свобода всегда пугала людей, привыкших думать, что их разум выше всего на свете. Верно, я не ошибусь, если сделаю и обратное утверждение: идеалисты, если бы им пришлось выбирать, охотнее согласились бы признать вселенским началом материю, чем произвол.
12
Разум. Эпиктет, как и все философы, пытается доказать, что человек всегда, при всяких обстоятельствах может сохранить душевное равновесие. Случилось несчастье: у тебя умер отец – ты волнуешься, плачешь, приходишь в отчаяние, и нет, по-видимому, в мире средств и способов, которыми можно было бы тебе вернуть спокойствие. Но только по-видимому. На самом же деле способ есть. Попробуй рассуждать. Что бы ты сказал, если бы умер отец твоего соседа? Ты бы сказал, что это произошло вполне естественно. Всякий человек должен умереть – таков закон природы. Почему же ты так волнуешься и так безутешен, когда умер твой отец? Подумай, и ты поймешь, что смерть твоего отца так же законна и естественна, как и смерть всех других людей, и что, стало быть, нет никакого основания тебе больше огорчаться сегодня, когда у тебя отца нет, чем вчера, когда у тебя отец был. Рассуждение на первый взгляд безукоризненное. К сожалению, его можно обернуть. Можно сказать: у соседа умер отец, и я к тому отношусь совершенно безучастно. Но правильно ли это? Если бы умер мой отец, я пришел бы в отчаяние; отчего же смерть чужого человека не производит на меня такого гнетущего впечатления? Это – «заблуждение»: мне следует так же убиваться по поводу смерти первого встречного, как и по поводу смерти родных и друзей. Сравните оба рассуждения – какое из них логичнее и последовательнее? Ясно – оба одинаково хороши, и если Эпиктет отдал предпочтение первому, то вовсе не потому, что оно «разумнее», а только потому, что оно вернее и скорее подводило его к заветной цели стоической философии – к достижению ἀταραξία, совершенной свободы от каких бы то ни было влияний. Стоик хотел быть господином над миром: si vis tibi omnia subjicere, te subjice rationi,[46]46
Если хочешь, чтобы все тебе подчинилось, подчинись сам разуму (лат.).
[Закрыть] – говорил Сенека. На самом деле ни при помощи разума, ни без разума он не умел подчинить себе все. Оставался один выход: сказать себе, что мир человеку совсем и не нужен. Мир сам по себе, человек сам по себе. Раз отец умер по законам мира, пусть себе умирает: это не касается ни Эпиктета, ни какого-либо другого мудреца, ибо мудрец прекрасно знает, что все внешние события, как находящиеся вне его власти, не должны его и занимать, если только он не хочет стать рабом бессмысленной силы. Вот в чем основная мысль стоической школы. Несомненно, что циники были последовательнее, они гораздо более бесстрашно демонстрировали и своей жизнью и своим учением пренебрежение к тому миру, который они не могли покорить, но которому они не хотели подчиниться. Если ἀταραξία – последняя цель человека, то, конечно, нужно быть равнодушным ко всему, к собственному горю, как и к чужому.
Только «разум» тут ни при чем. И рассуждения Эпиктета тоже ни при чем. Отлично можно обойтись без разума и без рассуждений: прямо заявить раз навсегда, что не хочу, мол, ничему давать власть над собой. Не хочу радоваться случайной удаче, не хочу печалиться случайным горем. Пусть Судьба пошлет мне гений, красоту и могущество Александра Македонского – я их вместе с Диогеном отвергну. Пусть та же судьба пошлет меня на пытку, я не пророню ни одной слезы. Не хочу ни радоваться, ни огорчаться до тех пор, пока не приобрету власти смеяться и плакать не тогда, когда это заблагорассудится судьбе, а когда я сам того пожелаю. Оттого-то стоики так много говорили о бренности всего земного. Что мне в милости судьбы, когда она вольна завтра же переложить милость на гнев?! ’ Εχω ού̓κ έ̓χομαι[47]47
Я владею, не мною владеют (греч.).
[Закрыть] – любимая поговорка стоиков, и из нее вытекают все их бесконечные рассуждения, будто бы основывающиеся на разуме. Но они бы могли совершенно освободить себя от рассуждений и доказательств.
Разум в такой же степени на их стороне, как и на стороне их противников. Поскольку А = А, поскольку их решимость не отдаваться во власть природе неизменна, постольку стоики выдержат поставляемые ими себе задачи: не будут плакать, не будут радоваться, какие бы дары и испытания ни посылали им боги, или станут петь веселые песни на пытке и проливать слезы, когда им будут дарованы всемирные монархии. Но как скоро их решимость поколеблется, если вдруг им покажется, что лучше быть последним поденщиком в этом мире, созданном богами, чем царями в их собственном мире теней, – прощай все рассуждения, доказательства и ссылки на разум! И может быть, тогда они больше возлюбят божественный произвол, чем гармонию и порядок, выдуманные людьми.









































