Текст книги "Potestas clavium (Власть ключей)"
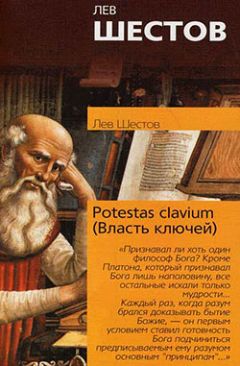
Автор книги: Лев Шестов
Жанр: Философия, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 15 (всего у книги 24 страниц)
II
Теперь спросим: что же такое философия? Она должна быть наукой, говорит нам Гуссерль. То же говорили нам и те, которые, по словам Гуссерля, подменили философию мудростью. Но ведь это только один из признаков. А затем и новый вопрос: что такое наука? Но, прежде чем выслушать Гуссерля, послушаем снова древних. Сначала дадим слово Плотину, т. к. у него имеется очень краткое и простое, но в своем роде очень замечательное определение. Τὶ ἡ φιλοσοφία; τò τιμιώτατον – что такое философия? Самое значительное. Как видите, Плотин даже не считает нужным говорить о том, наука ли философия или не наука. Самое важное, самое нужное, самое значительное – а будет ли это наука, или искусство, или что-либо равно далекое и от искусства и от науки – все равно. Теперь дадим опять слово Аристотелю: «нечего искать науки более важной и значительной (τιμιωτέραν – то же слово, что и у Плотина). Она самая божественная и значительная (опять τιμιωτάτη). И это – в двояком смысле. Ибо Богу она более всего свойственна и потому божественна среди наук, и она имеет своим предметом Бога. Только ей одной свойственно и то и другое. Ибо, что Бог принадлежит к основаниям и есть начало, это – несомненно; и только Бог же владеет ею, по крайней мере в высшей степени. Может быть, другие науки нужнее, но лучше ее нет» (Met. А. 2, 983 cл.).
Так судили о философии великие философы древности. Конечно, Гуссерль должен был бы целиком принять суждения Плотина и Аристотеля. Пожалуй, он отказался бы еще от некоторых выражений Аристотеля: едва ли бы он согласился повторить, что философия божественна среди наук, что она более всего свойственна Богу, что она имеет своим предметом Бога. По-моему, даже наверное не согласился бы. Слово «Бог» напомнило бы ему о мудрости, которую, как мы знаем, он считает врагом философии и изгоняет из своего государства, как Платон изгнал поэта из своего. И все-таки не будет ошибкой сказать, что слова Аристотеля полностью выражают собой отношение Гуссерля к философии. Только там, где Аристотель, по обычаю древних, говорит о Боге и божественном, Гуссерль употребляет слова, более привычные для вышколенного новейшей наукой слуха. На вопрос о том, что такое философия, Гуссерль отвечает: «наука об истинных началах, об истоках, о ῥιζώματα πάντων». Аристотель тоже говорит: «наука есть познание неких оснований и начал» (Met. A. I, 982а). Когда современный ученый говорит об истоках и корнях всего – он, конечно, говорит о Боге, но о таком Боге, который утверждается независимо от какой бы то ни было богословской и даже метафизической системы. Страх обратить философию в ancilla theologiæ[128]128
Служанка богословия (лат.).
[Закрыть] еще не умер в нас, и мы предпочитаем свои мысли выражать своими же словами. Это вполне законно и даже похвально: вернее всего, и Аристотель, живи он в наше время, тоже избегал бы тесного сближения с догматическим богословием. И если принять, что слова «Бог» и «Божественный» употреблялись Аристотелем как наиболее яркие и сильные superlativa,[129]129
Превосходные степени (лат.).
[Закрыть] то надо полагать, что у Гуссерля не было бы основания спорить с Аристотелем. Об этом свидетельствует его статья «Философия как строгая наука». Она представляет собой не только выяснение задач и методов философии – она есть торжественный гимн философии, написанный в приподнятом, пророчески вдохновенном тоне.
Гуссерль заявляет: «быть может, во всей жизни новейшего времени нет идеи, которая была бы могущественнее, неудержимее, победоноснее идеи науки. Ее победоносного шествия ничто не остановит. Она на самом деле оказывается совершенно всеохватывающей по своим правомерным целям. Если мыслить ее в идеальной законченности, то она будет самим разумом, который наряду с собой и выше себя не может иметь ни одного авторитета». Таким образом, философия является для Гуссерля высшим достижением человечества: ей в конце концов подчинится все. И у Гуссерля она, как у Аристотеля, божественна и имеет своим предметом Бога. Конечно, не Бога католической или магометанской догматики. Но такой Бог нужен ведь для целей чисто практических. Аристотель же говорит: «правильно называть философию наукой об истине; ибо цель теоретизирования – истина, цель же практики – делание», и Гуссерль, конечно, подпишется здесь под каждым словом.
Гуссерль не хочет ограничиться одними голословными заявлениями, он стремится обосновать правомерность притязаний науки. «Общие утверждения мало говорят, если их не обосновывают, и надежды на науку имеют небольшое значение, если нельзя усмотреть никаких путей к осуществлению ее целей». Это верно, само собою разумеется. Если ограничиться одними пророческими, хотя бы и вдохновенными обещаниями, мы снова вернемся к той мудрости, от которой так торжественно отреклись. Что же может указать эти пути? Что может оправдать притязания науки быть последней инстанцией в разрешении всех вопросов, волнующих человечество?
Мы помним, что наука наряду с собой не хочет признавать никакого авторитета. Это – основная, самая заветная мысль Гуссерля. «Наука сказала свое слово; с этого момента мудрость обязана учиться у нее»,[130]130
Логос. 1914, стр. 49.
[Закрыть] – властно заявляет он в другом месте. Иначе говоря: Roma locuta, causa finita.[131]131
Рим высказался, дело кончено (лат.).
[Закрыть] Идея непогрешимости научного суждения провозглашается, по-видимому, умышленно по той же формуле и в тех же терминах, в каких католичество в средние века провозглашало непогрешимость и верховный авторитет папского престола. Права папы основывались на откровении, данном людям в Св. Писании. Каким же образом обосновывает права разума новая философия?
Мы сейчас перейдем к этому вопросу, но прежде обратим еще раз внимание на то, какое колоссальное значение имеет и должна иметь в философии теория познания. Теория познания вовсе не безобидная, отвлеченная рефлексия о методах нашего мышления. Она предопределяет собой источник живой воды познания. Она увлажняет собой те ῥιζώματα πάντων, из которых вырастает наша жизнь. Подобно тому как католичество, чтоб иметь право указывать человечеству пути к спасению и вечной жизни, нуждалось в идее непогрешимости церкви, так и философия, чтобы достигнуть поставленных ею себе целей, не может и не хочет мириться с какими бы то ни было ограничениями своей власти. Когда разум говорит ex catheara, он не может заблуждаться. И пока теория познания не привела к этому убеждению мыслящее человечество, что толку ставить какие бы то ни было вопросы? Ведь дело не в том, чтоб поставить вопрос, а в том, чтоб на вопрос ответить – и ответить «научно, т. е. обязательным для каждого разумного человека образом».
Гуссерль перенимает свою задачу от эллинской философии. Неправильно было бы думать, что современная мысль заимствовала идею о непогрешимости разума от средневекового богословия. Как раз наоборот. Католическая церковь взяла идею о своей непогрешимости целиком и совершенно готовой у древних эллинов. Она только, верно почувствовав непрочность оснований, на которых покоились притязания разума, пыталась обосновать свои права иными способами.
Итак, Гуссерль преемственно связан в своих задачах с философами древности. Он сам признает это: «Хорошо сознанная воля к строгой науке характеризует сократо-платоновский переворот в философии и точно так же научные реакции против схоластики в начале нового времени, в особенности декартовский переворот. Данный ими толчок переходит на великие философии XVII и XVIII веков, обновляется с радикальнейшей силой в критике чистого разума Канта и оказывает еще влияние на философию Фихте. Все сызнова и сызнова исследование направляется на истинные начала, на решающие формулировки, на правильный метод» (Логос, 1914, стр. 4).
В этих словах – краткая ученая генеалогия Гуссерля. От Сократа и Платона, через Декарта, до Канта и Фихте. Генеалогия, впрочем, только отчасти верная. Нужно иметь в виду, что от Платона, Декарта, Спинозы, Лейбница Гуссерля отделяет его принципиальное отрицание, лучше бы сказать, отвращение ко всякой метафизике. Только, в противоположность Канту, он даже и не ставит открыто вопроса, возможна ли метафизика. Он предполагает, что для всех его читателей, как и для него самого, этот вопрос естественно разрешается в отрицательном смысле. Метафизика есть мудрость, т. е. донаучные, скороспелые попытки разрешить неотложные проблемы мироздания. Метафизика поэтому может иметь свое условное оправдание в соображениях чисто практического характера. В утешение страждущему человечеству можно внушать, что есть Бог, что душа бессмертна, что злые получают в ином мире возмездие по их делам и пр. И если такого рода внушения делаются людьми большого дарования – против этого ничего нельзя возразить. Но величайшее преступление забывать, что все такого рода разрешения вопросов отвечают лишь временным и преходящим нуждам: «Мы должны помнить о той ответственности, которую мы несем на себе по отношению ко всему человечеству. Ради времени мы не должны жертвовать вечностью; чтобы смягчить нашу нужду, мы не должны передавать потомству нужду в нужде, как совершенно неизбежное зло… Мировоззрения (т. е. все виды мудрости) могут спорить – только наука может решать, и ее решение несет на себе печать вечности» (Ib., 51).
Считаю необходимым еще раз обратить внимание читателя на характер выражений, подбираемый Гуссерлем для выяснения задач и притязаний науки. Думаю, что даже из приведенных выдержек ясно, что они вполне могли быть заменены аристотелевскими и даже теми, которые обычно употребляются в католической апологетике: для Гуссерля, как и для Аристотеля, философия в конце концов божественна, ибо имеет своим предметом Бога. Но Бог Гуссерля, как и Бог Аристотеля, может быть отыскан путем строго научных изысканий, и только таким путем. Поэтому «в теории познания надо видеть дисциплину, предшествующую метафизике». Иными словами, Гуссерль согласится признать только такого Бога, о котором будет свидетельствовать разум, ибо, как мы знаем, наряду с разумом нет и не может быть другого авторитета. Бога же, и в древние и в новые времена, открывали ненаучным путем, помимо разума. Оттого и только оттого Гуссерль избегает аристотелевских определений философии.
В одном, однако, я думаю, Гуссерль несомненно ошибается. Я думаю, что люди, так же как и сам Гуссерль, никогда не могли и не хотели признавать бога, о котором разум отказался бы свидетельствовать. В этом отношении все религии, по крайней мере все так называемые положительные религии, ничем не отличаются от светской мудрости и рационалистической философии. Они тоже стремятся «научно», т. е. «обязательным для каждого разумного человека образом» познать подлинную истину. Им не удалось этого добиться – но это ничего не значит. Ведь вот, даже по признанию самого Гуссерля, философия в лице своих наиболее значительных представителей делала напряженнейшие попытки постичь разумом истину. И тем не менее «здесь не положено даже начала научного учения; историческая философия, замещающая собою последнее, является, самое большее, научным полуфабрикатом, или неясным, недифференцированным смешением миросозерцания и теоретического познания» (Ib., 50). Оценка для философии не очень лестная! Пожалуй, даже алхимия и астрология вправе были рассчитывать на большую снисходительность. А католическая догматика – тем более! Значит, дело совсем не в том, что астрология, алхимия или католическая догматика пренебрегали разумом. Если получились результаты, с точки зрения Гуссерля, столь плачевные, то тут нужно, очевидно, искать других причин. Невольно напрашивается вопрос: не произошло ли тут обратное тому, что предполагает Гуссерль? Может быть, в алхимии, богословии и философии результаты оказались столь жалкими именно потому, что люди не хотели или не умели отказаться от водительства разума как раз там, где «по природе вещей» разуму полагалось уйти и умолкнуть! В своей теории познания, которая должна предшествовать метафизике, он даже не подозревает, что задача гносеологии может заключаться в том, чтобы определить момент, когда должно устранить разум от руководящей роли или ограничить его в правах. Он заранее уверен, что если были неудачи, то только потому, что кто-то ограничил самодержавие разума. И, соответственно тому, его теория познания, как и все другие теории познания, направлена к восстановлению и оправданию разума во что бы то ни стало.
III
Здесь мы подошли к источнику философии Гуссерля. Весь первый том его «Логических исследований», имеющий своим подзаголовком «prolegomena к чистой логике», посвящен почти исключительно этому вопросу. Правда, постановленному не так, как я его поставил. Гуссерль ни разу не говорит, что теория познания обязана проверить всеми доступными нам способами, точно ли разум обладает теми суверенными правами, на которые он притязает. Такая постановка вопроса, с его точки зрения, уже заключает в себе противоречие и потому совершенно недопустима. Он прямо начинает свои исследования с опровержения того, что на современном философском языке называется психологизмом. Психологизм же он справедливо усматривает в идеях всех без исключения представителей современной философской мысли: Милль, Бэн, Вильгельм Вундт, Зигварт, Эрдманн, Липпс – все это психологисты. Для Гуссерля же психологизм есть релативизм, релативизм же заключает в себе внутреннее противоречие, делающее его бессмысленным, а потому для разума совершенно неприемлемым.
Внутреннее противоречие релативизма, как мы помним, уже было вскрыто древними. Релативистические учения уничтожают сами себя, – говорил Аристотель, – уже не от своего имени, не как свое новое открытие, а как всем известную истину, как общее место философии. Для Гуссерля это положение есть articulus stands et cadentis ecclesiæ. Конечно, и для его противников, английских и немецких гносеологов, позиция Протагора с его «человек есть мера всех вещей» абсолютно неприемлема. Но Гуссерль утверждает, что бессознательно, скрыто они допускают это противоречивое положение и не замечают этого только потому, что они не абсолютные, а специфические, как он выражается, релативисты. То есть они видят бессмысленность утверждения, что у каждого человека может быть своя особая истина, но не замечают, что не менее противоречиво утверждение, что у человека как у вида есть своя, чисто человеческая истина. Такой специфический (т. е. видовой) релативизм не имеет ровно никаких преимуществ пред релативизмом индивидуальным. Ибо утверждающий, что у людей есть чисто человеческая истина, предполагает, что противоположное утверждение абсолютно ложно. Стало быть, его утверждение абсолютно истинно и потому противоречит самому себе.
Рассуждение столь же ясное, сколько простое и всем хорошо знакомое. Гуссерль отличается от других только тем, что беспощадно разыскивает следы релативизма во всех современных теориях познания и проявляет в этом отношении настойчивость и последовательность, которые часто становятся вызывающими. И в этом, по-моему, основная и огромная его заслуга. Он упрекает своих современников в том, что они не доверяют аргументации из следствия. Сам жe он доверяет такой аргументации, т. е., сделав какое-либо утверждение, он уже смело и беспечно принимает и все следствия, из него вытекающие. Развенчав специфический релативизм, он открыто заявляет: «что истинно, то абсолютно истинно само по себе; истина тождественно едина, воспринимают ли ее в суждениях люди или чудовища, ангелы или боги» («Логические исследования». Т. I, стр. 100). Это, конечно, сказано смело, очень смело. Другие гносеологи, даже такие как Зигварт, никогда не решались делать такие утверждения. Зигварт, например, пишет: «Die Möglichkeit, die Kriterien und Regeln des notwendigen und allgemeingültigen Fortschritt im Denken aufzustellen, beruht auf die Fähigkeit, objektiv notwendiges Denken von nichtnotwendigem zu unterscheiden, und diese Fähigkeit manifestiert sich in dem unmittelbaren Bewusstsein der Evidenz, welches notwendiges Denken begleitet. Die Erfahrung dieses Bewusstseins und der Glaube an seine Zuverlässigkeit ist ein Postulat, über welches nicht zurückgegangen werden kann. – Wenn wir uns fragen, ob und wie es möglich sei, die Aufgabe in dem Sinn, in dem wir sie gestellt haben, su lösen… – hier gibt es zuletzt keine andere Antwort als Berufung auf die subjektiv erfahrene Notwendigkeit, auf das innere Gefühl der Evidenz, das einen Teil unseres Denken begleitet, auf das Bewusstsein, dass wir von gegebenen Voraussetzungen aus nicht anders denken können als wir denken. Der Glaube an das Recht dieses Gefühls und seine Zuverlässigkeit ist der letzte Ankergrund alter Gewissheit überhaupt; wer dieses nicht anerkennt, für den gibt es keine Wissenschaft, sondern nur zufälliges Meinen» (Log. I, 15).[132]132
Возможность установить критерии и правила необходимого и общезначимого прогресса в мышлении основывается на способности отличить объективно необходимое мышление от мышления, лишенного такой необходимости. Способность эта проявляется в непосредственном сознании очевидности, сопровождающем необходимое мышление. Переживание такого сознания и вера в его надежность является постулатом, от которого нельзя отступиться. – Когда мы спрашиваем себя, возможно ли вообще решить так поставленную задачу, а если возможно, то как именно это сделать… – на это, собственно, нет другого ответа, кроме как взывания к субъективно переживаемой необходимости, к внутреннему чувству очевидности, сопровождающему часть нашего мышления, к сознанию, что при данных предпосылках мы не можем думать иначе, чем думаем. Вера в правоту этого чувства, в его надежность – последний оплот всякой достоверности вообще. Кто этого не признает, для того не существует никакой науки, а только случайные мнения (нем.).
[Закрыть]
Т. е. там, где для Зигварта – только постулат, т. е. ничем не доказанное допущение, там для Гуссерля – аксиома. И ведь если Гуссерль прав, если аргументация из следствия всегда и безусловно приемлема, то слова Зигварта нелепы, как заключающие в себе специфический релативизм, т. е. положения, взаимно друг друга исключающие.
Отчего же случилось, что такой строгий к своему мышлению человек, как Зигварт, допустил столь явную и для теории познания прямо роковую погрешность? Между прочим, она ему была еще до Гуссерля указана Вундтом, но Зигварт все же остался при своем. Мало того, Вундт, обличавший Зигварта в том, что он обосновывает познание на обманчивом чувстве, сам не избег таких же обвинений, и его теорию познания Гуссерль считает релативистической. На чьей стороне тут заблуждение, вольная или невольная слепота? Я убежден, что Зигварт ни за что в мире не согласился бы отречься от традиционного положения древней философии по отношению к скептицизму. Также мне кажется несомненным, что Зигварт и без Гуссерля отлично знал, что специфический релативизм заключает в себе то же внутреннее противоречие, которым страдает и релативизм индивидуальный. И он рад был бы торжественно провозгласить, что наши истины суть истины абсолютные, равно приемлемые для всех существ – для демонов, ангелов и богов, не только для людей, и если строгий ученый, всю жизнь свою отдавший отыскиванию обоснования истины, должен на склоне лет признать, что наша истина в последнем счете держится только постулатом, что вера в чувство очевидности есть последний оплот нашей научной уверенности, то я думаю, что едва ли следует спокойно пройти мимо такого признания и считать себя вправе отвести его на том основании, что оно заключает в себе внутреннее противоречие. Когда еще речь идет о Милле – куда ни шло. Можно заподозрить, что в увлечении полемикой он иной раз готов был высказывать крайние суждения, которым и сам не доверял. Но и тут подозрительность – плохой советчик. Относительно же Зигварта можно с уверенностью сказать, что релативизм был для него тяжелым крестом и только добросовестность ученого принудила его сделать горькое признание.
Правда, Зигварт отказался, вернее, не решался развить explicite мысль, заключавшуюся в его признании. Ведь сказать то, что он сказал, значит утверждать, что за известными пределами кончается компетенция разума и вступает в права какая-то новая власть, ничего общего с разумом не имеющая, и что мы, люди, каким-то образом это чувствуем даже здесь, в нашем эмпирическом мире. Такого «вывода» Зигварт не делает, как не сделал и Лотце, признавшийся, что мы осуждены вертеться в заколдованном круге, как его не сделал и Кант, который оказался в таком же положении, как Зигварт и Лотце. По Канту, самые несомненные наши суждения – синтетические суждения a priori – были самыми ложными, ибо они обусловливались не возможностью для разума проникнуть в сущность вещей, а необходимостью, извне ему навязанной и выдаваемой им за готовность создавать свои собственные, только для него и значимые идеи, т. е. иллюзии или фикции. Заключение Канта, что метафизика, как не имеющая особого источника для синтетических суждений a priori, не может быть наукой, – в сущности только по недоразумению считалось и считается опровержением метафизики. Это должно было быть сказано в ее защиту. Математика и естественные науки только потому и обладают точностью и обязательностью, что решились слепо подчиниться слепым вожакам и властелинам. Метафизика же еще пока свободна, оттого она не может и не хочет быть наукой и стремится быть независимым знанием. Так защищать метафизику Кант не отважился. Не решились на это ни эмпиристы школы Юма и Милля (может быть, потому, что они вообще были равнодушны к метафизике), ни идеалисты типа Зигварта. Ведь тогда пришлось бы усомниться в правах разума – а это всем философам казалось абсолютно недопустимым. Пришлось бы разрешить ненаучную фантастическую метафизику – кто бы пошел на это? Философия предпочла средний путь. Она не претендовала на абсолютную истину, но и не отказывалась от суверенных прав разума. Последние доказывались фактом существования и быстрого расцвета положительных наук. В логике же дальше признаний, вроде тех, которые делали Зигварт и Лотце, не шли.
Чтоб оправдать такого рода самоограничение, придумали установить разделение между психологической и гносеологической точками зрения. Задача теории познания не в том, чтобы выяснить происхождение нашего познания. Ее дело только наглядно показать структуру познания, внутреннюю связь законов, при посредстве которых мышление приводит человека к истине. Откуда взялись эти законы – дело не гносеологии, а психологии, и гносеологические задачи ничего общего с психологическими иметь не должны.
К рассмотрению этого аргумента мы сейчас обратимся – он для нас особенно важен ввиду того, что Гуссерль им пользуется так же, как им пользовались неокантианцы конца прошлого столетия. Но прежде нам важно подчеркнуть то обстоятельство, что Гуссерль не желает ни explicite, ни implicite принимать релативизм в каком бы то ни было виде. Для него специфический релативизм является столь же абсурдным, как и индивидуальный. И в этой решительности – огромная заслуга Гуссерля. Давно уже пора было открыть карты и поставить вопрос так, как его ставит Гуссерль: либо разум человеческий имеет возможность высказывать абсолютные истины, которые равно обязательны и для людей, и для ангелов, и для богов, либо нужно отказаться от философского наследия эллинов и восстановить в правах убитого историей Протагора.
Для критики старых теорий познания Гуссерль, как мы помним, пользуется классическим аргументом: теория, заключающая в себе положения, ее отменяющие, абсурдна. Для своей же теории познания он пользуется другими аргументами. Чтобы защитить ее от нападок «психологизма», он, как и неокантианцы, стремится строго отделить гносеологическую точку зрения от психологической. Для того же, чтоб оправдать разум, он развивает свою теорию идей, близкую к теории Платона и средневекового реализма. Разберемся в том и другом.
Точно ли можно отделить гносеологическую точку зрения от психологической? И для какой цели теории познания, вернее апологетам познания, понадобилось так тщательно оберегаться от всяких генеалогических справок? Гуссерль десятки раз и в первом, и во втором томе своих «Логич. исследований» повторяет, что генетические вопросы его не касаются. «Мы допускаем факт, что логические понятия имеют психологическое происхождение, но мы отвергаем психологистический вывод, который обосновывают на этом». Почему отвергаем? «Для нашей дисциплины психологический вопрос о возникновении соответствующих отвлеченных представлений не имеет ни малейшего интереса». Т. е. каково бы ни было происхождение истины – остается факт, что истина есть, истина нами правит; наше дело, следовательно, сводится к тому, чтоб путем беспристрастного анализа выяснить себе те приемы и законы, при посредстве которых истина осуществляет свои верховные права. Гносеологи охотно, для наглядности, сравнивают истину с моралью. Задача моралиста, говорят они, вовсе не в том, чтоб объяснить происхождение «добра». Моралисты так же, как и гносеологи, убеждены, что добро «в себе» происхождения не имеет. О происхождении можно говорить только по поводу реальных предметов, которые возникают и исчезают. Идеи же вне времени: они всегда бывают, всегда были, всегда будут – были бы даже и тогда, если бы мир реальностей совсем и не возникал или, возникши, вернулся бы в то небытие, из которого он вышел.
Что правда – то правда. Если бросить справки о происхождении, задачи гносеологов и моралистов, стремящихся отыскать абсолютную истину и абсолютное добро, значительно облегчатся и упростятся. Всегда генеалогические изыскания опасны для претендентов на престол. Попробуйте «объяснить» мораль тем способом, которым пользовались утилитаристы или экономические материалисты, и ее суверенные права станут призрачными. Платон это хорошо понимал и во всех своих рассуждениях брал добро исходным принципом. Анализируя человеческие поступки, он находил, что они всегда определяются каким-то совершенно независимым началом, которое никоим образом не может быть сведено к другим знакомым нам из опыта повседневной жизни началам, т. е. ни к пользе, ни к удовольствию, ни к чему иному. Убивши человека, я могу испытать удовлетворение, ибо я избавился от соперника, могу извлечь огромную выгоду, ибо присвою себе сокровища убитого или даже займу его престол, все это может быть: и все же поступок мой был, есть и всегда будет дурным. И опять-таки не потому, что я повредил убитому. Мы не знаем, может быть, убитый мною попал отсюда, из юдоли скорби, прямо в великолепные елисейские поля – и, стало быть, не прогадал, а выгадал, – и все же я поступил дурно, и нет в мире такой силы, которая могла бы снять клеймо порочности с моего поступка. И наоборот, если я пострадал за правду, если у меня отняли все имущество, посадили в тюрьму и даже казнили – я поступил хорошо: и ни люди, ни демоны, ни ангелы, ни боги не имеют власти превратить мой хороший поступок в дурной. Добро суверенно, не признает над собой никакой власти: даже Плотин, который в этом отношении не был так выдержанно последователен, как Платон, говорит об ἀρετὴ ἀδέσποτος,[133]133
Неподвластная добродетель (греч.).
[Закрыть] что можно перевести на современный философский язык словами об автономии, самозаконности морали. В деспотических государствах придворные юристы развивают такие же теории об источниках власти царя.
Они никогда не допустят, не могут допустить рассуждений об историческом развитии идеи самодержавия. С их точки зрения, монарх есть источник всякого права, всех прав, – стало быть, его права не могут уже вытекать из какого-либо иного источника. Они над временем, вне времени, они – ῥιζώματα πάντων. Или, в тех случаях, где допускается богословская фразеология, – источник прав монарха само Небо. Монарх есть самодержец милостью Божией, он помазанник. Только такого рода объяснения или недопущение каких бы то ни было объяснений может обеспечить абсолютным идеям те державные права, на которые они претендуют. Ведь на наших глазах произошло некое чудесное превращение. От попыток «объяснения» нравственности Ницше перешел к формуле «по ту сторону добра и зла». Или, вернее, когда добро потеряло свое обаяние и власть над Ницше, он подыскал такую «генеалогию морали», при которой ни у кого не сохранится охоты преклоняться пред добром.
Вот, собственно, причины того, почему гносеологи так упорно настаивают на своем нежелании сводить к очной ставке генетические и логические вопросы теории познания. Отказаться совсем от генетических проблем они не могут, ибо тогда пришлось бы принять метафизические или богословские допущения, давно и окончательно дискредитированные современной трезвой мыслью. Не может, в самом деле, Гуссерль, Эрдманн или Зигварт серьезно развивать, вслед за Платоном, теорию анамнезиса. Или ссылаться на десять заповедей, принесенных с Синая прямо от Бога Моисеем! Гуссерль восстает даже против платоновского гипостазирования идей. Метафизические допущения для него, как и для неокантианцев, абсолютно неприемлемы. Задача ставится так, чтоб обосновать философию на одном Lumen naturale. Поэтому приходится Lumen naturale наделять абсолютными правами. Отрицательный прием, которым пользуется для этой цели Гуссерль, тот же, что и у неокантианцев: он запрещает себе проверять притязания разума изысканиями о его происхождении. Но этим он не ограничивается. Он предлагает свою теорию идей, которая должна уже положительным образом оправдать наше безграничное доверие к разуму. На этой теории мы остановимся подробнее.









































