Читать книгу "Между ушами. Феномены мышления, интуиции и памяти"
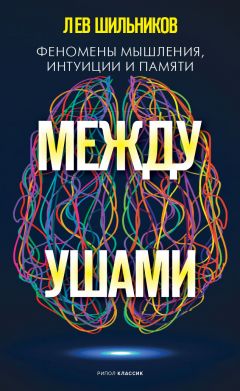
Автор книги: Лев Шильников
Жанр: Прочая образовательная литература, Наука и Образование
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
«Однажды он (мистер Биксби. – Л.Ш.) внезапно обратился ко мне с ядовитым вопросом:
– Какие очертания имеет Ореховая излучина?
Он с таким же успехом мог спросить у меня мнение моей бабушки о протоплазме. Я подумал и почтительно сказал, что вообще не знаю, имеет ли Ореховая излучина какие-то особенные очертания». Разумеется, ученик был немедленно разруган в пух и прах, а затем ему язвительно сообщили, что он должен безупречно знать очертания всей реки, потому что только тогда можно уверенно править темной ночью. Но ночь ночи рознь. В ясную звездную ночь тени настолько черные, что если не знаешь береговых очертаний безукоризненно, будешь шарахаться от каждой кучки деревьев, принимая ее за мыс. Напротив, в безлунную темную ночь берега кажутся прямыми и туманными линиями, но ты смело ведешь судно вперед (истинный рисунок береговой линии у тебя в голове), и непроницаемая туманная стена расступается и пропускает тебя. А вот когда над рекой висит мокрый серый туман, берег не имеет вообще никаких очертаний… и так далее и тому подобное. Когда ошарашенный ученик спросил, неужели он должен учить эту бесконечную реку со всеми ее бесчисленными изменениями, мистер Биксби ответил, что это ни к чему. Достаточно запомнить настоящие очертания и вести судно, сообразуясь с картинкой в голове и не обращая внимания на то, что у тебя перед глазами.
«– Ладно, я попробую; но, по крайней мере, когда я их выучу, смогу я положиться на них или нет? Останутся ли они всегда такими, без всяких фокусов?
Прежде чем мистер Биксби смог ответить, мистер У. пришел сменить его и сказал:
– Биксби, ты будь повнимательней у Президентова острова и вообще выше района «Старой наседки с цыплятами». Берега размываются совершенно. Не узнать уже реки выше мыса на Сороковой миле! Сейчас там можно провести судно между берегом и старой корягой.
Тем самым я получил ответ на свой вопрос: бесконечные берега все время меняли свои очертания. Я снова повержен был во прах. Две вещи стали мне абсолютно ясны; во-первых, что, для того чтобы стать лоцманом, надо усвоить больше, чем дано любому человеку; и во-вторых, что все усвоенное надо переучивать по-новому каждые двадцать четыре часа».
Марк Твен приводит впечатляющий пример, чтобы читатель хотя бы отдаленно мог представить себе тот непомерный объем информации, который лоцман должен держать в голове. Вообразите себе, говорит он, самую длинную улицу в Нью-Йорке. Исходите ее вдоль и поперек, терпеливо запоминая все мельчайшие детали – каждый дом, фонарный столб, дверь, окно, вывеску; выучите наизусть вид и очертания всех поворотов и перекрестков. И вот когда непроглядной ночью вас поставят наугад посреди этой улицы, а вы сразу же сообразите, где находитесь, и сумеете с исчерпывающей полнотой описать это место, тогда в первом приближении вы сможете представить, что должен знать лоцман, чтобы без аварий вести пароход по Миссисипи.
Писатель пропел лоцманской памяти самый настоящий панегирик, и надо сказать, что у него были для этого все основания. Чтобы продемонстрировать, каких высот может достигать профессиональная память обычного человека, процитируем Твена еще раз.
«Пусть лотовый кричит: «Два с половиной, два с половиной, два с половиной!» – пока эти возгласы не станут монотонными, как тиканье часов; пусть в это время идет разговор и лоцман принимает в нем участие и сознательно уже не слушает лотового; и посреди бесконечных выкриков «Два с половиной» лотовый хотя бы раз, ничуть не повышая голоса, крикнет: «Два с четвертью» и снова затвердит свои «Два с половиной», как раньше, – через две-три недели лоцман точно опишет вам, какое положение пароход занимал на реке, когда крикнули «Два с четвертью», и даст вам такое количество опознавательных знаков и прямо по носу, и по корме, и по бортам, что вы сами легко смогли бы поставить судно на указанное место. Выкрик «Два с четвертью» совершенно не отвлек его мысли от разговора, но его натренированная память мгновенно запечатлела все направления, отметила изменение глубины и усвоила все важнейшие детали для будущих справок совершенно без участия его сознания».
Остается только преклоняться. Однако по большому счету ничего удивительного в этом нет, поскольку ослепительный блеск лоцманской памяти ограничивается кругом его непосредственных обязанностей. Это типичная профессиональная память, великолепный пример того, какие чудеса может творить упорная тренировка. Такой человек с легкостью запоминает результаты промеров и очертания берегов, но если спросить его, что он ел на завтрак, он почти наверняка надолго задумается. Вне профессиональной сферы это обычная человеческая память.
Но есть на свете люди, которым упражнять память ни к чему, поскольку они просто не умеют забывать. О таком удивительном выродке, тоже лоцмане по профессии, есть коротенькая новелла в «Жизни на Миссисипи».
«Кто-нибудь, например, упомянет чье-либо имя, и немедленно вмешивается мистер Браун:
– А-а, я его знал! Такой рыжеволосый малый с бледным лицом и маленьким шрамом на шее, похожим на занозу. Он всего шесть месяцев служил на Юге. Это было тринадцать лет назад. Я с ним плавал. В верховьях вода стояла на уровне пяти футов; «Генри Блэк» сел на мель у Тауэровского острова, потому что имел осадку четыре с половиной; «Джордж Эллиот» сломал руль о затонувший «Санфлауэр»…
Как, да ведь «Санфлауэр» затонул только…
Я-то знаю, когда он затонул: ровно на три года раньше, второго декабря; Эзра Гарди был капитаном, а его брат Джон – помощником; то был первый его рейс на этом судне; Том Джонс рассказывал мне про все это неделю спустя, в Новом Орлеане; он был старшим помощником на «Санфлауэре». Капитан Гарди ранил гвоздем ногу шестого июля следующего года и пятнадцатого – умер от столбняка. А брат его Джон умер через два года, третьего марта, от рожи. Я этих Гарди и не видел никогда, – они плавали на реке Аллегани, но те, кто их знал, рассказывали мне их историю. Говорили, что этот капитан Гарди и зиму и лето носил бумажные носки; первую его жену звали Джейн Шук, – она была родом из Новой Англии; а вторая умерла в сумасшедшем доме. У нее безумие было наследственное. Сама она была урожденная Хортон из Лексингтона, штат Кентукки.
И вот так, часами, этот человек работал языком. Он не способен был забыть хоть что-нибудь… Самые ничтожные мелочи хранились в его мозгу в течение многих лет отчетливо и ясно, как если бы это были самые интересные события. У него была не только лоцманская память: она охватывала все на свете. Если он начинал рассказывать о пустячном письме, полученном семь лет назад, вы могли быть уверены, что он процитирует его целиком на память. После чего, не замечая, что он отклоняется от основной темы разговора, он почти всегда мимоходом вдавался в длиннейший и подробнейший пересказ биографии лица, писавшего это письмо; и вам положительно везло, если он не вспоминал по очереди всех родственников и не излагал кстати и их биографии».
Совершенно очевидно, что память Брауна – это не обычная лоцманская память. Она не ограничивается профессиональной сферой, а вбирает и фиксирует все. Марк Твен совершенно справедливо замечает, что такая память – великое несчастье, поскольку все события имеют для нее одинаковую ценность. Такой человек решительно не в состоянии отделить главное от второстепенного; более того, он даже не может структурировать факты в зависимости от их занимательности. Интересное и проходное для него равнозначны, и повествуя о чем-нибудь, он непременно загромождает свой рассказ кучей утомительных подробностей. С такой памятью надо родиться, и не подлежит никакому сомнению, что любой, даже самый изнурительный тренинг не позволит добиться столь впечатляющих результатов. Однако уникальная память лоцмана Брауна – это далеко не предел. Если возвести его редкие способности в энную степень, мы получим феномен Ш., так выразительно описанный А.Р. Лурией.
Нам уже давным-давно пора вернуться в кабинет Александра Романовича, но я просто не в силах побороть искушение процитировать Твена под занавес еще раз. Поэтому давайте последуем известному совету Оскара Уайльда, который в свое время сказал, что лучший способ побороть искушение – это поддаться ему. И хотя излагаемая ниже история никакого отношения к памяти не имеет, она, тем не менее, весьма поучительна, ибо замечательно иллюстрирует трудности лоцманского ремесла.
Итак, мистер Биксби однажды спросил у нашего героя, знает ли он, как вести судно на протяжении ближайших нескольких миль. Тот ответил, что это один из самых простых участков: сначала надо идти в такую-то излучину, потом обойти следующую, затем пересечь прямо… Короче говоря, ученик без запинки отбарабанил весь перечень необходимых маневров. И мистер Биксби оставил его у штурвала, сказав, что вернется, прежде чем он дойдет до очередного поворота. Но как только лоцманский «щенок» оказался один на один с равнодушной рекой, его уверенность загадочным образом сразу же улетучилась без следа. Величавая Миссисипи, отменно выученная вдоль и поперек, в одночасье превратилась из открытой книги в коварного хищного зверя, подстерегающего каждое движение новичка. Невидимые опасности обступили его со всех сторон. Прямо по курсу неведомо откуда вдруг вынырнула крутая мель, и наш герой запаниковал, заметался, как угорелый, стремясь от нее уйти всеми правдами и неправдами. Но назойливая мель никак не желала отставать и упорно преследовала пароход. Подняв невообразимый тарарам, незадачливый лоцман в слепом отчаянии танцевал возле штурвала, а судно тем временем описывало всевозможные замысловатые кривые, пока едва не уткнулось носом в густой кустарник, росший на противоположном берегу.
И в этот момент на верхнюю палубу поднялся невозмутимый мистер Биксби. Кротко улыбаясь, он осведомился в своей обычной язвительной манере, какая муха укусила ученика, и что вообще означают эти лихие маневры. Перепугавшийся до полусмерти, растерянный и униженный «щенок» ответил, что он уходил от крутой мели. Мистер Биксби возразил, что этого никак не могло быть, поскольку на несколько миль кругом их нет ни одной.
«– Но я ее видел. Она была такой же крутой, как вон та.
– Да, именно. Ну-ка, иди через нее!
– Вы приказываете?
– Да, бери ее.
– Если я не пройду, лучше мне умереть!
– Ладно, я беру ответственность на себя».
Приказы, как известно, не обсуждаются. Стиснув зубы, ученик встал к штурвалу, и пароход как по маслу, легко и непринужденно проскользнул над жуткой крутой мелью.
«– Ну, теперь ты видишь разницу? Это была простая рябь от ветра. Это ветер обманывает.
– Да, вижу, но ведь она в точности похожа на рябь над мелководьем. Как же тут разобраться?
– Не могу тебе сказать. Это чутье. Со временем ты будешь сам во всем разбираться, но не сможешь объяснить, почему и как».
Поставив жирную точку, попрощаемся на этой ноте с увлекательным романом Марка Твена и обратим свое внимание на фантастические способности нашего памятливого знакомца Ш.
Прежде всего: в ходе психологических опытов А. Р. Лурии со всей очевидностью выяснилось, что Ш. был ярко выраженным эйдетиком и синестетиком. Термин «эйдетизм» (от греческого eidos – образ) впервые предложил немецкий психолог Иенш, много лет занимавшийся изучением этого феномена. Человек, обладающий развитой эйдетической памятью, продолжает видеть предметы, после того как они исчезли из поля зрения. Если такому человеку на короткое время предъявить картинку, а потом попросить ее описать, он легко справится с заданием, не упустив при этом ни одной мелочи. Запутанная композиция тоже не поставит его в тупик, потому что эйдетик в отличие от нас с вами не припоминает изображение, а просто-напросто продолжает его видеть, без труда «считывая» необходимую информацию. Художник Гаварни, о котором рассказывалось в начале этой главы, как раз в полной мере обладал именно такой яркой образной памятью. Естественными эйдетиками являются почти все дети, поэтому в детстве нам с такой легкостью удается заучивать длинные стихотворения и целые главы из учебников. В специальных психологических опытах было не раз показано, что многие дети подробно и практически безошибочно описывают очень сложные в композиционном отношении картинки. С годами эта удивительная особенность нашей памяти, к сожалению, утрачивается, но ее слабые отголоски могут сохраняться вплоть до юношеского возраста. Например, автору этих строк в студенческие годы при подготовке к экзаменам удалось однажды за два дня, оставшихся до конца сессии, осилить два толстенных «кирпича» – учебники по биохимии и нормальной физиологии. При ответе на вопросы экзаменатора нужные страницы послушно всплывали перед внутренним зрением, и требовалось только лишь адекватно передать их содержание.
Угасание эйдетической памяти с возрастом – закономерный процесс, но у некоторых людей, особенно у профессиональных живописцев, она нередко сохраняется до конца жизни. Тогда говорят о феноменальной зрительной памяти, которая, по сути дела, и есть эйдетизм, не знающий разницы между запоминанием и воспроизведением.
Присмотритесь к маленькому ребенку: если сказка ему нравится, он требует, чтобы ее рассказывали снова и снова и непременно, как в прошлый раз.
Он бурно восстает против любых улучшений и поправок, требуя дословного воспроизведения эталонного текста. Младенчество – это пора великого информационного голода, когда явления окружающего мира впитываются нашей памятью в объемах, превосходящих всякое воображение. Понятно, что на этом этапе развития без прочной механической памяти, не подвластной ни времени, ни усталости, обойтись решительно невозможно. Но с годами мы начинаем прибегать к ее услугам все реже и реже. Выдалбливание материала наизусть постепенно вытесняется его осмыслением; вместо бессмысленного зазубривания от нас начинают требовать понимания, умения выделять главное, решать задачи и составлять планы. Буквальное воспроизведение прочитанного сменяется умением изложить текст своими словами. Не получая подпитки извне, механическая память мало-помалу тускнеет, но мы ничуть не сожалеем об этой утрате. И в самом деле: в эпоху бурно развивающихся информационных технологий (польский фантаст Станислав Лем в свое время предложил весьма удачный термин – мегабитовая бомба) всего не упомнишь, хоть тресни. Да и стоит ли забивать себе голову справочной информацией? Нужно думать, соображать, вникать в суть проблемы, а голые факты в избытке содержатся в словарях и энциклопедиях.
Помните, как доктор Ватсон пытался отгадать род занятий своего нового соседа? Он даже специальную анкету составил – что знает и чего не знает мистер Холмс. Анкета получилась какой-то нелепой: с одной стороны, огромная эрудиция в области уголовной хроники и почти профессиональное знание химии и геологии, а с другой – полное невежество в элементарных вещах. Например, Холмс не знал, что Земля вращается вокруг Солнца. Глядя на потрясенного Ватсона, Холмс улыбнулся и пояснил, что у него имеются свои собственные, вполне оригинальные подходы к организации умственного багажа. Наш мозговой «чердак», сказал он, далеко не резиновый, поэтому все необходимые для работы инструменты следует содержать в образцовом порядке. А вот иной дурак натащит туда всякой рухляди, так что до нужной вещи уже и не доберешься. Но помилуйте, возразил Ватсон, не знать в конце XIX столетия, что Земля вращается вокруг Солнца… На кой черт она мне, раздраженно ответил Холмс, ну а если бы я узнал, что мы вращаемся вокруг Луны, много бы это мне помогло в моей работе?
Это, конечно, анекдот, но можно вспомнить и вполне реальную историю – знаменитую беседу Эдисона с Эйнштейном. Говорят, Эдисон однажды посетовал, что никак не может найти себе помощника. «А что он должен уметь?» – спросил Эйнштейн. «Ничего не должен, я и сам все умею, а вот помнить ему необходимо многое». «Например?» – заинтересовался Эйнштейн. «А вот, полюбуйтесь», – сказал Эдисон и протянул список. «Температура плавления олова, – прочитал Эйнштейн, почесав в затылке, – гм-м, надо посмотреть в справочнике по металловедению». «Длина моста через Гудзон, – читал он дальше, – это мы сможем найти в географическом справочнике». И добавил: «Не дожидаясь третьего вопроса, свою кандидатуру снимаю сам». Шутки шутками, но блестящая память, как мы видим, это еще не все. Известно, что у самого творца теории относительности память была так себе, а о его рассеянности и вовсе ходило множество баек. А ведь не последний был физик и сумел с грехом пополам кое-что открыть…
Синестезия – феномен совершенно иного рода, встречающийся много реже эйдетизма. С греческого этот термин можно перевести как «соощущение», или «слитное ощущение». Трехтомный словарь медицинских терминов определяет синестезию сухо и лаконично: это «возникновение при раздражении органа чувств наряду с адекватными каких-либо других ощущений (например, ощущение цвета при слушании музыки)». Зрение, слух, осязание, обоняние, вкус – все чувства у такого человека перемешаны, между ними нет никаких перегородок. Он видит звук и слышит цвет в самом буквальном смысле этого слова. Все пять анализаторов мертвой хваткой дружно вцепляются в предмет и стремительно лепят из него целостный синкретичный образ. Синестетик разглядывает музыку как живописное полотно: один звук для него розовый, другой – синий, третий – удушливо-черный, а четвертый – охряно-желт и вдобавок слегка горчит. Природа этой загадочной врожденной аномалии до конца не ясна. Нейрофизиологи полагают, что дело заключается в особенностях архитектоники коры головного мозга. Если в случае эйдетизма можно думать о мощном развитии зрительных или слуховых зон мозговой коры, чем и объясняется феноменальная память на образы определенного ряда, то у синестетика, по всей вероятности, наблюдается избыток контактов между этими зонами.
С другой стороны, все мы немного синестетики. Мы запросто говорим о теплых и холодных цветах, сочных или приглушенных красках и замечаем между делом, что, скажем, вон тот человек одет крикливо. Никого не удивишь выражением «вкусная живопись», а уж пронзительный свет давным-давно сделался расхожим штампом. Если цвет вызывает у нас такую бездну ассоциаций, то почему бы и звукам не приобрести окраску? Хорошо известно, что многие композиторы видят музыку: о несомненной связи между музыкальными тональностями и цветом писали Чюрленис и Скрябин, а Римский-Корсаков утверждал, что видит до мажор красным. Звуки речи тоже окрашены вполне определенным образом, и недаром едва ли не вся мировая поэзия держится на изысканной метафорике и изощренной звукописи. За примерами ходить далеко не придется, достаточно вспомнить хотя бы Осипа Мандельштама:
Художник нам изобразил
Глубокий обморок сирени
И красок звучные ступени
На холст как струпья положил.
Он понял масла густоту, —
Его запекшееся лето
Лиловым мозгом разогрето,
Расширенное в духоту.
А тень-то, тень всё лиловей,
Свисток иль хлыст, как спичка, тухнет,
Ты скажешь: повара на кухне
Готовят жирных голубей.
Угадывается качель,
Недомалеваны вуали,
И в этом сумрачном развале
Уже хозяйничает шмель.
Стихотворение называется «Импрессионизм».
А вот другой пример, на этот раз из Павла Васильева:
У этих цветов был неслыханный запах,
Они на губах оставляли следы.
Цветы эти, верно, стояли на лапах
У черной, наполненной страхом воды.
Совершенно очевидно, что звук и смысл теснейшим образом связаны между собой, и фонетический рисунок звучащего слова в известной мере определяет его значение. Более того, даже отдельный звук, взятый сам по себе, может быть окрашен. Хрестоматийный пример подобного рода – знаменитое стихотворение французского поэта Артюра Рембо «Гласные».
А – черный; белый – Е; И – красный; У – зеленый.
О – синий: тайну их скажу я в свой черед,
А – бархатный корсет на теле насекомых,
Которые жужжат над смрадом нечистот.
Е – белизна холстов, палаток и тумана.
Блеск горных родников и хрупких опахал!
И – пурпурная кровь, сочащаяся рана
Иль алые уста средь гнева и похвал.
У – трепетная рябь зеленых волн широких,
Спокойные луга, покой морщин глубоких
На трудовом челе алхимиков седых.
О – звонкий рев трубы, пронзительный и странный,
Полеты ангелов в тиши небес пространной —
О – дивных глаз ее лиловые лучи.
Соотношением звука и смысла в языковом сознании занимается специальный раздел психолингвистики – фоносемантика. В свое время известный отечественный лингвист А.П. Журавлев провел серию опытов, целью которых было выявление соответствий между звуками речи и их смыслом. В эксперименте были заняты многие тысячи участников, различающиеся по полу, возрасту, социальному положению и роду деятельности. Им предлагалось охарактеризовать все «звучащие» буквы русского алфавита по целому ряду параметров, в том числе и по цвету. Результаты оказались весьма впечатляющими. Подавляющее большинство испытуемых уверенно заявляли перед началом опыта, что звуки речи для них абсолютно нейтральны, никак не окрашены, и потому подбирали соответствия из перечня предложенных свойств как бог на душу положит, что называется, от балды. Казалось бы, при таком подходе следовало ожидать совершенно случайного распределения признаков в парах, но при обработке материала обнаружилась отчетливая закономерность. Практически никто из участников не оценил звуки «ш» и «щ» как светлые и гладкие, а букву «ы» – как нежную. Звуко-цветовые соответствия гласных букв выглядели на выходе следующим образом: А – ярко-красный, О – яркий светло-желтый или белый, И – светло-синий, Е – светлый желто-зеленый, У – темный сине-зеленый, Ы – тусклый темно-коричневый или черный. Результаты проверялись и перепроверялись много раз, и ответ получался всегда один и тот же.
Если вдуматься, ничего удивительного в этом нет: мы полагаем, что читатель вряд ли затруднится с ответом на вопрос, какой звук больше – И или О, или, скажем, какой звук светлее – О или Ы. Правда, цвета гласных, как мы видим, получились совсем не такими, как у Рембо, поэтому можно смело предположить, что французский символист или соригинальничал, или продемонстрировал сугубо индивидуальные ассоциации. Между прочим, по наблюдениям французских психологов, звук А красный и для французов, а вовсе не черный. Так что, вероятнее всего, Рембо просто пошутил, тем более рассказывают, что сам поэт от души смеялся над теми, кто всерьез принимал эти стихи.
Разумеется, А.П. Журавлев не был первопроходцем в своих фоносемантических исследованиях. Еще академик Лев Щерба, выдающийся отечественный языковед, в начале прошлого века предлагал студентам фразу следующего содержания: «Глокая куздра штеко будланула бокра и кудрячит бокренка». На первый взгляд, фраза совершенно бессмысленная, однако почти все студенты с легкостью ответили на вопрос, что за история приключилась между куздрой и бокром. Смеем надеяться, читатель тоже без особого труда поймет, что к чему, поскольку слова в этой дикой фразе сопряжены по строгим грамматическим правилам, а их (слов) фонетический рисунок придает драматическому событию неповторимый колорит. Совершенно очевидно, что куздра – скотина колючая, взъерошенная и хищная, а эпитет «глокая» только прибавляет ей свирепости.
А теперь вообразите, что вам показывают рисунок, на котором изображены два фантастических существа: одно ломкое, нескладное, с паучьими лапами, и другое – гладкое, округлое и слегка рыхловатое. Нам представляется, что любой человек, не лишенный элементарного лингвистического чутья, сразу же скажет, кто из них куздра, а кто – мануха. Столь же говорящими являются нелепые стихи Льюиса Кэрролла из «Алисы в стране чудес», например, «Шалтай-Болтай» или «Бармаглот»:
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по наве,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Одним словом, фоносемантикой накоплен богатейший материал по вопросам соотношения звука и смысла, и если читателя эта проблематика заинтересовала, он всегда может обратиться к специальной и научно-популярной литературе. Мы со своей стороны весьма рекомендуем книжки «Основы психолингвистики» И.Н. Горелова и «Звук и смысл» А.П. Журавлева. Обе они, особенно первая, написаны легко и живо и с интересом читаются.
Итак, мы пришли к выводу, что внутри звучащего слова неявно спрятан его смысл, который без особого труда можно вычленить, но зачислять всех скопом в синестетики только лишь на этом основании было бы по меньшей мере самонадеянно. Как ни крути, а обычному человеку нужно сделать над собой серьезное усилие, чтобы увидеть звук или услышать цвет. В большинстве случаев для нас это все-таки метафора, а метафора – она метафора и есть. А вот подлинный синестетик воспринимает звучание цвета не в переносном, а в самом прямом смысле слова. Звук определенной тональности вызывает у него острейшее физиологическое переживание и цвета, и запаха, и вкуса. К числу таких ярко выраженных синестетиков как раз и относился наш добрый приятель Ш.
«Какой у вас желтый и рассыпчатый голос», – сказал он однажды психологу Л.С. Выготскому. Любая музыкальная тональность обрастала у него бесчисленным количеством ассоциаций, которые и ассоциациями-то называть как-то неловко, поскольку они переживались с первозданной свежестью реальных объектов. Вот как об этом пишет С. М. Иванов в книге «Отпечаток перстня»: «Ш. дали послушать один тон – он увидел серебряную полосу, тон сделали повыше – серебряный стал коричневым, а во рту появилось ощущение кисло-сладкого борща. Один тон вызвал у него образ молнии, раскалывающей небо пополам, а от другого он вскрикнул – будто игла вонзилась в спину. Какие уж тут метафоры! Гласные были фигурами, согласные брызгами, а цифры то молочными пятнами, то башнями, то вращающимися отрезками. Все имело свою форму, свое звучание, свой цвет и вкус…» А. Р. Лурия в своей «Маленькой книжке о большой памяти» вспоминает, как однажды он, забыв, с кем имеет дело, спросил Ш., не запамятовал ли тот, как пройти к нему в институт. «Нет, что вы, – ответил он, – разве можно забыть? Ведь вот этот забор – он такой соленый на вкус и такой шершавый, и у него такой пронзительный звук…».
Как-то раз он пожаловался Лурии, что ему сильно мешает шум, доносящийся из соседней комнаты. Шум превращался у него в брызги и клубы пара, и эта клокочущая взвесь заслоняла таблицу, которую он должен был заучить. Ш. обитал в удивительном мире, где значение слов почти целиком определялось их звучанием. Например, слово «самовар» устраивало его во всех отношениях. Самовар, объяснял он Лурии, это сплошной нестерпимый блеск, идущий, конечно же, не от самовара, а от буквы «с». Фонетическая оболочка в данном случае никак не противоречит реальному предмету. А вот фамилия домашнего врача Тигер немедленно вызвала у него внутренний протест. «Тигер, – говорил Ш., – это такая острая колючая палка, из-за «е» и «р» она втыкается вниз, а тут вдруг явился пышущий здоровьем румяный доктор». Неувязочка, однако, вышла…
Когда он вычитал в гоголевских «Старосветских помещиках» незнакомое ему дотоле слово «коржик», то сразу же составил о нем исчерпывающее представление, опираясь единственно на фонетическое строение этого слова. Когда же ему довелось познакомиться с реальным коржиком вживе, он не смог его съесть: несовпадение вымышленного объекта с реальным продуктом кондитерской промышленности оказалось настолько разительным, что Ш. едва не вывернуло наизнанку. Справедливости ради на всякий случай отметим, что этот пассаж в книжке Лурии выглядит довольно сомнительным, поскольку в фонетической структуре слова «коржик» без особого труда прочитываются и твердость, и округлость, и шероховатость. Впрочем, с другой стороны, никак нельзя исключить, что индивидуальные ассоциации Ш. были куда богаче и разнообразнее, чем представления заурядного обывателя.
Ш. с легкостью решал задачи, которые для нас трудны, потому что мы, как правило, не мыслим наглядно. Однажды ему предложили такую задачу: «На полке стоят два тома по четыреста страниц каждый. Книжный червь прогрыз обе книги от первой страницы первого тома до последней страницы второго. Сколько страниц он прогрыз?» Нам хочется ответить, что восемьсот, хотя мы шестым чувством угадываем здесь какой-то подвох. А вот Ш. моментально сказал, что ни одной, и был, разумеется, абсолютно прав. И в самом деле – упомянутый коварный червяк прогрыз всего-навсего два переплета: чтобы в этом удостовериться, достаточно снять с книжной полки любой двухтомник.
Любое слово немедленно рождало у него живой выпуклый образ. Проблемы заучивания материала в нашем убогом понимании для него не существовало в принципе: он просто-напросто неспешно фланировал по центральной улице своего родного Торжка и мысленно расставлял заданные ему слова-образы. Думается, излишне напоминать читателю, что прогулка была воображаемой. Удивительная память Ш. бережно хранила мельчайшие подробности тех мест, где он хотя бы раз побывал, а уж улицу родного города он знал буквально наизусть. Если требовалось воспроизвести затверженный перечень, оставалось только еще раз прогуляться по той же улице и собрать растыканное по углам виртуальное барахло. Начинать условную прогулку можно было с любого места: именно поэтому Ш. с одинаковой легкостью читал бестолковый и громоздкий список как в прямом, так и в обратном порядке. Если материала было слишком много, для его размещения требовалось выбрать улицу подлиннее. Московская улица Горького (ныне Тверская) вполне отвечала этим условиям.
«Река времен в своем стремленьи уносит все дела людей и топит в пропасти забвенья народы, царства и царей», – написал однажды Г.Р. Державин. Эти совершенно справедливые слова приложимы к кому угодно, но только не к Ш. Всемогущее время было не властно над его памятью. Он мог оставить рассованные по подъездам и подворотням слова-образы на год, десять или пятнадцать лет, а потом вернуться назад, чтобы увидеть: где они стояли, там и стоят по-прежнему. Ш. помнил все до единого задания, которые когда-либо давал ему Лурия. «Да, да, – говорил он, – это было у вас на той квартире… вы сидели за столом… вы были в сером костюме… я вижу, что вы мне говорили». И запросто воспроизводил длинный ряд слов или цифр, предложенный ему двадцать лет тому назад. Его память не имела пределов ни в объеме, ни в прочности.
Иногда, очень редко, выполняя задание, Ш. ошибался – пропускал один или два предмета. Поначалу Лурия даже несколько воспрянул духом: оказывается, что и этому монстру ничто человеческое не чуждо. Но очень быстро выяснилось, что ошибки Ш. были ошибками внимания, а не памяти. Он просто-напросто неудачно разместил некоторые слова. Карандаш он прислонил к штакетнику и, проходя мимо, не обратил на него внимания, яйцо потерялось на фоне белой стены, а ящик сунул второпях в темную подворотню. Он не забывал, а не замечал.









































