Читать книгу "Между ушами. Феномены мышления, интуиции и памяти"
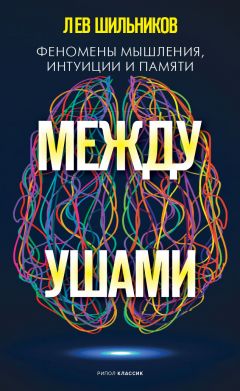
Автор книги: Лев Шильников
Жанр: Прочая образовательная литература, Наука и Образование
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
Осознав потенциальные возможности своего дара, Ш. пустился во все тяжкие, сделавшись профессиональным мнемонистом. Он забросил работу в газете и стал выступать с публичными сеансами, демонстрируя свои уникальные способности. Однако на этом тернистом пути его подстерегали неожиданные трудности. Публике не было никакого дела, что шум в зале превращается у Ш. в брызги и клубы пара, заволакивающие все вокруг. Для заучивания ему сплошь и рядом предлагали незнакомые слова, а то и вовсе бессмысленные сочетания цифр и звуков, и чтобы запомнить всю эту абракадабру, ему приходилось опираться исключительно на переливы красок, звуковые нюансы, шероховатость и оттенки вкуса и запаха. Совершенствуя свою эйдотехнику, он начал изобретать новые приемы запоминания. Если раньше при произнесении какого-либо слова у него в голове возникал целостный образ, то теперь он стал отсекать лишнее, редуцируя законченную картинку к одному-единственному броскому элементу.
«Nel mezzo del camin di nostra vita / Mi ritrovari per una selva oscura», – кричали ему из зала. Ш. не знал итальянского и не мог догадаться, что это первые строки из «Божественной комедии»: «Земную жизнь пройдя до половины, я очутился в сумрачном лесу…» Вслушиваясь в звучание незнакомых слов, он видел перед собой балерину Нельскую, скрипача (mezzo – это какой-то музыкальный термин), папиросы «Дели», камин, указующий перст (di – это, очевидно, иди) и прочее в том же духе. Selva (лес по-итальянски) превращалась у него в опереточную Сильву, но чтобы она была все-таки сельвой, а не Сильвой, под ней с треском ломались подмостки.
Но самое неприятное открытие заключалось в том, что его всеобъемлющая память под завязку забивалась невообразимой ахинеей, от которой он никак не мог потом избавиться. Если мы с вами больше всего озабочены тем, как бы не забыть чего важного, то Ш. занимала проблема прямо противоположного свойства. Забывать он не умел, но очень хотел этому научиться. Он начал записывать слова, которые выкрикивали из зала на вчерашнем сеансе, чтобы выкинуть из головы эту чушь. Ш. верно разобрался в существе дела: ведь мы записываем не для того, чтобы запомнить, а чтобы важная информация всегда была под рукой. Недаром еще Платон говорил, что изобретение письменности способствовало ухудшению памяти. Но записывание не помогало. Тогда он, как языческий огнепоклонник, стал сжигать листки с записями, но и эта радикальная мера ничего не дала. Ш. мучился и страдал, изобретая всевозможные приемы забывания, но все было тщетно. В конце концов помогло только самовнушение. «Не хочу этого помнить», – говорил он себе, и ненужные сведения улетучивались без следа. А.Р. Лурия назвал эту методику летотехникой – искусством забывать (Лета – река забвения у римлян).
Невероятная память Ш. была в одно и то же время его благом и проклятием, послушной служанкой и божеским наказанием. Синестезии не только помогали, но и мешали ему. Например, он плохо запоминал человеческие лица, сетуя на их текучесть, изменчивость и подвижность. Это непостоянство буквально выводило его из себя. То ли дело забор или стена дома – они удручающе невыразительны и всегда одни и те же. Еще хуже ему давались осмысленные тексты, ибо каждое слово немедленно обрастало у него таким количеством живых образов и всевозможных ассоциаций, что чтение превращалось в сущую пытку. Скажем, он читает «Старосветских помещиков». «Афанасий Иванович выходил в сени и, стряхнувши платком, говорил: «Киш, киш! пошли, гуси, с крыльца!», а в памяти со всеми подробностями тут же всплывает другое крыльцо, на которое выходила гоголевская Коробочка в «Мертвых душах». Образы начинали роиться вокруг него с басовитым жужжанием, как пчелы в знойный полдень, и он в раздражении отшвыривал книгу.
Совсем плохо обстояло дело у Ш. со сложными текстами, перенасыщенными метонимиями и метафорами. Уловить переносный смысл слова ему было мучительно трудно, поскольку яркая зрительная картинка, непроизвольно вспыхивающая в сознании, обладала свежестью и полнотой реального предмета. Чтобы вычленить дополнительные смыслы, нужно отвлечься от буквального представления, а вот этого Ш. как раз не умел. Читать стихи он не мог, поэзия оставалась для него тайной за семью печатями.
Отвлеченные понятия тоже были для него форменной мукой. «Ничто», «скорость», «бесконечность», «благоразумие», «категоричность» – все эти абстракции вгоняли Ш. в смертельную тоску. Мы тоже далеко не все можем представить наглядно, но сие обстоятельство нас ничуть не тревожит, потому что мы мыслим не предметами, а связями и отношениями. А вот у Ш. все, что он не мог увидеть вживе, немедленно заволакивалось клубами пара.
Ш. с детства был большим фантазером, и его воображаемый мир был таким же зримым и выпуклым, как мир реальный. Образы, рождаемые его причудливой фантазией, сплошь и рядом затмевали картины живой жизни – такой заряд подлинности в них был заложен. Он все время жил в двух мирах, легко перешагивая из одного в другой, настолько неуловима и зыбка была грань, их разделяющая. Лурия в своей «Маленькой книжке о большой памяти» рассказывает, как Ш. однажды проиграл очень простое судебное дело. Отправляясь на процесс, он в мельчайших деталях расписал для себя предстоящее разбирательство: где сидит прокурор, где адвокат и где судья, и как они одеты, и где сидит он сам. А в действительности все оказалось иначе, и расхождение реальности с вымыслом настолько потрясло Ш., что он не смог вымолвить ни слова.
Его чудовищную память можно смело назвать патологической, и она, конечно же, не могла не наложить отпечаток на его внутренний мир и личность в целом. Она была его проклятием, и этот тяжкий крест ему предстояло нести по жизни до конца своих дней. «Другие думают, а я вижу!» – восклицал Ш., и в этой фразе, как в капле воды, отражены все достоинства и недостатки наглядного мышления. Его воображение было настолько ярким, что реальность зачастую рисовалась ему смутным сном, мимолетными лихорадочными грезами. Вместо того чтобы быть верной и послушной служанкой, нечеловеческая память Ш. вертела им, как хотела, и он был обречен жить в мире далеких воспоминаний и странных фантазий. Он переменил с десяток профессий, но так ничего и не добился в жизни. Его личность была без остатка поглощена невозможной, болезненной памятью и почти целиком ею и исчерпывалась.
3 В добром старом учебнике психологии Бориса Михайловича Теплова написано, что «память заключается в запоминании, сохранении и последующем воспроизведении или узнавании того, что мы раньше воспринимали, переживали или делали». Современные учебники трактуют память примерно так же, повторяя известное определение Б.М. Теплова практически слово в слово. И хотя в наши дни науками о мозге накоплен огромный фактический материал относительно функционирования памяти (в различного рода теориях тоже нет недостатка), интимные механизмы запечатления, сохранения и воспроизведения следов во многом остаются тайной за семью печатями. В этой главе мы не полезем в дебри нейрофизиологии, а ограничимся рассмотрением памяти у братьев наших меньших.
3
Укол зонтиком
В добром старом учебнике психологии Бориса Михайловича Теплова написано, что «память заключается в запоминании, сохранении и последующем воспроизведении или узнавании того, что мы раньше воспринимали, переживали или делали». Современные учебники трактуют память примерно так же, повторяя известное определение Б.М. Теплова практически слово в слово. И хотя в наши дни науками о мозге накоплен огромный фактический материал относительно функционирования памяти (в различного рода теориях тоже нет недостатка), интимные механизмы запечатления, сохранения и воспроизведения следов во многом остаются тайной за семью печатями. В этой главе мы не полезем в дебри нейрофизиологии, а ограничимся рассмотрением памяти у братьев наших меньших.
Память является непременным атрибутом всех живых существ, населяющих нашу планету. В позапрошлом веке некоторые физиологи ставили вопрос еще шире, рассуждая о памяти как всеобщей функции организованной материи. При таком подходе под памятью следовало понимать сохранение любых изменений, полученных в результате внешних воздействий, после того как самих этих воздействий уже давным-давно нет и в помине. Фотографическая пластинка способна сохранять изображение, а железо – намагничиваться. А намагничивание есть не что иное, как приобретение, сохранение и воспроизведение новых свойств. Однако современная наука весьма скептически относится к столь расширительному толкованию памяти и отказывает неорганической материи в этом качестве. А вот живым организмам, даже самым примитивным, память, по-видимому, необходима, поскольку стратегия выживания, опирающаяся на фиксацию прошлого опыта, оказывается много надежней беспамятного прозябания. Эволюция не могла не подхватить столь ценный признак, и недаром выдающийся французский теолог и философ Тейяр де Шарден, бывший по совместительству палеонтологом, в свое время сформулировал закон цефализации – целеустремленного наращивания мозговой мощи.
Но, конечно, память памяти рознь. Многие одноклеточные организмы ведут себя возле пищи весьма уверенно, однако в данном случае вряд ли уместно говорить о памяти в нашем понимании. Скорее всего, речь здесь идет о таксисах – элементарных автоматических реакциях на некий стимул, сопровождающихся перемещением в пространстве. Аналогичным образом дело обстоит и с растениями. Когда усик вьюнка охватывает опору, нелепо говорить, что он запомнил ее форму. У растений отсутствует нервная система, и потому электрический импульс не передается от клетки к клетке. Растительные клетки реагируют на свет, температуру, влажность, прикосновение, гравитацию, но на рефлексы эти реакции не похожи. Соприкоснувшийся с каким-нибудь предметом усик действительно искривляется, но происходит это только потому, что его клетки в месте контакта задерживаются в своем росте, а свободные клетки продолжают расти. Усик изменяет свою форму раз и навсегда.
Однако утверждать со стопроцентной уверенностью, что память у растений отсутствует напрочь, мы, пожалуй, все-таки не решимся. Например, мимоза закрывается в сумерки и раскрывается на рассвете. Это ее естественный биологический ритм, которому она подчиняется на протяжении всей своей жизни. Так вот, выяснилось, что при помощи искусственного освещения ничего не стоит этот цикл поломать и заменить на новый. Не составит большого труда приучить мимозу закрываться не каждые двенадцать, а, скажем, каждые шесть часов, следовательно, о какой-то зачаточной форме памяти у растений в известном смысле говорить все-таки можно. Еще убедительнее опыты американского исследователя Бекстера, который укреплял на листьях филодендрона электронные регистраторы кожно-гальванической реакции (КГР). Как известно, любые изменения в эмоциональной сфере влияют у нас на работу потовых желез, и подключенный к регистратору самописец немедленно выдает пик, если фиксирует увлажнение кожных покровов. Бекстер подумал: а вдруг и пейзанки чувствовать умеют, чем, в конце концов, черт не шутит? Когда ученый чиркнул спичкой возле растения, прибор немедленно отреагировал, вычертив резко подскочившую вверх кривую. Получается, что филодендрон закричал, причем даже не от боли, а от страха, ибо прекрасно знал, чем ему грозит огонь.
Как бы там ни было, но сегодня все больше биологов склоняются к тому, что некий аналог нервной системы у растений все же имеется. Ученые пытались даже локализовать гипотетический центр, где происходит обработка сигналов и подготавливается ответная реакция. По некоторым данным, этот центр предположительно находится на шейке корней, которые способны сжиматься и разжиматься, подобно нашей сердечной мышце. Тем не менее, строгая наука относится к подобного рода выводам достаточно осторожно, справедливо полагая, что говорить об эмоциях у растений пока еще преждевременно. Поэтому и мы не станем попусту фантазировать, а поговорим о животных, наделенных полноценной нервной системой.
Нервная система членистоногих (к ним относятся ракообразные, паукообразные и насекомые) устроена очень просто и представляет собой цепочку из нескольких нервных узлов – ганглиев. При этом у насекомых, вне всякого сомнения, есть самая настоящая память, хотя и совсем непохожая на нашу. Их память скорее напоминает жестко регламентированную врожденную поведенческую программу, почти не доступную коррекции извне. Они появляются на свет с готовыми стереотипами поведения и, как правило, ничему не учатся на протяжении индивидуальной жизни. Такое поведение принято называть инстинктивным, бессознательным.
Слово «инстинкт» употребляется в быту как символ всего самого дурного и низменного в человеке. Дескать, венцу творения не к лицу подчиняться темным голосам подсознания. Но биологи и этологи (специалисты, занятые изучением поведения животных) рассматривают инстинкты иначе. Под ними понимаются просто-напросто врожденные программы поведения. Подобно тому как компьютер, не снабженный программами, представляет собой всего-навсего бесполезную груду железа, так и головной мозг, чтобы начать функционировать, должен иметь некоторый набор специфических программ: как узнавать задачи и как их решать, как учиться и чему учиться. Любое животное (и человек здесь не исключение) появляется на свет с большим набором очень сложных и тонких разнообразных программ, которые передаются по наследству из поколения в поколение. Естественный отбор их непрерывно тасует и комбинирует. Неудачные программы безжалостно выбраковываются, а удачные получают путевку в жизнь. Эволюция – суровая дама: она не знает снисхождения, она предельно несентиментальна, и лестница живых существ, протянувшаяся из прошлого в будущее, полна гекатомбами невинных жертв. Это неудачники, не сумевшие приспособиться; их программы оказались недостаточно совершенными, и поэтому равнодушная природа без сожаления указала им на дверь.
Чем примитивнее животное, тем проще и жестче его поведенческая программа. Нам с вами имеет смысл присмотреться к программам поведения роющих ос, поскольку они уже давно стали классическим объектом этологов. Пожалуй, самая известная из них – это оса Sphex, впервые описанная знаменитым французским естествоиспытателем Жаном-Анри Фабром, автором книги «Жизнь насекомых».
Осы весьма консервативны в своих привычках и охотятся на животных только вполне определенного вида. Одни предпочитают гусениц, другие – пауков, третьи – жуков, а вот сфекс – специалист по сверчкам. Когда ему приходит время отложить яйца, он сначала роет норку, а потом отправляется на поиски сверчка. Сверчок найден, и сфекс стремительно бросается в атаку, нанося три молниеносных удара жалом в нервные узлы жертвы. Этакий укол зонтиком, как в одноименном французском фильме. Сверчок остается в живых, он всего лишь парализован осиным ядом, но сфекс и не собирался его убивать. Отныне ему уготована ответственная роль своего рода живых консервов для будущей личинки сфекса. Сфекс подтаскивает сверчка к норке, оставляет его у входа и ныряет внутрь, чтобы проверить, не забрался ли в гнездо кто-нибудь посторонний.
После этого оса ухватывает парализованного сверчка за усики, втаскивает его в норку и откладывает яйцо ему на брюшко. Затем сфекс отправляется на поиски другого сверчка, и операция повторяется.
Вход в норку оса старательно замуровывает песком и мелкими камешками. Дело сделано: два яйца отложены на двух сверчках, и личинки теперь обеспечены свежим пропитанием на все время своей жизни, вплоть до того момента, когда им предстоит превратиться во взрослых ос и вылететь из гнезда. Когда это произойдет, их матери давным-давно не будет в живых, но у новорожденных ос на душе спокойно. Им не нужно учиться заботе о потомстве, они все знают с самого начала.
Фабр на разных этапах вмешивался в эту расписанную как по нотам процедуру заготовки провианта, чтобы посмотреть, как поведет себя сфекс. Как и следовало ожидать, он реагировал предельно стереотипно, явно не умея приспособиться к изменившимся обстоятельствам. Сфекс был похож не на разумное существо, а на запрограммированный автомат, обреченный на бесконечное повторение раз и навсегда заученных операций. Фабр обрезал у сверчка усики, и сфекс, вместо того чтобы ухватить добычу за лапку или брюшко, полетел за новым сверчком. Когда сфекс, оставив сверчка у входа, отправился инспектировать гнездо, Фабр отодвинул парализованное насекомое в сторону. Выбравшийся наружу сфекс в растерянности заметался возле норки, обнаружил сверчка, опять подтащил его поближе к норке и снова нырнул под землю. Фабр повторил эту процедуру не менее сорока раз, и сфекс с упорством, достойным лучшего применения, каждый раз снова и снова лез под землю, но так и не догадался прихватить с собой сверчка. Когда сфекс замуровал вход в гнездо, Фабр извлек пробку и вытащил сверчка на поверхность вместе с отложенным яйцом. Оса была в это время поблизости и, увидев приключившийся непорядок, привычно полезла вниз. Выбравшись наверх, она закупорила норку новой пробкой и улетела. Ей совершенно не было дела до того, что норка пуста. Совершенно очевидно, что перед нами фиксированный набор программ, жестко сцепленных между собой. Одно действие немедленно влечет за собой другое, и насекомому, переходящему к последующей операции, никогда не приходит в голову проверить результативность предыдущей. Слепой инстинкт и ни тени разума.
Иногда врожденные инстинктивные программы отличаются исключительной сложностью. Вот что пишет известный отечественный этолог В.Р. Дольник: «Обитающие в Южной и Юго-Восточной Азии маленькие птички портнихи при постройке гнезда сшивают между собой края нескольких листьев. Делают они это при помощи ниток, изготовленных из растительного волокна. Концы волокон аккуратно завязывают узелком… Кстати, африканские ткачики, строя гнезда из растительных волокон, завязывают их несколькими типами сложных узлов, причем точно такими же, какими пользуются швеи и моряки.
Такую же по сложности работу проделывают и совсем крошечные африканские муравьи-ткачи, причем работают коллективно. Сначала они, сцепившись в живые цепочки, постепенно стягивают вместе края двух листьев. Затем их сестры берут в челюсти личинок и выдавливают из них клейкую жидкость, застывающую в нить. Орудуя этими «тюбиками», муравьи аккуратным зигзагообразным швом скрепляют листья». Как мы видим, для создания сложных форм поведения природе сплошь и рядом даже не требуется большой мозг.
До недавнего времени биологи разводили инстинктивное и рассудочное поведение животных по разные стороны баррикад. Казалось само собой разумеющимся, что инстинкт – это не более чем косная, неподвижная и предельно жесткая программа, не допускающая никаких отступлений от раз и навсегда заведенного порядка вещей. Однако этология решительно перечеркнула эту удобную точку зрения. Оказалось, что даже полностью инстинктивные программы по-своему не заперты для индивидуальных открытий. Между прочим, еще Фабр упоминал о том, что ему попадались «башковитые» осы, которые щелкали его хитрости как орехи. Он пишет, что не единожды наблюдал, как сфекс промахивался, нанося свой разящий удар, и тогда между ним и сверчком завязывалась яростная схватка, из которой сфекс далеко не всегда выходил победителем. Разумеется, такой поединок невозможно запрограммировать, и оса вынуждена действовать на свой страх и риск. Так что даже сфекс отнюдь не всегда безмозглый автомат и при необходимости умеет пренебречь врожденной инструкцией. И чем выше то или иное животное стоит на эволюционной лестнице, тем богаче его видовые программы и тем больше в них элемента рассудочности.
Аисты по своей врожденной программе ищут для постройки гнезда сломанное бурей дерево. Когда появились высокие кирпичные трубы, программа по ошибке принимала их за сломанное дерево, и некоторые аисты стали вить гнезда на трубах. Дальше – больше: их дети, запечатлев, на чем помещалось родительское гнездо, уже вовсю пользовались трубами. В наши дни аисты «открыли», что фермы линий электропередач тоже замечательно подходят для этой цели, в результате чего были освоены новые опоры для гнездования.
Можно привести пример инстинктивного поведения подлинно высокого класса, когда животное совмещает части двух разных программ, в обычной жизни никак не связанных. Те, кто держал дома неразлучников (это вид попугаев), знают, что эти птицы выстилают гнездо длинными листьями травы. Это одна программа, которая содержит в себе подходящий для строительства гнезда образ травы. Оказавшись в неволе, неразлучники поступают так: из обыкновенной бумаги они нарезают клювом ровные длинные полоски (необходимо заметить, что программа надкусывания и нарезания тоже врожденная, но она, что называется, совсем из «другой оперы»). Если не знать о существовании врожденных программ, то действия неразлучников можно принять за совершенно разумные.
Еще более впечатляет поведение больших синиц. Эта история вполне хрестоматийна и вошла чуть ли не в каждый учебник по зоологии. Около 50 лет назад большие синицы в Англии научились выковыривать картонные затычки из бутылок с молоком, которые было принято оставлять при входе в дом. Самое удивительное заключалось в том, что примерно с той же скоростью (правильнее сказать – со скоростью распространения такой информации по миру) точно такой же прием стали обнаруживать у синиц и в других странах. С тех пор синицы уверенно соревнуются с людьми в сфере пищевых технологий: когда появились пробки из фольги, птицы тут же научились их легко открывать; когда молоко спряталось в коробки, синицы быстро приноровились вскрывать коробки самых замысловатых форм; а когда молоко стали упаковывать в непрозрачные пластиковые емкости – без особого труда нашли управу и на них. Птицы великолепно поняли, что молоко – штука очень хитрая, умеющая менять обличия и изощренно прятаться. С другой стороны, они, синицы, тоже не лыком шиты: у них всегда достанет изобретательности решить задачу, которая только на первый взгляд кажется неразрешимой. Это пример по-настоящему творческого подхода: отбор изначально предполагал приемы успешной ловли насекомых, но когда оказалось, что «диапазон приемлемости» можно легко расширить, птицы не преминули этим воспользоваться.
Ничуть не менее удивительны бобры – одновременно превосходные дровосеки и плотники, землекопы, гидростроители и гидрологи. Умело выявив все наземные и подземные стоки на маленьком лесном ручейке и надежно их перекрыв, как заправские инженеры-гидротехники, бобры создают обширное водное зеркало, питаемое разветвленной сетью искусно оборудованных каналов. Ни сложный рельеф местности, ни песчаный или глинистый грунт не являются помехой для этих впечатляющих гидросооружений. Специалисты, которым довелось познакомиться с планами бобровой мелиорации, в один голос говорят, что в каждом конкретном случае было найдено нетривиальное и оптимальное для данных условий решение, требующее не только немалых знаний (их дает инстинктивная программа), но и глубоких творческих раздумий при поиске оптимального варианта решения среди многих возможных.
Да что там бобры и птицы! Даже общественные насекомые, такие как пчелы, муравьи или термиты, сплошь и рядом демонстрируют примеры подлинно разумного поведения. Социальная жизнь муравейника исключительно сложна и поражает до глубины души даже специалистов, а уж непосвященным представляется и вовсе чудом. Среди разношерстной муравьиной публики, торопливо снующей в потемках бесконечных коридоров, вы без особого труда обнаружите и охотников, и пастухов, и жнецов, и строителей, и портных, и солдат, и фуражиров, и даже специально выпестованных амазонок, не способных ни на что, кроме войны. Рабовладения они тоже не чураются. Врожденная мораль муравьев позволяет им применять оружие против соседей, и агрессивные амазонки, искрошив неприятеля вдребезги, захватывают в плен куколок бурых лесных муравьев. Через некоторое время из них получатся замечательные рабы. Набег на чужое поселение совершается по всем правилам военной науки.
Муравьиная цивилизация благополучно процветает сотни миллионов лет, и даже грандиозные экологические катастрофы, не единожды сотрясавшие нашу планету, не смогли поколебать эту удивительную стабильность. Знаменитый катаклизм пермского периода, отправивший в небытие около 80 % тогдашней фауны (и это только по самым скромным оценкам), популяцию вездесущих муравьев практически не затронул.
Изучением муравьев занимается наука мирмекология. Мирмекологи насчитывают около десяти тысяч видов муравьев, т. е. в два с лишним раза больше, чем всех вообще млекопитающих. Все они – общественные насекомые, образующие сложные семьи, состоящие из нескольких каст. Муравьи сооружают гнезда в почве, древесине, на поверхности земли (так называемые муравейники), а некоторые виды тропических муравьев гнезд не строят и ведут бродячий образ жизни.
Специалистов всегда удивляло разительное несоответствие между ничтожно малыми размерами нервной системы отдельно взятого муравья и сложной социальной структурой муравейника, представляющего собой, по сути дела, монолитный организм, оперативно и умело откликающийся на любое воздействие извне. По некоторым данным, нервная система муравья содержит всего около 500 тыс. нейронов, тогда как только в головном мозге человека их примерно 50 млрд, т. е. в 100000 раз больше. Возникает резонный вопрос: каким образом столь крохотному созданию удается построить идеально функционирующий социальный организм?
Вопрос этот далеко не праздный, ибо муравьиная семья – весьма гибкая структура, оперативно откликающаяся на любое возмущение, а ее деятельность поражает целенаправленностью. Например, муравьи – опытные и умелые животноводы, ничуть не хуже человека разумного. Они разводят тлей и употребляют в пищу их выделения – так называемую падь, исключительно богатую углеводами. Особая каста населения муравейника – муравьи-фуражиры носят падь в зобиках, чтобы кормить ею остальных членов семьи. Муравьи не только регулярно доят тлей, но и заботятся о процветании стада, защищая их от вредителей и других насекомых. Хозяйственные муравьи внимательно следят за состоянием кормовой базы своих подопечных, перенося их на наиболее «сытные» участки растения, строят навесы для защиты от солнца, скотные дворы и павильоны, а на зиму уносят самок тлей в теплый муравейник. Стоит ли после этого удивляться, что в опекаемых муравьями колониях скорость развития и размножения тлей значительно выше, чем в самостоятельных сообществах?
Муравьи не только замечательные скотоводы, но, если можно так выразиться, рачительные земледельцы и огородники. У муравьев некоторых видов изрядную часть рациона составляют семена различных трав. Муравьи сберегают их в специальных сухих хранилищах, а перед едой очищают от кожуры и измельчают в муку. Мука смешивается со слюной насекомых-кормильцев, а питательное тесто скармливается личинкам. Муравьи подходят к делу серьезно, принимая специальные меры, чтобы обеспечить сохранность зерна. Например, после периода затяжных дождей семена выносят из хранилища на поверхность и сушат. Муравьи других видов заводят в своих муравейниках самые настоящие грибные плантации для получения высококалорийной белковой пищи. Скажем, муравьи-листорезы, питающиеся почти исключительно грибами и строящие огромные подземные города, непременно в каждом гнезде создают грибную плантацию. Грибы могут расти только на специальном грунте, и для его получения рабочие муравьи нарезают зеленые листья аккуратными пластинками и уносят их под землю. Там, в особых галереях, теплых и влажных, смешанная с экскрементами листва перепревает, и на нее высаживаются грибы. Чтобы плантация не истощилась, муравьи регулярно обновляют грунт в грибнице.
Как известно, бич любой сельскохозяйственной культуры – это вредители и паразиты, и грибные плантации муравьев в этом смысле отнюдь не исключение. Урожайность специально культивируемой монокультуры всегда выше, чем у ее дикого предка, но зато она страдает от многочисленных хворей, которым «дикарь» успешно противостоит. Отсюда вытекает необходимость специальных мер по защите от паразитов и вредителей, дабы культура могла успешно плодоносить и не засохла на корню. Человек, как мы знаем, создал для этого неповоротливую и громоздкую химическую индустрию, а вот муравей двинулся иным путем и разрешил проблему куда проще и эффективнее. Злейшим врагом грибных посадок является разновидность аскомицетового грибка, который в два счета превращает тучные посевы в несъедобную дрянь. Однако муравьи держат ухо востро и своевременно уничтожают паразита. Недавние исследования американских ученых показали, что для борьбы с паразитирующим грибком они применяют бактерии-актиномицеты, синтезирующие мощные узкоспециализированные антибиотики с высокой избирательностью действия. Такой антибиотик поражает только грибок-паразит и совершенно не вредит посевам. Более того, муравьям-листорезам прекрасно известно, что паразит легко приобретает устойчивость к препарату, поэтому у них под рукой всегда имеется несколько штаммов полезных бактерий. Когда муравьи переселяются на новое место, муравьиная матка переносит во рту из старого муравейника не только культуру гриба, но и колонию бактерий-актиномицетов.
О муравьях можно рассказывать бесконечно. Например, крошечные муравьи, обитающие в бассейне Амазонки, умеют строить ловушки для насекомых, которые гораздо крупнее их самих. Из волокон травянистого растения они сплетают кокон, а в его стенках проделывают множество маленьких отверстий. По поверхности кокона они размазывают культуру плесневого грибка, который склеивает растительные волокна, отчего прочность кокона значительно увеличивается. Внутрь кокона прячутся сотни рабочих муравьев и просовывают головы в изготовленные отверстия, выступая в роли своеобразных живых капканов. Когда на поверхность кокона садится какое-нибудь насекомое, муравьи мертвой хваткой вцепляются в его лапки, жвала и усики и удерживают жертву до прибытия группы специального назначения. Муравьи-солдаты жалят добычу до тех пор, пока она не будет полностью парализована. После этого насекомое расчленяют и по частям уносят в гнездо.
Еще удивительнее другой тропический муравей, до неузнаваемости перекраивающий среду обитания. В амазонской сельве иногда встречаются лесные участки, на которых растут деревья только одного вида. Вообще-то это весьма странно, поскольку дождевые экваториальные леса не знают себе равных по богатству и разнообразию флоры на единицу площади. На одном квадратном километре влажного тропического леса можно без труда насчитать несколько сотен пород деревьев. Поэтому подобная монотонность вызывает неподдельное удивление и даже немного пугает, а местные индейцы называют такие места «садами дьявола» и стараются их избегать, полагая, что там обитают злые духи. Сравнительно недавно биологи выяснили, что творцы знаменитых «садов» – муравьи определенного вида, живущие в стволах деревьев. В ходе кропотливых исследований было установлено, что муравьи просто-напросто уничтожают ростки всех других растений, впрыскивая в их листья муравьиную кислоту. Остроумный эксперимент полностью подтвердил догадку ученых: на территории одного из таких «садов» высадили саженцы других деревьев, и все они погибли в течение суток. Причины столь неразумного, на первый взгляд, поведения лежат на поверхности. Стремясь расширить ареал своего обитания, муравьи старательно уничтожают всю растительность в округе, чтобы дать выигрыш в конкурентной борьбе тем деревьям, внутри которых они живут. По оценкам специалистов, один из самых больших «садов дьявола» существует уже не менее восьмисот лет.









































