Текст книги "Полное собрание сочинений. Том 32. Воскресение"
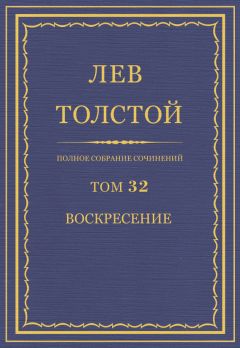
Автор книги: Лев Толстой
Жанр: Русская классика, Классика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 44 страниц)
«Стыдно и гадко, гадко и стыдно», думал между тем Нехлюдов, пешком возвращаясь домой по знакомым улицам. Тяжелое чувство, испытанное им от разговора с Мисси, не покидало его. Он чувствовал, что формально, если можно так выразиться, он был прав перед нею: он ничего не сказал ей такого, что бы связывало его, не делал ей предложения, но по существу он чувствовал, что связал себя с нею, обещал ей, а между тем нынче он почувствовал всем существом своим, что не может жениться на ней. «Стыдно и гадко, гадко и стыдно», – повторял он себе не об одних отношениях к Мисси, но обо всем. – «Всё гадко и стыдно», повторял он себе, входя на крыльцо своего дома.
– Ужинать не буду, – сказал он Корнею, вошедшему за ним в столовую, где был приготовлен прибор и чай. – Вы идите.
– Слушаю, – сказал Корней, но не ушел и стал убирать со стола. Нехлюдов смотрел на Корнея и испытывал к нему недоброе чувство. Ему хотелось, чтобы все оставили его в покое, а ему казалось, что все, как нарочно, на зло пристают к нему. Когда Корней ушел с прибором, Нехлюдов подошел было к самовару, чтобы засыпать чай, но, услыхав шаги Аграфены Петровны, поспешно, чтобы не видать ее, вышел в гостиную, затворив за собой дверь. Комната эта – гостиная – была та самая, в которой три месяца тому назад умерла его мать. Теперь, войдя в эту комнату, освещенную двумя лампами с рефлекторами – одним у портрета его отца, а другим у портрета матери, он вспомнил свои последние отношения к матери, и эти отношения показались ему ненатуральными и противными. И это было стыдно и гадко. Он вспомнил, как в последнее время ее болезни он прямо желал ее смерти. Он говорил себе, что желал этого для того, чтобы она избавилась от страданий, a в действительности он желал этого для того, чтобы самому избавиться от вида ее страданий.
Желая вызвать в себе хорошее воспоминание о ней, он взглянул на ее портрет, за 5000 рублей написанный знаменитым живописцем. Она была изображена в бархатном черном платье, с обнаженной грудью. Художник, очевидно, с особенным стараньем выписал грудь, промежуток между двумя грудями и ослепительные по красоте плечи и шею. Это было уже совсем стыдно и гадко. Что-то было отвратительное и кощунственное в этом изображении матери в виде полуобнаженной красавицы. Это было тем более отвратительно, что в этой же комнате три месяца тому назад лежала эта женщина, ссохшаяся, как мумия, и всё-таки наполнявшая мучительно тяжелым запахом, который ничем нельзя было заглушить, не только всю комнату, но и весь дом. Ему казалось, что он и теперь слышал этот запах. И он вспомнил, как за день до смерти она взяла его сильную белую руку своей костлявой чернеющей ручкой, посмотрела ему в глаза и сказала: «Не суди меня, Митя, если я не то сделала», и на выцветших от страданий глазах выступили слезы. «Какая гадость!» сказал он себе еще раз, взглянув на полуобнаженную женщину с великолепными мраморными плечами и руками и с своей победоносной улыбкой. Обнаженность груди на портрете напомнила ему другую молодую женщину, которую он видел на-днях также обнаженной. Это была Мисси, которая придумала предлог вызвать его вечером к себе, чтобы показаться ему в бальном платье, в котором она ехала на бал. Он с отвращением вспомнил об ее прекрасных плечах и руках. И этот грубый, животный отец с своим прошедшим, жестокостью, и сомнительной репутации bel esprit1111
[остроумия]
[Закрыть] мать. Всё это было отвратительно и вместе с тем стыдно. Стыдно и гадко, гадко и стыдно.
«Нет, нет, – думал он, – освободиться надо, освободиться от всех этих фальшивых отношений и с Корчагиными, и с Марьей Васильевной, и с наследством, и со всем остальным… Да, подышать свободно. Уехать за границу – в Рим, заняться своей картиной… – Он вспомнил свои сомнения насчет своего таланта.– Ну, да всё равно, просто подышать свободно. Сначала в Константинополь, потом в Рим, только отделаться поскорее от присяжничества. И устроить это дело с адвокатом».
И вдруг в его воображении с необыкновенною живостью возникла арестантка с черными косящими глазами. А как она заплакала при последнем слове подсудимых! Он поспешно, туша ее, смял докуренную папиросу в пепельницу, закурил другую и стал ходить взад и вперед по комнате. И одна за другою стали возникать в его воображении минуты, пережитые с нею. Вспомнил он последнее свидание с ней, ту животную страсть, которая в то время овладела им, и то разочарование, которое он испытал, когда страсть была удовлетворена. Вспомнил белое платье с голубой лентой, вспомнил заутреню. «Ведь я любил ее, истинно любил хорошей, чистой любовью в эту ночь, любил ее еще прежде, да еще как любил тогда, когда я в первый раз жил у тетушек и писал свое сочинение!» И он вспомнил себя таким, каким он был тогда. На него пахнуло этой свежестью, молодостью, полнотою жизни, и ему стало мучительно грустно.
Различие между ним, каким он был тогда и каким он был теперь, было огромно: оно было такое же, если не большее, чем различие между Катюшей в церкви и той проституткой, пьянствовавшей с купцом, которую они судили нынче утром. Тогда он был бодрый, свободный человек, перед которым раскрывались бесконечные возмояжости, – теперь он чувствовал себя со всех сторон пойманным в тенетах глупой, пустой, бесцельной, ничтожной жизни, из которых он не видел никакого выхода, да даже большей частью и не хотел выходить. Он вспомнил, как он когда-то гордился своей прямотой, как ставил себе когда-то правилом всегда говорить правду и действительно был правдив, и как он теперь был весь во лжи – в самой страшной лжи, во лжи, признаваемой всеми людьми, окружающими его, правдой. И не было из этой лжи, по крайней мере он не видел из этой лжи никакого выхода. И он загряз в ней, привык к ней, нежился в ней.
Как развязать отношения с Марьей Васильевной, с ее мужем так, чтобы было не стыдно смотреть в глаза ему и его детям? Как без лжи распутать отношения с Мисси? Как выбраться из того противоречия между признанием незаконности земельной собственности и владением наследством от матери? Как загладить свой грех перед Катюшей? Нельзя же это оставить так. «Нельзя бросить женщину, которую я любил, и удовлетвориться тем, что я заплачу деньги адвокату и избавлю ее от каторги, которой она и не заслуживает, загладить вину деньгами, как я тогда думал, что сделал что должно, дав ей деньги».
И он живо вспомнил минуту, когда он в коридоре, догнав ее, сунул ей деньги и убежал от нее. «Ax, эти деньги! – с ужасом и отвращением, такими же, как и тогда, вспоминал он эту минуту. – Ах, ах! какая гадость! – так же, как и тогда, вслух: проговорил он. – Только мерзавец, негодяй мог это сделать! И я, я тот негодяй и тот мерзавец! – вслух заговорил он. – Да неужели в самом деле, – он остановился на ходу, – неужели я в самом деле, неужели я точно негодяй? А то кто же? – ответил он себе. – Да разве это одно? – продолжал он уличать себя. – Разве не гадость, не низость твое отношение к Марье Васильевне и ее мужу? И твое отношение к имуществу? Под предлогом, что деньги от матери, пользоваться богатством, которое считаешь незаконным. И вся твоя праздная, скверная жизнь. И венец всего – твой поступок с Катюшей. Негодяй, мерзавец! Они (люди), как хотят, пусть судят обо мне, их я могу обмануть, но себя-то я не обману».
И он вдруг понял, что то отвращение, которое он в последнее время чувствовал к людям, и в особенности нынче, и к князю, и к Софье Васильевне, и к Мисси, и к Корнею, было отвращение к самому себе. И удивительное дело: в этом чувстве признания своей подлости было что-то болезненное и вместе радостное и успокоительное.
С Нехлюдовым не раз уже случалось в жизни то, что он называл «чисткой души». Чисткой души называл он такое душевное состояние, при котором он вдруг, после иногда большого промежутка времени, сознав замедление, а иногда и остановку внутренней жизни, принимался вычищать весь тот сор, который, накопившись в его душе, был причиной этой остановки.
Всегда после таких пробуждений Нехлюдов составлял себе правила, которым намеревался следовать уже навсегда: писал дневник и начинал новую жизнь, которую он надеялся никогда уже не изменять, – turning a new leaf,1212
[превернуть страницу,]
[Закрыть] как он говорил себе. Но всякий раз соблазны мира улавливали его, и он, сам того не замечая, опять падал, и часто ниже того, каким он был прежде.
Так он очищался и поднимался несколько раз; так это было с ним в первый раз, когда он приехал на лето к тетушкам. Это было самое живое, восторженное пробуждение. И последствия его продолжались довольно долго. Потом такое же пробуждение было, когда он бросил статскую службу и, желая жертвовать жизнью, поступил во время войны в военную службу. Но тут засорение произошло очень скоро. Потом было пробуждение, когда он вышел в отставку и, уехав за границу, стал заниматься живописью.
С тех пор и до нынешнего дня прошел длинный период без чистки, и потому никогда еще он не доходил до такого загрязнения, до такого разлада между тем, чего требовала его совесть, и той жизнью, которую он вел, и он ужаснулся, увидев это расстояние.
Расстояние это было так велико, загрязнение так сильно, что в первую минуту он отчаялся в возможности очищения. «Ведь уже пробовал совершенствоваться и быть лучше, и ничего не вышло, – говорил в душе его голос искусителя, – так что же пробовать еще раз? Не ты один, а все такие – такова жизнь», говорил этот голос. Но то свободное, духовное существо, которое одно истинно, одно могущественно, одно вечно, уже пробудилось в Нехлюдове. И он не мог не поверить ему. Как ни огромно было расстояние между тем, что он был, и тем, чем хотел быть, – для пробудившегося духовного существа представлялось всё возможно.
«Разорву эту ложь, связывающую меня, чего бы это мне ни стоило, и признаю всё и всем скажу правду и сделаю правду, – решительно вслух сказал он себе. – Скажу правду Мисси, что я распутник и не могу жениться на ней и только напрасно тревожил ее; скажу Марье Васильевне (жене предводителя). Впрочем, ей нечего говорить, скажу ее мужу, что я негодяй, обманывал его. С наследством распоряжусь так, чтобы признать правду. Скажу ей, Катюше, что я негодяй, виноват перед ней, и сделаю всё, что могу, чтобы облегчить ее судьбу. Да, увижу ее и буду просить ее простить меня. Да, буду просить прощенья, как дети просят. – Он остановился. – Женюсь на ней, если это нужно».
Он остановился, сложил руки перед грудью, как он делал это, когда был маленький, поднял глаза кверху и проговорил, обращаясь к кому-то:
– Господи, помоги мне, научи меня, прииди и вселися в меня и очисти меня от всякия скверны!
Он молился, просил Бога помочь ему, вселиться в него и очистить его, а между тем то, о чем он просил, уже совершилось. Бог, живший в нем, проснулся в его сознании. Он почувствовал себя Им и потому почувствовал не только свободу, бодрость и радость жизни, но почувствовал всё могущество добра. Всё, всё самое лучшее, что только мог сделать человек, он чувствовал себя теперь способным сделать.
На глазах его были слезы, когда он говорил себе это, и хорошие и дурные слезы; хорошие слезы потому, что это были слезы радости пробуждения в себе того духовного существа, которое все эти года спало в нем, и дурные потому, что они были слезы умиления над самим собою, над своей добродетелью.
Ему стало жарко. Он подошел к выставленному окну и отворил его. Окно было в сад. Была лунная тихая, свежая ночь, по улице прогремели колеса, и потом всё затихло. Прямо под окном виднелась тень сучьев оголенного высокого тополя, всеми своими развилинами отчетливо лежащая на песке расчищенной площадки. Налево была крыша сарая, казавшаяся белой под ярким светом луны. Впереди переплетались сучья деревьев, из-за которых виднелась черная тень забора. Нехлюдов смотрел на освещенный луной сад и крышу и на тень тополя и вдыхал живительный свежий воздух.
«Как хорошо! Как хорошо, Боже мой, как хорошо!» говорил он про то, что было в его душе.
XXIX.Маслова вернулась домой в свою камеру только в 6 часов вечера, усталая и больная ногами после пройденных без привычки пятнадцати верст по камню, убитая неожиданно строгим приговором, сверх того, голодная.
Когда еще во время одного перерыва сторожа закусывали подле нее хлебом и крутыми яйцами, у нее рот наполнился слюной, и она почувствовала, что голодна, но попросить у них она считала для себя унизительным. Когда же после этого прошло еще три часа, ей уже перестало хотеться есть, и она чувствовала только слабость. В таком состоянии она услыхала неожиданный ею приговор. В первую минуту она подумала, что ослышалась, не могла сразу поверить тому, что слышала, не могла соединить себя с понятием каторжанки. Но, увидав спокойные, деловые лица судей, присяжных, принявших это известие как нечто вполне естественное, она возмутилась и закричала на всю залу, что она не виновата. Но увидав то, что и крик ее был принят также как нечто естественное, ожидаемое и не могущее изменить дела, она заплакала, чувствуя, что надо покориться той жестокой и удивившей ее несправедливости, которая была произведена над ней. Удивляло ее в особенности то, что так жестоко осудили ее мужчины – молодые, не старые мужчины, те самые, которые всегда так ласково смотрели на нее. Одного – товарища прокурора – она видала совсем в другом настроении. В то время как она сидела в арестантской, дожидаясь суда, и в перерывах заседания она видела, как эти мужчины, притворяясь, что они идут за другим делом, проходили мимо дверей или входили в комнату только затем, чтобы оглядеть ее. И вдруг эти самые мужчины зачем-то приговорили ее в каторгу, несмотря на то, что она была невинна в том, в чем ее обвиняли. Сначала она плакала, но потом затихла и в состоянии полного отупения сидела в арестантской, дожидаясь отправки. Ей хотелось теперь только одного: покурить. В таком состоянии застали ее Бочкова и Картинкин, которых после приговора ввели в ту же комнату. Бочкова тотчас начала бранить Маслову и называть каторжной.

Корректура (не окончательная) XXIX главы первой части «Воскресения» с исправлениями рукой Толстого, А. А. Русановой и А. П. Иванова.
– Что, взяла? Оправилась? Небось, не отвертелась, шлюха подлая. Чего заслужила, того и доспела. На каторге, небось, франтовство оставишь.
Маслова сидела, засунув руки в рукава халата, и, склонив низко голову, неподвижно смотрела на два шага перед собой, на затоптанный пол, и только говорила:
– Не трогаю я вас, вы и оставьте меня. Ведь я не трогаю, – повторила она несколько раз, потом совсем замолчала. Оживилась она немного только тогда, когда Картинкина и Бочкову увели, и сторож принес ей три рубля денег.
– Ты Маслова? – спросил он. – На вот, тебе барыня прислала, – сказал он, подавая ей деньги.
– Какая барыня?
– Бери знай, разговаривать еще с вами.
Деньги эти прислала Китаева, содержательница дома терпимости. Уходя из суда, она обратилась к судебному приставу с вопросом, может ли она передать несколько денег Масловой. Судебный пристав сказал, что можно. Тогда, получив разрешенье, она сняла замшевую перчатку с тремя пуговицами с пухлой белой руки, достала из задних складок шелковой юбки модный бумажник и, выбрав из довольно большого количества купонов, только что срезанных с билетов, заработанных ею в своем доме, один – в 2 рубля 50 коп. и, присоединив к нему два двугривенных и еще гривенник, передала их приставу. Пристав позвал сторожа и при жертвовательнице передал эти деньги сторожу.
– Пожалуйста, верно отдавайте, – сказала Каролина Альбертовна сторожу.
Сторож обиделся зa это недоверие и потому так сердито обошелся с Масловой.
Маслова обрадовалась деньгам, потому что они давали ей то, чего одного она желала теперь.
«Только бы добыть папирос и затянуться», думала она, и все мысли ее сосредоточились на этом желании покурить. Ей так хотелось этого, что она жадно вдыхала воздух, когда в нем чувствовался запах табачного дыма, выходившего в коридор из дверей кабинетов. Но ей пришлось еще долго ждать, потому что секретарь, которому надо было отпустить ее, забыв про подсудимых, занялся разговором и даже спором о запрещенной статье с одним из адвокатов. Несколько и молодых и старых людей заходили и после суда взглянуть на нее, что-то шепча друг другу. Но она теперь и не замечала их.
Наконец в пятом часу ее отпустили, и конвойные – нижегородец и чувашин – повели ее из суда задним ходом. Еще в сенях суда она передала им 20 копеек, прося купить два калача и папирос. Чувашии засмеялся, взял деньги и сказал: «ладно, купаем», и действительно честно купил и папирос и калачей и отдал сдачу. Дорогой нельзя было курить, так что Маслова с тем же неудовлетворенным желанием курения подошла к острогу. В то время как ее привели к дверям, с поезда железной дороги привели человек сто арестантов. В проходе она столкнулась с ними.
Арестанты – бородатые, бритые, старые, молодые, русские, инородцы, некоторые с бритыми полуголовами, гремя ножными кандалами, наполняли прихожую пылью, шумом шагов, говором и едким запахом пота. Арестанты, проходя мимо Масловой, все жадно оглядывали ее, и некоторые с измененными похотью лицами подходили к ней и задевали ее.
– Ай, девка, хороша, – говорил один. – Тетеньке мое почтение, – говорил другой, подмигивая глазом. Один, черный, с выбритым синим затылком и усами на бритом лице, путаясь в кандалах и гремя ими, подскочил к ней и обнял ее.
– Аль не спознала дружка? Будет модничать-то! – крикнул он, оскаливая зубы и блестя глазами, когда она оттолкнула его.
– Ты что, мерзавец, делаешь? – крикнул подошедший сзади помощник начальника.
Арестант весь сжался и поспешно отскочил. Помощник же накинулся на Маслову.
– Ты зачем тут?
Маслова хотела сказать, что ее привели из суда, но она так устала, что ей лень было говорить.
– Из суда, ваше благородие, – сказал старший конвойный, выходя из-за проходивших и прикладывая руку к шапке.
– Ну, и сдай старшому. А это что за безобразие!
– Слушаю, ваше благородие.
– Соколов! Принять, – крикнул помощник.
Старшой подошел и сердито ткнул Маслову в плечо и, кивнув ей головой, повел ее в женский коридор. В женском коридоре ее всю ощупали, обыскали и, не найдя ничего (коробка папирос была засунута в калаче), впустили в ту же камеру, из которой она вышла утром.
XXX.Камера, в которой содержалась Маслова, была длинная комната, в 9 аршин длины и 7 ширины, с двумя окнами, выступающею облезлой печкой и нарами с рассохшимися досками, занимавшими две трети пространства. В середине, против двери, была темная икона с приклеенною к ней восковой свечкой и подвешенным под ней запыленным букетом иммортелек. За дверью налево было почерневшее место пола, на котором стояла вонючая кадка. Поверка только что прошла, и женщины уже были заперты на ночь.
Всех обитательниц этой камеры было пятнадцать: двенадцать женщин и трое детей.
Было еще совсем светло, и только две женщины лежали на нарах: одна, укрытая с головой халатом, – дурочка, взятая за бесписьменность, – эта всегда почти спала, – а другая – чахоточная, отбывавшая наказание за воровство. Эта не спала, а лежала, подложив под голову халат, с широко открытыми глазами, с трудом, чтобы не кашлять, удерживая в горле щекочущую ее и переливающуюся мокроту. Остальные женщины, – все простоволосые и в одних сурового полотна рубахах, – некоторые сидели на нарах и шили, некоторые стояли у окна и смотрели на проходивших по двору арестантов. Из тех трех женщин, которые шили, одна была та самая старуха, которая провожала Маслову, – Кораблева, мрачного вида, насупленная, морщинистая, с висевшим мешком кожи под подбородком, высокая, сильная женщина, с короткой косичкой русых седеющих на висках волос и с волосатой бородавкой на щеке. Старуха эта была приговорена к каторге за убийство топором мужа. Убила же она его зa то, что он приставал к ее дочери. Она была старостихой камеры, она же и торговала вином. Она шила в очках и держала в больших рабочих руках иголку по-крестьянски, тремя пальцами и острием к себе. Рядом с ней сидела и также шила мешки из парусины невысокая курносая черноватая женщина с маленькими черными глазами, добродушная и болтливая. Это была сторожиха при железнодорожной будке, присужденная к трем месяцам тюрьмы за то, что не вышла с флагом к поезду, с поездом же случилось несчастье. Третья шившая женщина была Федосья – Феничка, как ее звали товарки, – белая, румяная, с ясными детскими голубыми глазами и двумя длинными русыми косами, обернутыми вокруг небольшой головы, совсем молодая, миловидная женщина. Она содержалась за покушение отравить мужа. Попыталась она отравить мужа тотчас же после замужества, в которое была выдана шестнадцатилетней девочкой. В те 8 месяцев, во время которых она, будучи взята на поруки, ожидала суда, она не только помирилась с мужем, но так полюбила его, что суд застал ее живущей с мужем душа в душу. Несмотря на то, что муж и свекор и в особенности полюбившая ее свекровь старались на суде всеми силами оправдать ее, она была приговорена к ссылке в Сибирь, в каторжные работы. Добрая, веселая, часто улыбающаяся Федосья эта была соседка Масловой по нарам и не только полюбила Маслову, но признала своей обязанностью заботиться о ней и служить ей. Без дела сидели на нарах еще две женщины, одна лет сорока, с бледным худым лицом, вероятно когда-то очень красивая, теперь худая и бледная. Она держала на руках ребенка и кормила его белой длинной грудью. Преступление ее состояло в том, что когда из их деревни везли рекрута, по понятиям мужиков незаконно взятого, народ остановил станового и отнял рекрута. Женщина же эта, тетка незаконно взятого малого, первая схватила за повод лошадь, на которой везли рекрута. Еще сидела без дела на нарах невысокая, вся в морщинках, добродушная старушка с седыми волосами и горбатой спиной. Старушка эта сидела у печки на нарах и делала вид, что ловит четырехлетнего коротко обстриженного пробегавшего мимо нее толстопузого, заливавшегося смехом мальчика. Мальчишка в одной рубашонке пробегал мимо нее и приговаривал всё одно и то же: «ишь, не поймала!» Старушка эта, обвинявшаяся вместе с сыном в поджоге, переносила свое заключение с величайшим добродушием, сокрушаясь только о сыне, сидевшем с ней одновременно в остроге, но более всего о своем старике, который, она боялась, совсем без нее завшивеет, так как невестка ушла, и его обмывать некому.
Кроме этих семи женщин, еще четыре стояли у одного из открытых окон и, держась за железную решетку, знаками и криками переговаривались с проходившими по двору теми самыми арестантами, с которыми столкнулась Маслова у входа. Одна из этих женщин, отбывавшая наказание за воровство, была большая, грузная, с обвисшим телом рыжая женщина, с желтовато-белыми, покрытыми веснушками лицом, руками и толстой шеей, выставлявшейся из-за развязанного раскрытого ворота. Она громко кричала в окно хриплым голосом неприличные слова. С ней рядом стояла, ростом с десятилетнюю девочку, черноватая нескладная арестантка с длинной спиной и совсем короткими ногами. Лицо у ней было красное, в пятнах, с широко расставленными черными глазами и толстыми короткими губами, не закрывавшими белые выпирающие зубы. Она визгливо, урывками, смеялась тому, что происходило на дворе. Арестантка эта, прозывавшаяся Хорошавкой за свое щегольство, судилась за кражу и поджог. Позади их стояла в очень грязной серой рубахе жалкого вида худая, жилистая и с огромным животом беременная женщина, судившаяся за укрывательство кражи. Женщина эта молчала, но всё время одобрительно и умиленно улыбалась на то, что происходило на дворе. Четвертая стоявшая у окна была отбывающая наказание за корчемство невысокая коренастая деревенская женщина с очень выпуклыми глазами и добродушным лицом. Женщина эта – мать мальчишки, игравшего с старушкой, и семилетней девочки, бывшей с ней же в тюрьме, потому что не с кем было оставить их, – так же, как и другие, смотрела в окно, но не переставая вязала чулок и неодобрительно морщилась, закрывая глаза, на то, что говорили со двора проходившие арестанты. Дочка же ее, семилетняя девочка с распущенными белыми волосами, стоя в одной рубашонке рядом с рыжей и ухватившись худенькой маленькой ручонкой за ее юбку, с остановившимися глазами внимательно вслушивалась в те ругательные слова, которыми перекидывались женщины с арестантами, и шопотом, как бы заучивая, повторяла их. Двенадцатая арестантка была дочь дьячка, утопившая в колодце прижитого ею ребенка. Это была высокая, статная девушка с спутанными волосами, выбивавшимися из недлинной толстой русой косы, и остановившимися выпуклыми глазами. Она, не обращая никакого внимания на то, что происходило вокруг нее, ходила босая и в одной грязной серой рубахе взад и вперед по свободному месту камеры, круто и быстро поворачиваясь, когда доходила до стены.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































