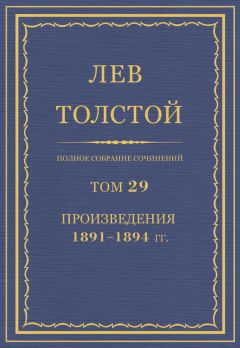
Автор книги: Лев Толстой
Жанр: Русская классика, Классика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 23 (всего у книги 37 страниц)
Через два часа, уже после обеда князя, мужик дождался денег. Он не ел с утра и, покачивая головой и вздыхая, смотрел на приготовление господского обеда. Под конец он не выдержал и попросил у кухарки хлеба.
– Кабы знать, с собой бы захватил.
– Иди похлебай, – сказала кухарка и налила ему в чашку квасу и отрезала ломоть хлеба. Поевши, он дожидал терпеливо, и дождался. Вечером ему вынесли рубль восемь гривен. Он поблагодарил и, заложив соломкой окровавленную овчину, подложив под себя и отодвинув мешок, сел в телегу и потащился на своей буренькой кобыленке прямо к лавке за мукой. Князь пробыл недолго, не более часа, и, согласившись завтра съезжаться у Лисьих Переяр, распростился, особенно весело улыбаясь Вере, выражая надежду свидеться завтра и доставить ей удовольствие, и, провожаемый хозяином, вышел на крыльцо.
– Что за погода, как лето! И какая красота эти желтые листья – золото.
– Сухо только для охоты. Ну да что делать. Ждать нельзя.
Грузный кучер с задом, расширенным юбкой, проговорив: «Вперед!», тронул вожжами.
Сытая четверня вороных трехвершковых лошадей двинула, как перышко, коляску. Князь сел и уехал.
По дороге он нагнал мужика, продавшего барана. Мужик спал и не свернул лошади. Кучер присадил, взяв на время вожжи в одну руку, и ловко попал кнутом по шее мужика. Мужик встрепенулся, но не успел глаз протереть, как коляска промчалась со своим ровным топотом четверки по крепкой дороге.
– Пьяный, ваше сиятельство, – сказал кучер.
«Вот все толкуют – голод», – подумал князь, оглядывая вершину направо от дороги, на лазу которой он станет завтра с этой хорошенькой девочкой.
На другой день состоялась охота. В семь часов Вера была уже готова и ждала Анатолия Дмитриевича, с которым она должна была ехать в тележке до места сбора охоты. Верховые лошади были уж высланы раньше. Погода была волшебная, именно волшебная. На желтых листьях, на зеленеющей траве блестел мороз. Косые лучи яркого солнца играли сквозь красножелтые листья дубов. Воздух был свежий, бодрящий. Тележка, заложенная парой вороных кобыл, была уже подана, как Анатолий Дмитриевич на самом выезде был задержан мужиками, которые пришли по своим делам. Анатолию Дмитриевичу, очевидно, было скучно это, но он остался и долго говорил с ними. Вера слушала. Дело шло о кадушке. Баба и мужик горячо спорили. Вера в амазонке, с хлыстом, волнуясь, дожидалась.
– Да ты бы напилась чаю.
– Я пила.
Наконец мужик последний отвалился. Она вспомнила, как матери ставили пиявки и как они отвалились.
Анатолий Дмитриевич сел, взял вожжи, и они поехали по глянцовитой, гладкой, с отпечатками шипов, дороге по деревне, из которой несло запахом дыма, выходившего белым столбом из каждой трубы.
Весело, весело было. Всё было весело. И то, как бежали лошади, и как смотрели люди, и как взлетали грачи, повороты дороги, зеленя. Всё было весело.
– Скоро ли?
– Да ведь пять верст, мы и так хорошо едем.
Но вот проехали сквозной лес, весь светящийся на косых лучах. Вот послышался визг собаки и крик охотника.
Это они. Да, вот тут. Проехали лес, завернули, и вот блестящий круг. Лошади, собаки, красные шапки, галуны. Всё блестит и играет и вспыхивает на солнце. Тут же и лошадь Веры и Анатолия Дмитриевича. Но не успели еще Анатолий Дмитриевич с Верой разглядеть всю эту толпу, как на пригорке показалась коляска. Это был князь.
– Вот как съехались.
– Какой день. Сухо немного.
– Вы не устанете? – И сейчас же началась игра кокетства между князем и Верой.
Очень, очень было весело. Волка не затравили, но зайцев поймали трех и скакали. И потом сидели и завтракали. И князь лежа разрезал курицу и, держа на вилке, предложил Вере.
– Puis je vous offrir, mademoiselle, un morceau de volaille?5252
[Могу ли я вам предложить, мадемуазель, кусочек курицы?]
[Закрыть] – сказал он. И это было ненатурально и глупо. И, несмотря на то, что ей было очень весело, Вера заметила это. Потом князь кормил курицею же и тоже с вилки любимую собаку. Это тоже заметила Вера, особенно потому, что у дороги стояла толпа баб и ребят, выбежавших из деревни смотреть. Бежали две бабы в коротких паневах, в лаптях и в кокошниках, махая локтями, и, добежав до дороги, вдруг стали, упершись глазами в охотников.
– Не правда ли, египетское что-то есть в них? – сказал князь, и Вера согласилась.
Было очень весело.
После завтрака охотились еще и вернулись к тому помещику, у которого стоял князь. Туда приехал и Владимир Иванович за дочерью. Он остался обедать и с неудовольствием заметил, что между князем и Верой шло ненужное, неприличное даже, flirtation.5353
[ухаживанье.]
[Закрыть] Уже темно, при лунном свете, поехали домой. Дорогой Владимир Иванович прямо сказал дочери, что ему не нравилось ее обращение с князем. Она тотчас же согласилась, покраснела ужасно, но согласилась.
– Я не могу, папа. Мне весело, и я не могу удержаться, но он мне вовсе не нравится.
Отец успокоился.
Когда они вернулись, к чаю приехал сосед Анатолия Дмитриевича, и зашел разговор о положении крестьян. Анатолий Дмитриевич рассказал то, что решено было в съезде уездном и губернском, и о том, как ему неизбежно теперь заняться подробным исследованием имущественного положения крестьян. Он сказал, что это дело требует большого внимания, потому что общество находится между Сциллой и Харибдой: не дать помощи жестоко, дать тем, которые не нуждаются в ней, значит поощрять тунеядство, праздность.
– Вот вы говорите, – обратился он к Владимиру Ивановичу, – что не надо служить. Кто же бы делал это, и как бы делали это?
– Я не говорю, – отвечал Владимир Иванович. – Это дело святое, и, по-моему, мы все обязаны служить помощи народу в тяжелую годину. Я первый готов бы был посвятить себя этому делу.
– Да что надо делать? – спросила Вера, которой скучно было, что разговор шел без нее.
– Делать то, чтобы ходить по дворам, узнать условия жизни, всё имущественное положение каждого двора, записать.
– Так что же, я могу. Пошлите меня.
– Да ведь вы уедете послезавтра.
– А я останусь.
– Вот прелесть-то бы, – заговорили дети.
– Папа, оставь меня с тетей Верой. Тетя, возьми меня. Я буду послушна и буду работать.
Случайно сделанное предложение это сначала, как непривычное, показалось неисполнимым, но понемногу стало получать вид возможного. Через три недели проезжает тетя Настя. Она захватит тогда Веру с собой, а пока Вера будет жить здесь, будет секретарем у дяди Анатолия, будет исполнять все его поручения.
Всё это представлялось Вере большой, продолжительной partie de plaisir.5454
[увеселительной прогулкой.]
[Закрыть]
– Завтра охота, погода чудная, а потом будем ходить с Сашей. Ведь можно Саше? Будем записывать, будем всё делать, будем вместе. Ну, просто прелесть. Ура! – А вы с нами будете ходить? – обратилась она к учителю. – Не правда ли?
Учитель, разумеется, был очень рад.
Отец, либеральный Владимир Иванович, был за оставление дочери у тетки. Тетка и дядя Анатолий были за, как хозяева, да и она очень мила была, так что тетя Варя пленилась ей. Против была только Марья Николаевна, мать.
«Что-то тут странное, неестественное. Что девушке делать по мужицким хатам? И неприлично, да и ничего не сделает она. Да и к чему, главное?»
Вечером между мужем и женой, родителями Веры, были продолжительные прения об этом предмете.
– Как же ты сама говорила, что Вера легкомысленна, роскошна, нет в ней серьезности. Что же может быть лучше для девушки ее лет, как узнать жизнь, увидать, как живет народ, чтобы понять всю ту роскошь, которую она имеет. Вообще это не может произвести ничего, кроме самого доброго влияния.
Владимир Иванович пересилил, и так и решено было оставить Веру на три недели у дяди. Как решено было, Владимир Иванович с женой уехали рано утром во вторник, и в тот же день Вера с учителем и Сашей пошли в обход.
Дело было в том, что за Верой была послана няня в условленный срок, три недели, но она не приехала, написала письмо очень решительное, что она не может и не хочет оставить дело, и няня вернулась одна, рассказала, что барышня совсем расстроены, с утра до вечера с бабами, похудели и стали чесаться, нашли вошь.
Это сразило Марью Николаевну. Все делали дело как люди, и княжна Д., и баронессы П. и Р., и c’était bien vu,5555
[к этому относились сочувственно,]
[Закрыть] а тут вдруг это какой-то азарт, желание отличиться, выделиться. И к чему? «Варенька, сестра, всегда была шальная, так и осталась. По всему видно, что она не удерживает и совсем распустила ее», – думала Марья Николаевна.
– Вот я и говорила, – сказала Марья Николаевна мужу, употребляя самую для него неприятную и потому чаще всего ею употребляемую форму выражения: «вот я и говорила», – что, кроме дурного, ничего не выйдет. Я всегда чувствую. Так и вышло. Я больна, но сама поеду. Я умру. Но этого я не могу. Всегда ты с своей бабьей бесхарактерной упрямством, – говорила она, не согласуя родов от волнения.
– Если уж до того дошло, что она вся в мерзости. Я выговорить-то не могу. Со мной дурно сделалось, когда я раз увидела его. Вся твоя грубая натура.
Владимир Иванович хотел вставить свое слово, полагая, что разговор уж достаточно отклонился, но еще было рано, – как в магазинном ружье, один заряд, вылетая, давал место другому.
– Да позволь, – только сказал он.
– Да я уж знаю, что когда ты говоришь, то все должны слушать и любоваться твоим красноречием. Но у меня не красноречие, а материнское сердце, которое ты измучал… измучал. Единственная дочь, которую я блюла от всякой грязи, от всего подлого, и вдруг ты ее бросаешь нарочно в самую грубую, низменную среду.
– Да ведь твоя же… – сестра, он хотел сказать.
– Нет, твоя фантазия была. Всё это хорошо, но когда это искренно, а всё это фальшь, которую ты напустил. Если ты так жалеешь, отдай им весь урожай. Что, небось не хочешь, – говорила она, совершенно забыв о том, как она пилила его за то, что он распорядился дать по пуду на бедные дворы своей деревни.
Он хотел сказать, что он готов бы и больше сделать.
– Неправда, всё притворство, либеральничанье, – продолжала она колоть его в самые больные места, как пчела в глаза. – И то, что ты дал, всем хвастаясь, ты дал, потому что я настояла.
«Боже мой, как может врать эта женщина!» – думал про себя Владимир Иванович. Наконец все заряды магазинного ружья были выпущены и новые не вложены еще, и Владимир Иванович успел сказать то, что хотел.
Беспокоиться не о чем. Что няня рассказывала, что на ней нашли три паразита, то это еще не ужасное несчастье. А что она увлеклась и перешла в крайность, то это понятно. Но беды нет. Комитет хотел посылать для раздачи помощи, он может предложить себя, его пошлют, и он привезет ее. Вот и всё.
Как предложил Владимир Иванович, так и было решено, и через три дня он с поручением от комитета поехал к дочери.
В Краснове у Лужиных среди молодого поколения шла страшная работа: не столько внешняя – хождения по крестьянским деревням и избам (хотя и этой было много), сколько внутреняя: перестановка всех оценок доброго и злого.
[О СУДЕ]
– Да что же, есть у вас, наконец, комната или нет? Есть или нет? – говорил с некоторым раздражением Михаил Михайлович, входя в сени постоялого двора уездного города, в котором на завтра назначено было заседание окружного суда, в котором он был присяжным.
– Пожалуйте, пожалуйте, – говорил хозяйский племянник, – сейчас, сию, сию минутую.
И хозяйский племянник, несмотря на раздражительный тон Михаила Михайловича, не отвечая ему, убежал в комнатку с киотом и большими иконами, одну оставленную себе хозяевами, и что-то там стал шептаться с толстой старухой, сидевшей там за самоваром. Михаил Михайлович видел это и злился. Он устал и перемерз с дороги. Но взял на себя и молчал, осторожно оттаивая и отлепляя ледышки с усов и бороды, примерзшей к воротнику, и сбрасывая их на грязный, затоптанный пол.
Вошел увязанный платком по воротнику Ефим, его кучер.
– Прикажете вносить вещи?
– Да не добьюсь толку. Будет или не будет комната?
Худой, вертлявый племянник выскочил из хозяйской комнаты, юркнул в соседний номер, где тотчас послышался ропот и настояния племянника. Он, очевидно, выгонял недостойного жильца. Старушка, перекачиваясь своим тяжелым телом и вся дрожа, как желе, под широкой ситцевой кофтой, вышла к Михаилу Михайловичу.
– Сейчас, сейчас, батюшка, пожалуйте. Есть, есть комнатка. Как не быть. Пожалуйте. Вася, что же он?
– Идет, идет.
Из комнаты вывели какого-то лохматого человека и увели куда-то. А Михаила Михайловича ввели в номер накуренный, наплеванный и надышанный.
......................................................................................
Через полчаса, однако, всё устроилось, и Михаил Михайлович сидел за самоваром, разложив на свою чистую салфетку домашний белый хлеб, сыр, масло и альберт-бисквитс. Он уже напился, согрелся, и уже дурное расположение духа заменилось самым хорошим.
– Позови кучера.
– Ефим, пей чай.
– Благодарю покорно, сейчас только сена задам.
Когда Ефим вернулся, Михаил Михайлович вложил аккуратно свернутую и вставленную в черешневый пахучий мундштучок папироску и, со вкусом закурив душистый, свежий табак, пуская большой струей синеватый дым, поднялся.
– Садись, пей, – сказал он Ефиму и вышел в коридор узнать, кто приехал, кого нет, что слышно, нет ли знакомых, – разогнать скуку.
Разумеется, были знакомые. Знакомый был и толстый Савельев, бывший предводитель, и новый помещик Эванов, недавно купивший именье, и доктор. Михаил Михайлович был холостой помещик средней руки (800 десятин чернозему), бывший мировой судья, назначенный присяжным на эту сессию. Знакомый был и купец Берескитов, торговец хлебом, недавно разбогатевший и водивший компанию с дворянами. Всё это были присяжные. Тут же стоял и товарищ прокурора Матвеев, тоже знакомый.
С Михайлом Михайловичем все обращались осторожно, как бы боясь оскорбить его. Он был такой застенчивый, тихий, робкий и сам осторожный и до крайности учтивый в обращении. Даже громогласный толстяк Савельев и то был осторожен с ним. Такое он производил впечатление, заражая своим «не тронь меня».
– Ну вот хоть на суд вас вытащило, – сказал он, отдуваясь своими толстыми щеками, – а то сидите – он хотел [сказать]: как медведь, но остановился и сказал: дома.
– А холодно нынче.
– Да, 26 было утром. Милости прошу ко мне, – сказал Эванов. – Да не хотите ли закусить?
– Нет, благодарю.
Не прошло еще получаса, как Михаил Михайлович уже сидел за карточным столом и соображал, назначать черви или трефы, и можно ли доверить показанию доктора, сказавшего бескозырного, но неверно назначающего.
После 3-х роберов закусили, потом еще сели, еще сыграли, потом поужинали, поговорили о ценах на хлеб, о завтрашних делах. Одно дело интересно, об убийстве. Поговорили еще о соседях, выборах и разошлись. Веселого, разумеется, ничего небыло, но было то самое, что требовалось: убить время. Эта цель была достигнута, и Михаил Михайлович не видал, как прошли эти 6 часов, от 5 до 11. —
Войдя в свой номер, Михаил Михайлович разделся и слышал, как без него начался громкий хохот и говор в номере Эванова. Очевидно, он стеснял их. И ему стало грустно. Он совсем не хотел стеснять и никого не осуждал, напротив, хотел бы с ними и поврать, но как-то это не шло, и где он был, всем было неловко и скучно и ему тоже. Он разделся, убрался, похвалил Ефима за то, что он так всё разложил хорошо, и, оставив на перевернутом дне стакана откушенный сахар и достав начатую книгу, лег в постель, приготовил папироску, мармеладину и приготовился наслаждаться: лежа читать – это был роман Мопассана начатый, – он очень любил Мопассана, лежа есть мармелад круглый, рябинный и потом закурить славную папироску, аккуратно закрученную и заклеенную слюной.
– Славно! – сказал он себе, сам не зная, что славно.
Он почитал, доел, выкурил и потушил свечу, но долго не заснул: ему мешал женский голос, что-то шептавший за дверью. И по случаю этого женского голоса он вспомнил, как Савельев спрашивал его, давно ли он видел Виденеевых. Это были соседки – две дочери были. И если Савельев подозревал, что Михаил Михайлович был влюблен в них, то это была правда: он был влюблен в меньшую, и очень даже. Но то робость, что она откажет, то робость, что она только этого и ждет и примет, оттолкнули его, и он перестал ездить. «Поздно уже, поздно. 35 лет, поздно жениться, – думал Михаил Михайлович. – Проживу и так, только бы не увлекаться – глупо».
Михаил Михайлович давал себе такой совет потому, что он, очень целомудренный по натуре человек, ведший очень воздержную жизнь, постоянно влюблялся и в влюбленном состоянии мучался, хотя и не делал внешних глупостей. Женщины были для него какими-то богинями, и это главное мешало ему жениться. Он считал себя недостойным их.
ПЕТР ХЛЕБНИК
ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕДействие происходит в III столетии в Сирии
Площадь перед домом. Сидят нищие: две женщины, трое мужчин, проходят жители. Нищие просят, им подают.
Входит нищий странник.
Странник.
Здорово, товарищ.
1-й нищий.
Откуда?
Странник.
Из Каира. Хорошо ли собираете?
1-й нищий.
Плохо, богатых мало.
Странник.
Как мало? А вот какие богатые дома (указывает). У этого, должно быть, тысячи.
Нищая.
Да, у этого богатства много, да он удавится, а ничего нищему не подаст.
2-й нищий.
Все знают Петра Хлебника. С тех пор, как я здесь живу, 30 лет, никогда никому корки хлеба не дал.
3-й нищий.
И жена и дочь такие же.
2-я нищая.
Нет, дочь все-таки добрее. Служанка сказывала.
1-я нищая.
Нет на свете скупее человека этого Петра, никогда никому не подаст.
Странник.
Как не даст. Кто умеет просить, выпросит.
1-й нищий.
Как же, попробуй.
Странник.
А вот выпрошу. Нет того человека, кто бы мне не дал, если я пристану.
Нищая и нищий.
Как же, выпросишь, не даст.
Странник.
Об заклад.
1-й нищий.
О чем?
Все обступают странника.
Странник.
Да вот хочешь об заклад на три деньги?
1-й нищий.
Идет (бьют по рукам и смеются). Давай деньги.
Странник и нищий отдают деньги первой нищей.
2-й нищий.
Вот он как раз идет. Несет князю хлебы.
Выходит Петр с рабом, несущим корзину хлеба.
Странник (подходит к Петру).
Христа ради страннику бездомному. Вы наши отцы, смилуйтесь. Кормилец, Христа ради, с голода умираю и т. д.
Петр (идет не оборачиваясь. Странник пристает, падает в ноги, хватает за полы).
Отвяжись.
Странник.
Родимый, батюшка и т. д.
Петр.
Пошел прочь.
Странник (забегая с другой стороны, падает в ноги).
Батюшка и т. д.
Петр.
Отстань, убью (нагибается, берет камень).
Странник.
Милостивец. Пожалей. (Хватает за руку и т. д.)
Петр.
Говорил, изобью. Отстань. (Схватывает хлеб из корзины, бросает в него и уходит.)
Те же без Петра.
Странник (подхватывает хлеб и бежит к нищим).
Что, говорил? Моя взяла. Вот она Петрова милостыня. (Показывает хлеб.) Давай деньги мои.
2-й нищий.
Ну, брат, счастлив ты. Выиграл, угости за это.
Занавес
ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕВнутренность дома. На первом плане сидят жена и дочь Петра. В глубине сцены кровать, на которой лежит Петр, мечется и бредит.
Петр.
Разбойники, разорили. Куда столько муки всыпали. Плати деньги. Режь. Царь. Цветы заиграли. Прощайте. (Затихает.)
Жена.
Вот уже вечером третий день будет, а всё не лучше. Как бы не помер.
Входит юродивая.
Юродивая.
Здравствуй, девонька. Всё плачешь. Мужа хоронить хочешь. Не робей, не помрет. Не готов еще он. 30 лет деньги собирал, теперь столько еще лет надо деньги расшвыривать. Тогда только готов будет.
Мать.
Будет тебе, Дунюшка, пустяки говорить. Поесть хочешь?
Юродивая.
Не надо мне есть. Эй, старик, спишь, что ли?
Дочь уходит.
Петр (прислушивается).
Юродивая.
Нельзя богатому внить в царство божие. Не пролезешь, зацепишься. А не пролезешь, в ад к муринам попадешь.
Входит врач. Те же и врач, без дочери.
Петр (вскакивает и кричит).
Тебе что нужно? И ты меня душить хочешь?
Врач.
Успокойся, болезнь твоя пройдет. (Берет его за руку и усаживает на постель.)
Юродивая.
Дурак, дурак, глупости делаешь, мое дело портишь. Не хочу смотреть. (Убегает.)
Врач.
Держите его. (Ощупывает, остукивает и говорит про себя.) Здесь нет. Здесь начинается. Слышу, вот он. Этого я выгоню. Вся болезнь тут. Исцелишься, будь спокоен. Лежи смирно. (Вынимает стклянку, дает ему пить и передает жене другую, чтобы растирать его.) Вечером разотрите его. Вот так. (Врач уходит, жена за ним.)
Петр (один, долго лежит молча, вдруг вскакивает и садится).
Что же это? Это смерть. Чувствую, что умираю. Вот он и ангел за душой пришел.
Он говорит, исцелеешь. Какое исцеление, когда смерть. Боже мой, что же будет со мной там? Неужели правда, что нельзя войти богатому в царство божие? Неужели правда, что зачтется мне вся жестокость моя, что не давал я просящему, не жалел вдову, сироту, больного, убогого? Неужели это правда? Как же не понимал я этого? Лучше бы мне не половину, а всё отдать, чем итти теперь к этим черным. Вот они, вот они, уже тащат к себе мою душу. (Смотрит вверх.) Да, вот они, весы, на них будут вешать мои добрые и злые дела. Вот они принесли на одну сторону деньги, что я поотнимал у вдов и сирот, жалованье, что я не отдал рабочим, обиды, ругательства, побои. Вот они верхом наложили эту чашу весов, и уже пошли весы к низу, и вот они возрадовались, дьяволы. Ай, ай, пропал! Что теперь положат на другую сторону?.. Что же это? Хлеб. Только один хлеб, тот хлеб, что я тогда бросил в надоедливого нищего. Батюшки, поднялись весы, перетянул хлеб все злые дела мои… Так вот оно что значит милосердие. Только бы не умереть мне теперь. Знал бы я, что бы сделал. По слову Христову, роздал бы всё имение нищим, не оставил бы себе ничего. (Падает на постель и засыпает.)
Занавес
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































