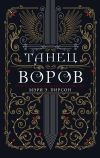Текст книги "Газават"

Автор книги: Лидия Чарская
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 16 страниц)
Глава 12
У врагов
– Однако он не очень-то стесняется с нами, Шамиль, заставляя нас порядочно печься на солнце, прежде чем удостоит выслать своего зверенка!..
И, говоря это, плотный, крепко сложенный генерал утер платком обильно струившиеся по лицу капли пота.
Это был генерал-майор Пулло, герой вчерашнего штурма. Он первый проник в сердце каменной твердыни и, после двенадцатичасовой отчаянной битвы, овладел ею со своими богатырями.
Он же не далее как два часа тому назад имел свидание с самим Шамилем, происходившее на утесе Ахульго, в виду расположения наших войск. Он же продиктовал условия мира неукротимому вождю-имаму, причем первым условием поставил выдачу его старшего сына аманатом, то есть заложником.
Русских войск недостаточно, чтобы взять в плен всех горцев и их вождя Шамиля. Притом, если взять в плен Шамиля, свирепые горцы, которые считают имама святым, пожалуй, привлекут на свою сторону новые полчища и объявят новый, еще более страшный газават, и война протянется надолго. Лучше взять с Шамиля клятву, что ни он, ни подчиненные ему горцы больше воевать с русскими не будут. Шамиль согласился дать такую клятву. Но разве можно верить его словам? Ведь уже раз он не сдержал этой же клятвы, рискуя даже жизнью своих близких, отданных в заложники. Но в этот раз он, Шамиль, должен дать в виде заложника самого дорогого ему, старшего сына. Это условие поставлено первым – и Шамиль не пробует даже возражать: он знает, что русские не уступят, а сам он не уверен теперь больше в победе над ними. И вот теперь герой-генерал ждет со своими адъютантами и несколькими офицерами появления маленького заложника.
Солнце жарит вовсю. Ни одной чинары, ни одного каштана поблизости… А уйти с проклятой площадки нельзя. В виду всего русского лагеря должен свершиться прием аманата. Сам командующий отрядом смотрит в подзорную трубу на них снизу. А жара все усиливается и делается нестерпимее с каждым часов…
Генерал тревожно вглядывается на вершину и начинает волноваться… Но как раз в ту минуту, когда он менее всего ожидал этого, на вершине показались несколько всадников, которые быстро стали спускаться по направлению площадки. Пулло нервно схватил трубу и направил ее на конный отряд чеченцев. Так и есть… Это они. На одном из коней сидит маленький мальчик… Это видно уже и простым глазом.
Но… и успокоившийся было немного генерал заволновался снова.
Что, если надул Шамиль и вместо своего сына прислал простого горского ребенка? Но нет! Не может этого быть. Он клялся на коране… А такая клятва считается важнее смерти у мусульман.
Вот ближе и ближе всадники… Вот они не дальше пяти саженей. Вот приехали. Переводчик спешивается первым и, почтительно приложив по восточному обычаю руку ко лбу, устам и сердцу, говорит:
– Великий имам – наш повелитель – шлет селям[68]68
Привет.
[Закрыть] русскому бимбашу…[69]69
Большому начальнику.
[Закрыть] Славный Шамуиль-Эффенди, Амируль-Муминина[70]70
Повелитель правоверных.
[Закрыть] приветствует тебя, сардар, и сдает на милость белого падишаха своего первенца-сына Джемалэддин-бека… Да охранит его милость Аллаха, и да продлятся его годы на радость нам!
Кончил переводчик и отошел в сторону.
Спешился второй всадник в красной чалме с огненно-рыжей бородою. За ним что-то легкое, проворное, маленькое и прекрасное спрыгнуло с седла и бесстрашно приблизилось к русскому генералу.
Невольный возглас восторга вырвался из груди русского вождя и окружающих его подчиненных:
– Что за прелесть! И правда прелесть.
Стройный, гибкий, черноглазый красавец-мальчик стоит перед ними. Лицо его бледно, но спокойно. Гордо и бесстрашно смотрят смелые, горящие глаза. На прекрасном нежном личике печать величия. Так может смотреть только ребенок властителя; простой горский ребенок не взглянет так. Эта врожденно-царственная осанка, эта смелая уверенность таит в себе что-то великолепное и вместе трогательное. Нет сомнения, это не жалкий самозванец, а настоящий сын имама-вождя.
Сомнения рассеялись, и русский генерал облегченно вздохнул.
– Кто ты? – обратился он к мальчику через переводчика.
Тот гордо выпрямился, глаза его блеснули ярче.
– Я Джемалэддин, сын имама! – произнес он с достоинством.
Твердо и смело прозвучал детский голосок. Ни малейшей дрожи нельзя уловить в нем. Это уже не прежний, горько рыдающий на груди матери Джамалэддин-ребенок. Это точно взрослый джигит, безропотно подчиняющийся своей неумолимой судьбе…
Слезы и отчаяние остались там, в сакле, на вершине Ахульго. Здесь, перед лицом гяуров, он не выкажет смятения и горя, терзающего ему сердце. Нет, нет, он не даст торжествовать и радоваться врагу! А между тем как тяжело сдерживать подступающие к груди рыдания… Особенно теперь, когда Хаджи-Али, переводчик и другие джигиты прощаются с ним, чтобы умчаться назад на гору, в родной аул.
– Передай матери, чтобы она не горевала. Скажи ей, что ее птенцу будет здесь хорошо, – шепнул он на ухо Хаджи-Али, когда тот в последнем приветствии поцеловал детскую ручонку сына своего имама, – и еще скажи, – торопливо добавил так же тихо Джемалэддин, – что, пока кровь течет в моих жилах, я буду вечно помнить ее!
Старик только мотнул головою. Его самого душили слезы. Потом он подал знак остальным; всадники вскочили на коней и в один миг скрылись за утесом.
Последняя связь с родным аулом с этой минуты прервалась у маленького аманата.
Он долго смотрел в горы, покусывая губы и через силу удерживая стон, готовый вырваться из его груди.
Офицеры с участием смотрели на чудесного ребенка, так мужественно боровшегося со своим горем.
Один из них порылся в кармане и, вынув кусок сахару, подал его мальчику. Джемалэддин машинально принял его и бессознательно зажал в детской ручонке. По лицу его прошла заметная судорога. Он, не отрываясь, глядел в ту сторону, где исчез чеченский отряд.
Его окружили офицеры. Десятки чужих глаз устремились на него с участием и любопытством. Плотный генерал разглядывал его как невиданного зверька. Невыразимая тоска сжала сердце ребенка. Его нестерпимо потянуло домой, в аул, в горы… Быстрым движением он надвинул на самые глаза папаху, чтобы русские не заметили слезинок, блеснувших в глубине его черных глаз.
И вот в ту самую минуту, когда его сердце разрывалось под напором охватившей его тоски, чей-то тихий голос произнес вблизи его по-чеченски:
– Бедный мальчик! Как ты страдаешь!
Он быстро вздрогнул, поднял глаза. Перед ним было Доброе, ласковое, загорелое лицо… Голубые глаза, наполненные слезами, впивались в него участливым взором. Ободряющей улыбкой улыбались полные, добродушные губы.
Борис Владимирович Зарубин с бесконечной жалостью глядел на маленького пленника.
Странно подействовала эта ласка, этот голос на бедняжку Джемалэддина…
Чем-то близким, родным повеяло на него от синих ласковых глаз доброго офицера.
Он глубоко заглянул в эти глаза неизъяснимо печальным взором насмерть затравленного зайчика и, повинуясь охватившему его влечению, упал на его грудь с тихим жалобным плачем:
– О добрый саиб!.. Там вверху моя мать!
Глава 13
Неожиданный спаситель. Голос сердца и голос крови
– Ей-Богу же, он похож на нашего Мишу, Потапыч, – говорил Зарубин своему неизменному другу-денщику, следя глазами за играющим на уступе скалы Джемалэдд ином.
– Ну и выдумаете же, ваше благородие, – ворчливо отозвался, по своему обыкновению, тот, – гололобый, как есть гололобый. Ишь что сказали… Наш Мишенька-то словно сахар беленький, пухлый, как булочка, и глазки что твои васильки, а этот, прости Господи, сущий дьяволенок: также и сух, и черен. У нас на селе, в притворе храма, черт был, прости Господи, вырисован для острастки, так, верите ли, сущий Джемалка этот: на одно лицо… А вы вдруг: с Мишенькой один будто облик… Да у этого-то чуть что глаза разгорятся, как у чекалки: того и гляди, кинжалом тебя пырнет… Вы, ваше благородие, того… остерегайтесь его… Долго ли до греха. Ведь чей сын-то – Шумилкин, – вы это в расчет возьмите!
– Полно, Потапыч, вздор болтаешь!.. Он мне предан, как собака! По глазам видно. Да и сердечко у него благородное. И за что ты не взлюбил Джемалэддина? Что он сделал тебе?
– А то сделал, что татарва он некрещеный и нашему отечеству враг. Смутягин сын и сам смутяга. Говорю вам, ваше благородие, не доверяйтесь вы ему! – упрямо настаивал тот.
Этот разговор происходил между капитаном Зарубиным и его слугою по пути к Тифлису, куда, по приказанию генерала Граббе, Борис Владимирович должен был доставить маленького пленника, чтобы оттуда уже отправить его в Петербург, к государю.
Зная доброе сердце офицера и его умение говорить по-чеченски, а еще больше умение ласково обращаться с детьми, генерал Граббе, из жалости к маленькому пленнику, вручил его попечению Зарубина.
Только трое суток как Зарубину вверили мальчика, а он успел полюбить его. Сам оторванный от семьи и любимца сына, Борис Владимирович своим нежным сердцем жаждал привязанности, и не мудрено, что душа его разом открылась навстречу душе маленького пленника.
Впрочем, не только он, но и все окружающие чувствовали невольную симпатию к юному заложнику, с такой стойкой и трогательной гордостью переносившему свое горе.
Все, кроме одного Потапыча, который никак не мог простить маленькому татарину его происхождения и иначе как «гололобым» и «Шумилкиным отродьем» не называл его, втайне досадуя на своего барина за расточаемые им ласки басурману.
Сейчас, во время остановки у подножия одной из горных стремнин, сделанной с целью дать передохнуть сопутствующему их конвою казаков, Борис Владимирович вышел из коляски и выпустил своего юного спутника поиграть и порезвиться на воле.
Но мальчик был далек мыслью от игр. Уставившись печальным взором в ту сторону, где, по его мнению, находилась вершина Ахульго, он тихо запел что-то заунывным голосом, вертя в руках машинально сорванный горный цветок.
– О чем ты поешь, мальчик? – неслышно приблизившись к маленькому заложнику, спросил его Зарубин.
Легким румянцем окрасились бледные щеки Джемалэддина. Он весь встрепенулся и тихо произнес:
– Это наша песня, саиб. Хорошая песня…
– В ней говорится о родине, не правда ли, Джемал?
– Нет… да… нет! – Мальчик смутился окончательно. Глаза его вспыхнули ярче.
– Спой мне эту песню, Джемал! – попросил Зарубин, присаживаясь рядом с ним над откосом бездны.
Маленький горец молча кивнул головою. Потом он тихо, чуть слышно начал:
Внезапно оборвалась песнь… Дрогнул голосок Джемалэддина. Тяжелый вздох вырвался из его груди.
– Ты грустишь по своей матери, Джемал? – ласково спросил его Зарубин. – Но, мой мальчик, придет время и ты снова увидишь ее! – И он нежно погладил голову ребенка.
Что-то до боли печальное мелькнуло в прекрасных глазах Джемалэддина.
– О, я отдал бы сорок лет жизни, саиб, чтобы остальные десять прожить с нею вместе! – горячо вырвалось из груди несчастного мальчика. Потом, помолчав немного, он добавил упавшим голосом: – Ах, я чувствую, что никогда уже не увижу ее больше, саиб!
– Не думай так, дитя! – утешал его Зарубин. – Ты не пленник, а заложник только. Пройдет время, наш государь увидит, что отец твой смирился, и вернет тебя «твоей матери…
– О, ты добр, как ангел, саиб, но не утешай меня этим… Я знаю: великий имам никогда не склонится перед знаменем белого падишаха, и мне не суждено видеть свободы, как слепому кроту никогда не суждено увидеть солнечного луча. Моя свобода далеко…
И он вздохнул еще печальнее, еще тяжелее прежнего.
Если бы взор Джемалэддина не был так затуманен слезами, мальчик мог бы заметить два горящих черных глаза, без устали следившие за ним из-за куста.
Эти два черных глаза принадлежали Гассану-беку-Джанаида.
С той минуты, как русский саиб, окруженный конвоем, повез сына имама по горам к Тифлису, Гассан, словно кошка, крался за ними со своим верным, испытанным другом-конем. Никто не приказывал ему делать это. Когда он увидел там, в сакле Ахульго, потемневшее от горя лицо Шамиля, прощающегося с сыном, Гассан сказал сам себе:
«Великий имам должен быть ясен, как солнце! Никакое горе не должно омрачать его. Я выкраду у русских Джемалэддина и верну его повелителю».
И, весь пылая бесконечною любовью к своему вождю, молодой мюрид в тот же час приготовился к своей опасной задаче и ни на минуту не выпускал из виду русский лагерь. Увидав сборы к отъезду русского саиба вместе с маленьким аманатом, Гассан быстро оседлал коня и погнался вслед за ними, крадясь стороною за утесами и деревьями, не теряя ни на одну секунду из глаз коляску путников, окруженных сильным казачьим конвоем.
Его замысел был труден и опасен и грозил смертью. Он знал, что, если заметят и поймают его казаки, они вздернут его, как злоумышленника и шпиона, на первом же суку чинары. Но страх позорной смерти не мог удержать Гассана. Он твердо решил вырвать ребенка из рук гяуров или умереть из любви и фанатической преданности к своему имаму.
* * *
Ночь окутала своим флером потемневшие горы… Дорога над бездной, под ее непроницаемым покровом стала опасной для маленького отряда. Того и гляди, могли поскользнуться кони, упасть в пропасть, увлекая за собой людей. Зарубин приказал распрячь лошадей и отвезти коляску под выступ утеса. Казаки-конвойцы стреножили коней и пустили их на траву. Потом быстро разбили палатку для капитана и его спутника и, разведя костер, стали варить себе ужин. Потапыч успел сбегать к ручью, поставить прихваченный в дорогу самовар для своего капитана. Напоив чаем своего маленького друга, Борис Владимирович приказал ему ложиться спать пораньше.
Джемалэддин послушно разостлал свой бешмет, заменявший ему намазник под пологом палатки и, свершив неизбежный яссы-намаз, улегся на наскоро приготовленную постель из мха и травы, прикрытую казацкой буркой. Вскоре сам Зарубин, Потапыч и казаки последовали его примеру. Первые двое легли под пологом палатки, последние – под потемневшим до непроницаемости пологом неба, расставив предварительно двух часовых неподалеку от ставки. Вскоре их дружный храп достиг ушей Джемалэддина. Но сам он был далек от сна.
Эта душная августовская ночь так и веяла на мальчика пряным ароматом ночных цветов, залетающим к нему вместе со свежим дыханием горного ветерка. Но горный ветерок не приносил с собою желанной свежести. Его лицо пылало… дыхание спиралось в груди.
«Завтра, – мечтал он тоскливо, – они с саибом будут уже в Тифлисе, а еще через день его, Джемалэддина, отправят к белому падишаху, в большой северный город, где суждено ему прожить целую жизнь». Острое ощущение горя сжало сердце мальчика… «О, если бы Аллах свершил чудо и вернул его на крыльях своего ангела в родные горы к его «ласточке», тоскующей по нем!..»
При одном воображении о возможности такого счастья он вздрогнул весь и светло и блаженно улыбнулся… А пылкое воображение востока уже рисовало ему одну за другой картины соблазнительной свободы. Он так увлекся своими мечтами, что стал грезить наяву: вот чудится ему взмах крыльев посланного за ним ангела Джабраила, непременно Джабраила, а не иного, потому что ему молится мать… Ему уже слышится веяние ангельских крыльев… Вот он ближе… посланник всемогущего Аллаха… Вот уже у самого входа в шатер. Во мраке ночи блеснули его яркие очи… Или это восточная звезда сверкает с вышины?.. Легкое забытье овладело мальчиком…
О, какое это сладкое и вместе с тем мучительное забытье! Оно ему – пленнику – говорит о свободе. Он закрывает глаза и погружается в какую-то теплую ароматичную волну… Но что это? Шорох ангельских крыльев уже вполне ясно чудится снова.
Чуткий слух ребенка, выросшего в горах и привыкшего улавливать малейшие звуки природы, не может обмануть его. Это не сон, не греза, а действительность… Живая действительность… Да!..
Он широко раскрывает глаза и замирает от неожиданности. Прямо ко входу палатки мимо задремавших караульных, чуть шевелясь в траве и извиваясь подобно змее, ползет человеческая фигура… В зубах у ползущего кинжал, на спине перекинута винтовка. Лицо его, чуть приподнятое от земли, слабо-слабо освещено умирающим отблеском потухающего костра… Оно хорошо знакомо, это лицо, Джемалэддину…
Это мюрид Гассан-бек-Джанаида!
Он узнал его.
«Но зачем он здесь?» – изумленно спрашивает себя ребенок.
И вдруг быстрая догадка пронизывает его мозг. Аллах Великий! Не за ним ли пришел он, за Джемалэддином! Не спасти ли его он хочет?.. И при одной мысли об этом безумная радость охватывает мальчика. Недаром, стало быть, Аллах навеял ему его грезы. Он, Великий, не захотел продлить горя своего маленького слуги и посылает ему желанную свободу!
Мальчик издали протянул руку своему нежданному избавителю и чуть дыша, весь замирая от восторга и страха, ждал его приближения.
Ему было чего бояться… Сделай хоть одно неверное движение Гассан, звякни он винтовкой или кинжалом, и пуля часового уложит его на месте…
Но, слава Аллаху, он ловок, как кошка, и тих, как мертвец. Он ползет, как змея, невидимо и неслышно. Минута… и он уже подле Джемалэддина у ног его.
– Господин, – шепчет он тихо, едва внятно, – ты свободен и с зарею увидишь свою мать! Дай только справиться с этим…
И он вдвое осторожнее и неслышнее продолжает свой путь к тому месту, где спит далеко не помышляющий об опасности Зарубин…
Джемалэддин, весь охваченный трепетом, едва соображает действительность. И правда, не на сон ли похоже все это? Он, уже отчаявшийся видеть свободу и «ласточку», увидит их снова, опять… И отца увидит, отца, которого он уважает и боится и которого даже не смеет открыто любить!.. Могучий аллах бывает и милосердным к ним, маленьким людям!
«Завтра на заре ты увидишь свою мать!» Так сказал Гассан.
О! У него сердце разорвется от счастья при одной мысли об этом! Он крепко прижал обе ручонки к груди и затаив дыхание следит за своим избавителем.
Что нужно, однако, еще Гассану? К чему он медлит? Пусть берет его и мчит скорее домой. Что ему понадобилось еще у ложа саиба? Зачем нащупывает рукою кинжал? «Аллах Великий! Не убить ли он его хочет?» – вихрем пронеслось в отуманенной счастьем головке ребенка.
И вдруг, в один миг, все стало для него ясно как день.
Черная туча накрыла с головой Джемалэддина. Куда исчезло то короткое счастье, которое он испытал за один лишь миг до того?.. Теперь он понял все. Гассан, прежде чем выкрасть его, Джемала, должен убить саиба, чтобы обеспечить бегство на случай тревоги. Ведь казаки, лишенные своего начальника, придут в смятение и не погонятся без команды за ними!
Убить саиба!..
Друга-саиба, который сумел, насколько мог, скрасить первые дни его – Джемаловой неволи, доброго саиба, который лаской и заботами старался развлекать его!.. Саиба, который рассказывал ему, Джемалэддину, о своем маленьком сыне с таким мудреным именем, какого он еще не слыхал! Он, этот сердечный, добрый урус, должен умереть и этим возвратить свободу Джемалу!.. Только перешагнув через его труп, Джемал будет в состоянии увидеть мать… брата… отца… Ахульго!
О!
Он привстал на бурке и безумным от ужаса взглядом следил за всеми движениями Гассана.
Вот молодой мюрид уже подле того места, где лежит Зарубин… вот он наклоняется над спящим офицером… вот осторожно вынимает изо рта кинжал…
Разнородные ощущения волнуют грудь Джемалэддина… Он почти задыхается от двух противоположных чувств, сдавивших ему грудь… Его тянет, невыносимо тянет к матери, в аул, на волю, и в то же время ему нестерпимо увидеть мертвым его нового ласкового друга…
Он стоит, не смея дохнуть… Глаза его горят во мгле… Зубы стучат и щелкают, как у голодной чекалки… Вот, вот сейчас будет уже поздно… Если он сию минуту не разбудит спящего – кинжал Гассана прорвет ему грудь. Вот рука его уже нащупывает сердце Зарубина… Вот он взмахнул кинжалом… Раз…
– Проснись, саиб! Здесь смерть! – словно чужим, не детским голосом вне себя вскрикивает Джемалэддин, со всех ног кидаясь к спящему.
– Проклятие! – в ту же минуту глухо срывается с уст Гассана. И он с быстротою молнии кидается из палатки…
В ту же минуту гремит выстрел, пущенный из казачьей винтовки наудачу в темноту ночи… и где-то совсем близко слышится топот коня…
Бравый казак-кубанец с раздутой головней вбегает в палатку.
Разбуженный криком Зарубин открывает глаза. Подле него, скорчившись, сидит крошечная фигурка… Чье-то тихое всхлипывание нарушает тишину ночи.
– Джемал, ты?
– О, слава Аллаху, ты жив, господин! – вскрикивает радостно мальчик и, облитый слезами, падает ему на грудь.
– Что такое? Кто кричал? Чьи это выстрелы?
Джемал трепещущим, вздрагивающим голосом рассказывает что-то. Но из прерывающегося лепета ребенка трудно понять что-либо… Между рыданием слышится только: «мюрид… смерть… саиб… мать… свобода!..»
Но Зарубину не надо большего. Он понял, скорее сердцем, нежели мыслью, понял… Понял, что благородный мальчик спас ему жизнь ценою своего собственного счастья.
И не он один понял это: понял и Потапыч, поняли казаки, теперь разом наполнившие палатку.
Глаза старого денщика ласково блеснули во тьме Точно повинуясь непреодолимому порыву, он подошел к мальчику, положил ему на голову свою закорузлую, жесткую руку и, сморгнув непрошеную слезу, сказал своим дрожащим от волнения голосом:
– Ты… того… я виноват перед тобою, брат… Я думал, что ты, как папенька, значит, смутяга, а ты того… значит, при всем своем благородстве!.. Молодца! Я, брат, тебя не понимал покедова… Ты уж прости меня, старого дурня, за это!.. И кунаками, слышь, тоже таперича мы с тобой будем, на всю, слышь, жизнь таперича кунаки…
Джемалэддин ничего не понял из всего того, что говорил ему по-русски Потапыч.
Но если бы он и понимал по-русски, бедный мальчик, то все равно не разобрал бы ни слова из сказанного…
Он тихо и горько плакал в эту минуту на груди своего друга-саиба – и по утраченному счастью, и по утерянной навеки свободе…
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.