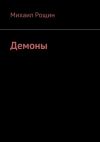Текст книги "Южнорусское Овчарово"

Автор книги: Лора Белоиван
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 18 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Семь звёзд

«Какая пошлятина, – думал Жмых, не умея отделаться от одноглазой цыганки, – какая пошлятина».
– В сорок четыре берегись товарища. – Гадалка смотрела куда-то вбок и виртуозно сминала жмыхову десятку. – Твои корабли попадут в плен, а офицер на белом коне будет предвестником смерти, но причиной станешь ты сам, а до этого много горя испытаешь в короткий срок. Товарищ обманет, жена уйдет, и дом твой вскоре сгорит, а в доме сгоришь и ты. Избежать смерти сможешь, если…
Если б не гудок электрички, Жмых бы знал, каким образом сможет избежать смерти. Но когда электричка наконец проехала, цыганки на платформе уже не было. Она попросту исчезла. Как и чемодан, только что стоявший у ног Жмыха. «Корабли… – Жмых хотел было сплюнуть на платформу, но в пересохшем рту не оказалось слюны. – Корабли, блядь. Я список кораблей прочел до середины». В украденном чемодане лежал красный филологический диплом. «Почему не в тридцать семь? – подумал Жмых и сам себе ответил: – Какая пошлятина».
Через двадцать два года Жмых произнес эту фразу вслух, когда судебные приставы сели в белый «крузер» и уехали прочь. Один из приставов был смазливым и жеманным, а фамилия у него была – Дантечко.
– Какая пошлятина, – сказал Жмых.
Оказалось, впрочем, что жить можно и без рыбодобывающей компании. Тем более без такой невеликой, какая была в собственности Жмыха. Подумаешь – семь сейнеров. «Цаворит», «Пироп», «Альмандин», «Гелиодор», «Цитрин», «Эвклаз» и «Оникс». Подумаешь – пять с половиной миллионов долларов. Подумаешь… Жмых подумал, сел на пол и заплакал.
– Господи, – подвывал он, – ну какая пошлятина, Господи.
Цыганка была лгуньей: жена ушла на три месяца раньше, чем сейнеры очутились под арестом и были выставлены на аукционы в пользу кредиторов. Она ушла даже до того, как друг и партнер Жмыха украл все деньги компании и сбежал в страну, не выдающую России предателей детства. Когда белый «крузер» с приставами уехал, Жмых сел на пол возле опечатанного офиса и просидел там до ночи, не сводя глаз с луны, маячившей в торцевом окне длинного, как железнодорожная платформа, коридора.
– Что ж теперь делать, Господи? – тихонько провыл Жмых, съехал спиной по стене, лег на пол и неожиданно, прямо на полу, уснул. Решение пришло во сне. Оно казалось таким стройным и красивым, что спящий Жмых засмеялся от счастья. Сделать предстояло всего ничего:
– расширить слуховое окно;
– настелить поверх рубероида двухдюймовые доски;
– заменить семь обгоревших досок ската свежими;
– сесть возле окна и написать роман зубочисткой.
Решение, во сне такое понятное и приятное, оскорбило проснувшегося Жмыха отсутствием логического конца и логического начала. Однако сон запомнился весь, целиком, и даже запах из этого сна преследовал Жмыха до середины дня – запах гари. «Какая пошлятина, – подумал Жмых, – дом мой еще не сгорел, а уже так воняет». После обеда свободный от обязанностей и обязательств Жмых принимал в своей шикарной, с видом на море, квартире агента по недвижимости.
В Южнорусское Овчарово он прибыл налегке: никаких грузовиков с мебелью, никаких ящиков и картонных коробчонок – только яркий новогодний пакет, полный денег. По дороге Жмых остановил машину возле Лёхиной «Лагуны», зашел и купил там хлеб, сыр и пиво. Расплачивался из мешка, сдачу вбросил туда же (деньги – к деньгам), сыр и пиво положил в карман, а хлеб сунул подмышку. Затем сел в машину и поехал покупать себе дом после пожара.
– Не подскажете, кто-нибудь продает дом после пожара? – спрашивал Жмых овчаровцев, высовываясь из окна машины.
– Дом после пожара? Надо подумать.
Жмыху давали адреса, говорили: «Ну, значит, поедете прямо, а потом…» – и показывали дорогу пальцем, но все было не то. Он приезжал к указанному месту и даже не выходил из машины: пепелища, поросшие давним бурьяном и заваленные ровным снегом, его не интересовали. Жмых искал совсем другое – и, наконец, нашел. Это случилось на четвертый день его поисков, хотя могло б случиться и раньше, если бы ему повезло сразу встретиться с дедом Наилем. Но Жмых пересекся с ним во вторник утром, а впервые покупал овчаровский хлеб в пятницу вечером.
– Знаю такое дело, – кивнул Наиль, обошел красный Жмыхов «террано» и, без спросу открыв пассажирскую дверцу, взлез на высокое сиденье. – Сейчас поехали прямо, потом сверни промеж столбов. Здесь направо, ага.
Через семьсот метров улица кончилась, и Жмых остановил машину под огромной заснеженной черемухой. «Летом здесь будет тень», – подумал он.
– Вот, – сказал Наиль и полез наружу.
Жмых заглушил двигатель и ступил на снег. За невысоким дощатым забором стоял одноэтажный дом. Даже издали было видно, как сквозь дурацкую голубую краску вокруг чердачного окна проступает гарь. Жмых кивнул и вопросительно глянул на своего проводника.
– Марковна, – крикнул Наиль. – Марковна! Ты дома?
Через полчаса Жмых отвез Наиля обратно, затем вернулся под черемуху, а еще через час они с Марковной усаживались за стол районного нотариуса, работающего в овчаровской аптеке раз в неделю, по вторникам, с десяти утра до трех пополудни.
Жмыху было абсолютно наплевать, что о нем подумают его будущие односельчане. Но, вероятно, он бы здорово удивился, если б знал, что будущие односельчане не думают о нем ничего. Что касается пакета с деньгами, то в Овчарове были и другие похожие случаи: взять хотя бы историю с осевшими в деревне узбеками, которые однажды решили выкупить под минарет одну из пяти водонапорных башен и пригнали в сельскую администрацию двухколесную тачку денег. И все нормальные люди при покупке дома осматривают чердак, потому что он может оказаться никуда не годным. Чердак в доме Марковны был никуда не годным. Ну, почти никуда и почти негодным.
Сперва люк не поддавался, им давно не пользовались, деревянная его дверца лежала так тяжко и плотно, что казалась прибитой изнутри к чердачному полу. Жмых попросил топор и принялся осторожно раскачивать и расширять зазор между крышкой люка и потолком. Прошло не менее четверти часа, прежде чем крышка поддалась. Жмых вдохнул воздуху впрок, подтянулся на локтях и нырнул в чердак, как в омут.
На чердаке была комната. В ней имелось крохотное слуховое окно, в которое едва ли можно было просунуть голову. Сквозь стекло просачивался неопрятный серый свет. Этот свет создавал иллюзию дождливой погоды, в то время как на дворе – и на веранде, оставшейся где-то там, за пределами – все искрилось и сверкало. Жмых отряхнул колени, подошел к окошку и попытался выглянуть наружу. Стекло было настолько грязным, что выглядело закрашенным желто-серой краской. Жмых скребнул по стеклу ногтем. На грязи и копоти появилась царапина, сквозь которую тут же просунулось лезвие света, вспоровшее ближайший сумрак чердака. Жмых даже вздрогнул от неожиданности. Он посмотрел на царапину, затем на ноготь. Под ногтем притаилась колбаска жирной оконной грязи. Жмых выкатил колбаску указательным пальцем левой руки, немного помял ее и – загрунтовал царапину. Ему показалось, что чердак облегченно вздохнул.
С того момента Жмых в общих чертах знал, что делать:
– расширить слуховое окно;
– настелить поверх рубероида двухдюймовые доски;
– заменить семь обгоревших досок ската свежими;
– сесть возле окна и…
«Наверное, покурить», – вспоминал Жмых и тут же отрицательно мотал головой: не то.
…Про Жмыха в деревне не думали ничего – во всяком случае, ничего плохого, – а уж когда к нему переехала его старая толстая мамочка, соседи начали оказывать новоселу и почет, и уважение, и готовность обменяться петухами для обновления генофонда в курятниках, но курятника у Жмыха не было, хотя мамочка и намекала.
Еще до мамочкиного переезда Жмых успел не только отремонтировать дом, но и привести его в соответствие с городскими представлениями о комфорте: подсоединил водопровод, выкопал септик, установил отопительный котел, самостоятельно включающийся и так же самостоятельно принимающий решение прекратить «жарить хату» (как выражался Карнаухий Петр, чья теплолюбивая супруга так нажаривала хату, что бедолага, бывало, трижды за зиму стелил себе на веранде, прямо под ледяными окнами). Словом, Жмых окультурил бывшее жилище Марковны, и лишь чердака не тронул почему-то, хотя намеревался начать именно с чердака, когда впервые поднялся туда и оглядел комнату, в которой ему предстояло сделать так много дел. Комнаты, впрочем, там и не было: просто чердачное помещение с крохотным слуховым оконцем, в которое, может, удалось бы просунуть голову, но не плечи. Когда-то в доме треснул дымоход, и только чудо спасло жилище от гибели. Вовремя заметили, прибежали и потушили опилки, служившие утеплителем. О давнем происшествии напоминали обугленные доски ската и неистребимый запах горелого дерева. Перекрытие наскоро проложили стекловатой и рубероидом – да и оставили чердак в покое. «Надо пол сделать», – думал Жмых и шагал к слуховому окошку.
С момента покупки дома Жмых совершал восхождения на чердак ежедневно. Был даже случай, когда он лазал туда в температурной горячке – ему показалось, что в доме слишком жарко и душно: мамочка нажарила хату, – и что недомогание его идет не изнутри тела, а снаружи, и на чердаке ему будет в самый раз. Промерзший чердак действительно помог Жмыху. Жмых приставил стремянку к люку, поднялся по ступенькам и втолкнул крышку внутрь. А затем, разделившись на три части, отошел в сторонку и наблюдал, как здоровый Жмых втягивает в чердак тело Жмыха больного. На чердаке здоровый Жмых подвел больного напарника к окошку и заставил его прижаться лбом к заиндевелому стеклу. В момент, когда лоб растопил посреди серых узоров круглую амбразуру, Жмыхи снова сделались одним человеком, спустившимся с чердака без свидетелей и без посторонней помощи. Своим странным выздоровлением Жмых сильно удивил мамочку, не далее чем 15 минут назад заходившую в Жмыхову спальню и трогавшую ему горячечный лоб.
Шли неделя за неделей, и на чердаке ничего не менялось: через грязное стекло сочился неопрятный серый свет, как будто снаружи было пасмурно; старые доски ската, с внешней стороны покрытые оцинкованным железом, внутри хранили следы давнего пожара. Все как всегда. Но, проведя на чердаке десять-пятнадцать минут, Жмых знал, как ему поступить:
– расширить слуховое окно;
– настелить поверх рубероида двухдюймовые доски;
– заменить семь обгоревших досок ската свежими;
– сесть возле окна и…
Все это он обязательно сделает, когда придет время. Даже то, что забыл.
Каждый вечер, улегшись в постель и терпеливо дождавшись, когда мамочка перестанет шурудить за стеной, Жмых переносил себя на отремонтированный чердак и пытался вспомнить, что ему следует сделать, сидя у засиженного звездами окна. Каждый день Жмых поднимался на чердак, чтобы узнать, пришло ли время – или надо подождать еще.
Весной и летом нужное время было так далеко, что Жмых не понимал, сколько же именно ему придется ждать, годы или месяцы. Входя – утром ли, вечером – в чердак, Жмых вдыхал запах застарелой гари, и ему делалось радостно и одновременно тоскливо. Он подходил к слуховому окошку, которое всегда показывало дождь, и осторожно прикасался пальцами к грязному стеклу. Он стоял на том самом месте, где когда-нибудь станет сидеть и что-то делать. Что-то очень важное, забытое сейчас, но должное непременно вспомниться. Иногда Жмых садился на рубероид и, обхватив колени руками, пересчитывал обгорелые доски ската.
– Семь, – говорил Жмых вслух, и чердак обдувал его лицо легким сквозняком, появлявшимся и исчезавшим сразу вдруг. Иногда Жмых проговаривал вслух все пункты по порядку:
– расширить слуховое окно;
– настелить поверх рубероида двухдюймовые доски;
– заменить семь обгоревших досок ската свежими;
– сесть возле окна и…
Чердак внимательно слушал, но не подсказывал.
Прошло восемь месяцев. С наступлением осени Жмых впервые почувствовал: пора. Одним поздним вечером он поднялся на чердак с карандашом, бумагой и рулеткой. Чердак молчал. В воздухе была настороженная выжидательность. Жмых уловил ее – все-таки недаром общался с чердаком столько времени, можно было выучить его характер.
– Расширить слуховое окно, – сказал Жмых и прислушался.
В душноватом чердачном воздухе прошелестело согласием, и Жмых продолжал:
– Постелить доски на пол. Пятерку. Лиственницу, она красивая. Красить не буду.
Чердак осторожно улыбнулся. Жмых выждал с минуту, утверждаясь в настроении чердака.
– Заменить горелые доски…
Внезапно под коньком что-то громко треснуло. Жмых вздрогнул и посмотрел вверх. Конек как конек. Стропила. Доски. Семь обгоревших.
– Заменить…
В чердачном воздухе отчетливо запахло мокрой гарью. Вонь была такой густой, что Жмыха замутило.
– Не надо??? – Жмых изумленно смотрел на горелые доски. – Семь штук, – пробормотал он.
Чердак молчал.
– Не надо менять? – переспросил Жмых.
«Нет», – ответило ему быстрым сквозняком.
– Ну ладно. – Жмых пожал плечами. – Не хочешь – не буду. Почему? Странно. Почему?
Странно было бы ждать подробного ответа.
– Ну хоть покрасить-то можно? – спросил Жмых. – То есть я вообще-то утеплить хотел. Чтоб и зимой тоже.
Чердак согласно выдохнул.
– Спасибо, – сказал Жмых.
Он подошел к той части ската, на которой были следы пожара, и провел пальцем по обгорелой доске. На пальце не осталось сажи. Жмых понюхал палец. Палец не пах ничем. Жмых спустился в сад и принялся стаскивать на поляну сухие ветки яблони, а потом, запалив костер, сел напротив и уставился в черное небо. Ветки стреляли искрами. Искры уносились вверх и превращались в звезды.
Самым сложным оказалось объяснить узбекам, почему нельзя трогать семь аварийных досок. Бригадир по имени Бек («Узбек Бек», – хмыкнул в голове Жмыха филолог) только что пальцем у виска не крутил, силясь опротестовать Жмыхов план чердачной реконструкции.
– Плохие доски, – убеждал он Жмыха. – Надо менять. Недорого! Семь досок поменять – недорого! Почему не хочешь?!
«Чердак не хочет», – это не ответ для узбека Бека. Узбек Бек подумает, что Жмых сумасшедший.
– Иди нахуй, – сказал Жмых. – Сказано: не надо. Значит, не надо.
– Хорошо, – ответил Бек.
Пока шел ремонт, Жмых поднимался на чердак прежде строителей, а покидал его тогда, когда мамочка – там, внизу – уже закрывала за ними калитку.
Двойная обрешетка по стропилам – для кровельной вентиляции. Напоследок – пальцем по обгоревшим доскам. Спите, доски, постель вам – парозащитная пленка и базальтовые маты. Ореховые доски-дюймовки чистовой вам обшивкой. Старый утеплитель под рубероидом поменяли на высокотехнологичный базальт. Рубероид, прощай. Здравствуй, лиственничный пол. Фасадную стену под дополнительный опорный брус – готово. Между брусками – оконный проем в натуральную величину Большой Медведицы и пары-тройки ее соседей. Старую раму со стеклами, так и не познавшими моющих средств, отставили к стене и забыли снести вниз. «Потом сам уберу», – подумал Жмых.
Привезли новое окно. Белый пластик, тройной стеклопакет. Оконный блок подняли на веревках со двора. Установили. Обшили красотой. Когда все сестры получили по серьгам и мамочка закрыла калитку, Жмых лег на лиственничный пол и почувствовал, как сквозняк, каждый раз возникавший невесть откуда, погладил его по щеке.
– Дура сентиментальная, – сказал он то ли себе, то ли чердаку, перевернулся на бок и уснул.
Приученная не лезть не в свое дело мамочка ни разу не влезла в люк. Жмых проснулся сам. Было около полуночи. Он лежал в лунном квадрате, и перемычка окна бросала на него резкую тень с острыми краями. Жмых примерился и лег так, чтобы «I» рассекла его на равные части. До. После. Полежал, рассеченный надвое. Сел. Встал на колени. Дотянулся до старого окна. Крякнул, подняв окно и, все также на коленях, перетащил его поближе к луне. Сел. Поставил окно перед собой. Порылся в кармане и нашел зубочистку.
«Ну и что», – подумал Жмых и выцарапал на липкой оконной грязи слово «хуй».
Зачеркнул. Посидел. Нарисовал домик. Почесал переносицу и написал: «Я список кораблей прочел до середины».
– До середины, – повторил он вслух. – Я список кораблей прочел до середины.
По чердаку пробежал сквозняк. Жмых уловил в нем запах водорослей.
– Я список кораблей прочел до середины.
За новым пластиковым окном мигали осенние звезды. По чердаку гулял майский ветер, пахнущий дождем и йодом.
– Я список кораблей прочел до середины.
Говорят, единственный вопрос, который ему задал кредитный эксперт, звучал так:
– Вы честный человек?
– Да, – ответил Жмых, – я честный человек.
Поздним вечером того дня, когда у овчаровского пирса ошвартовался новенький сейнер по имени «Мицар», Жмых пришел на чердак с бутылкой шампанского.
– Я честный человек, – сказал Жмых, – я тебя никогда не брошу.
Слово он сдержал. Судоходная компания «Семь звезд» быстро стала самым богатым предприятием побережья, но никакого недоумения у жителей Южнорусского Овчарова не вызывает тот факт, что миллионщик и судовладелец Жмых живет вместе с мамочкой в одноэтажном домике на северо-западной оконечности деревни. Живет – значит, ему так нравится. Живет – стало быть, не пришло время умирать. А раз не пришло время умирать, значит, надо жить. Семь обгорелых досок Жмыхова чердака тому свидетели. Да старое чердачное окно в его комнате, к которому Жмых, на удивление мамочки, категорически запретил ей прикасаться.
Окно очень грязное. Его липкая грязь искорябана так, что ничего на ней нельзя разобрать, только рисунок и видно: домик, а над домиком звезды, подписанные в нестройном порядке –
«Мицар»
«Алиот»
«Капелла»
«Изар»
«Сегинус»
«Менкалинан»
«Арктур»
Свойкины

– Замечательно ты устроилась. Замечательно. Молодец.
Игнатьич стоял посреди тропинки и разговаривал с пустотой – так увидела ситуацию его пожилая дочь, перебиравшая на кухонном подоконнике семена. Занавеска тяжелого тюля – такие теперь только в деревнях и увидишь – скрывала ее, да батя и не оглядывался на дом. Игнатьич вообще никогда не оглядывался: давняя травма шейного позвонка не позволяла ему ни наклонять, ни поворачивать голову. Если Игнатьичу нужно было посмотреть вбок, он разворачивал весь корпус – вместе с сущностью, чья индивидуальность и харизматичность была столь явной, что поганое слово «брюхо» к ней не подходило совершенно.
Кроме выдающегося живота, больше ничего толстого в Игнатьиче не было. Сухой поджарый зад, опрятная спина без излишеств, мощные лопаты рук с пальцами-гвоздодерами – все в Игнатьиче было подогнано один к одному и содержалось в превосходном рабочем порядке. Живот на этом туловище должен бы выглядеть совершенно чуждым, но отчего-то странно гармонировал со своим носителем. Так же гармонично выглядела бы пара старых друзей – несмотря на то, что один высок и худ, а другой не вышел ростом, да вдобавок толст. Игнатьич относился к животу ровно: без раздражения, без иронии. Но и без пиетета. Иногда клал на живот руки. Иногда похлопывал. Время от времени почесывал. Оказывал ему дружескую услугу, вынимая сор из пупка.
– Может, перенесешь манатки?
Игнатьич разговаривал с воздухом, опершись о живот. Настенька, забыв семена, наблюдала за отцом в окно.
– Как тебя обходить? Я ж переломаю все, дура ты.
Игнатьич овдовел лет сорок назад и больше не женился. Дочь его, очень болезненно пережив смерть матери, стала взрослой, но замуж не вышла и жила в отцовском доме, относясь к Игнатьичу с такой доброжелательной снисходительностью, как если б Игнатьич был ее любимым – хоть и не всегда разумным – племянником. Она была очень похожа на отца, но выглядела если уж не старше его, то ровесницей – точно. Игнатьич, меж тем, называл ее Настенькой.
– От ты ж придумала, – сказал Игнатьич в пустоту.
Миг – и мамина сирота, обежав дом, стояла на садовой тропинке позади бати.
– Батя, ты не того? – сказала Настенька, но, не договорив, увидела отцова собеседника. Даже странно, что такой гигантский паук не был заметен из ближнего окна кухни.
Паутина, размерами и общей конфигурацией похожая на гамак, была привязана с одной стороны к яблоне, а с другой – к старой сливе. Ее плетение было настолько прочным и толстым, что жилище паука казалось сделанным из бельевых веревок, посеревших под снегами и дождями.
– Самка, – сказал Игнатьич, кивнув на гамак. – Самцы – они маленькие.
Огромная коричневая паучиха была занята важным делом: не обращая никакого внимания на зрителей, она деловито, хотя и без спешки, прибиралась в паутине, освобождая ее от высосанных насекомых.
– Ишь ты, – сказал Игнатьич, – какая.
Затем сорвал с яблони листок и аккуратно положил его на нижний край плетения. Хозяйка тут же направилась к новой детали интерьера и, недолго над нею поразмыслив, выкинула прочь. Игнатьич радостно засмеялся.
– Пусть висит, – сказал он. – Хуй с тобой.
И, развернув живот к дочери, добавил:
– И ты не ломай тоже.
Настенька хмыкнула и пошла в дом.
Игнатьич шагнул с тропинки, обошел паутину и двинул к мастерской, куда, собственно, и направлялся за какой-то небольшой надобностью, вроде подходящего обрезка доски, чтоб подсунуть его под бак с дождевой водой – вон как накренился; впрочем, за чем именно шел Игнатьич в дальний угол сада, совершенно неважно.
– Батя, а ты это говно нахрена в дом припер? – крикнула Настенька, уже стоя на заднем крыльце.
– Какое говно? – отозвался Игнатьич через весь сад. – Потом посмотрю, погоди.
Дом Свойкиных расположен в низменной части Южнорусского Овчарова, на одноименной Южнорусско-овчаровской улице. Длинное название никто не произносит полностью: «Овчаровская» – и все. Но когда всех жителей деревни обязали прикрепить к домам однотипные адресные таблички, которыми за небольшую плату взялся торговать сельсовет, полное имя улицы сыграло с жителями Южнорусскоовчаровской улицы нехорошую шутку. Больно было смотреть, как какая-нибудь старуха – в чем только душа держится – тащит зимой здоровенную штуку жести, издали похожую на сноуборд, и как сносит ее в кювет ветром, нашедшим подходящий парус. Мы дважды подвозили таких старух на Овчаровскую, которая находится далеко в стороне от нашего дома, и нам туда никогда не по пути.
И со Свойкиным Николаем Игнатьевичем мы бы вряд ли познакомились, если б не понадобились нам перила на новую террасу: Игнатьич был столяром, выточившим для наших перил деревянные балясины. В деревне, даже такой большой, как наша, знакомства происходят исподволь – слово за слово, и новый приятель уже потчует вас фирменными баклажанами. А можно и пять лет прожить, роднясь с соседями общим забором, и не знать при этом, что старший их сын женат на соседской же дочке, с которой, впрочем, вы тоже виделись не более чем дважды или трижды.
Дочь Игнатьича оказалась знакомой нам кондукторшей рейсового автобуса «Владивосток – Южнорусское Овчарово». Однажды, чтобы не ехать в город самим, мы передавали с нею кое-какие бумаги для нашего юриста. Сам Игнатьич стал после балясин бывать у нас время от времени, потому что посчитал нас умными людьми, с которыми есть о чем поговорить. И это было вполне взаимно.
– И показывает мне кусок лопаты, – говорил Игнатьич. – Мол, я с ума выжил на старости лет. Мол, говорит, ты, батя, еще бы цепь бывшую собачью на стол положил, вон, говорит, она висит на заборе. А я, – говорил Игнатьич, – ни сном ни духом.
Со своей восьминогой приятельницей Игнатьич познакомил нас, когда мы заехали к нему спросить, не согласится ли он изготовить для нас дубовые бочки: мы не были уверены в согласии Игнатьича, ведь столярные и бондарные работы – не совсем одно и то же. Игнатьич между тем сообщил, что бочки он делает прекрасно и что у него есть готовые – мы даже можем посмотреть и выбрать подходящие, если захотим. А не захотим, так он сделает такие, какие нам надо. И повел нас в свою мастерскую в углу сада.
Понятно, что паутина поперек тропинки не могла остаться нами не замеченной.
– Видите? – Игнатьич, шедший впереди, остановился, развернул к нам живот и указал рукой себе за спину. – Подружка моя. Я ей ночных бабочек таскаю.
Паучиха сидела ровно по центру паутины. Под паутиной, на дорожке, в великом множестве валялись крылья бабочек. Сама паутина была чиста и просторна, как выставочный павильон перед открытием.
– Ненавидит, когда что-то лишнее, – сказал Игнатьич. – В точности Настенька моя.
И в доказательство своих слов положил на паутину спичку.
Паучиха, казалось, нахмурилась и поджала жвала. Как только Игнатьич убрал руку, хозяйка гамака устремилась к постороннему предмету, ловко открепила его и сбросила наземь. Прежде чем продолжить путь в мастерскую Игнатьича, мы еще немного постояли у паутины, в которую Игнатьич три или четыре раза подбрасывал мелкой карманной дряни. И каждый раз паучиха кидалась к непрошенному подарку, терпеливо открепляла его и, к восторгу Игнатьича, вышвыривала прочь.
Бочки оказались что надо: не большими, но и не маленькими, все доски впритирку; а больше мы про бочки ничего и не знали. То был первый год, когда мы собрались солить помидоры и огурцы не в банках, «по-городскому», а в дубовых бочках, как это делали все наши овчаровские знакомые. А новые бочки, говорили они, следует загодя замочить в воде, чтоб разбухли как следует и не вбирали в себя рассол.
Настенька Свойкина пришла к нам в конце июля.
– Батя просил вас приехать, – сказала она. – Лежит, встать не может. Вы говорили, врач у вас надежный есть.
Через три недели Игнатьича выписали. Без огромного своего живота, в котором, как мы и подозревали, жила гигантская опухоль, он казался одиноким и неприкаянным. Опухоль была незлокачественной, да и Игнатьич легко перенес операцию, но что-то в нем как будто надломилось. Он стал печален и задумчив.
– Я уже не могу, – сказала нам Настенька. – Он точно с ума сошел. Целыми днями у паутины торчит, а мне ж вставать рано, я и ложусь рано. А только лягу, он, видать, того и ждет. И хлам в дом тащит. Что ни утро, хлам из дома вывожу. Вывозила. Больше не могу. Полюбуйтесь.
И открыла дверь в комнату.
Такого мы еще не видели. Комната была до потолка завалена рухлядью. В переплетении ножек от старых стульев виднелись мятые кастрюли, драные ватные матрасы и какие-то совершенно не опознаваемые предметы. Нам удалось разглядеть ржавый бок допотопного холодильника, расколотую детскую ванночку розовой пластмассы, гриф штанги с двумя разнокалиберными блинами на концах, велосипедную раму и, – мы вышли вон, пораженные и подавленные.
Игнатьич окликнул нас из сада.
Он сидел на стуле, установленном подле паутины, в центре которой замерла паучиха. Все остальное пространство паутины занимали спички. Гора спичек под паутиной говорила о том, что паучиха все же избавляется от ненужных ей вещей, но в данный момент она даже не пыталась двинуться с места.
– Настенька считает, что я сошел с ума, – сказал Игнатьич.
Мы молчали, не зная, что сказать. Расколотая ванночка и ржавая штанга были красноречивей, чем Настенька, мы и Игнатьич, вместе взятые.
– Моя дочь больна, – продолжал наш приятель. – Каждый день тащит в дом помойку, ничего не помнит, а говорит, что это я.
Мы молчали.
– Я не знаю, как быть, – сказал Игнатьич.
Он меланхолично вытащил очередную спичку из коробка и легким щелчком отправил ее в паутину. Спичка прилипла прямо возле паучьего зада, но его владелица лишь слегка подтянула под себя лапки.
– Мне нельзя поднимать тяжелое, – сказал Игнатьич, заглянул в коробок и вздохнул горестно, как наплакавшийся ребенок. – Спички кончились.
Он настолько не походил на себя прежнего, что мы были потрясены. Даже комната впечатлила нас меньше, чем Игнатьич, от которого вместе с животом отрезали, казалось, часть души. Кстати, без живота он начал сутулиться.
Паучиха и Настенька ушли в один день: утром Игнатьич обнаружил захламленную спичками паутину, покинутую хозяйкой. А вечером Настенька привела небольшого мужчину здорово моложе себя. Он был одет в джинсы и джинсовую же рубаху.
– Батя, вот, знакомься, это твой зять.
Зятя звали Сашей.
Настенька взяла с собой совсем немного вещей: чемодан, сумочку и рюкзак. Рюкзак нес зять Саша.
– Ровно по сиськи ей ростом, – рассказывал Игнатьич. – Надо было дуре до полтинника в девках сидеть, чтоб вот так вот.
Мы сказали Игнатьичу, что внешность не главное. О чем-то подумав, Игнатьич с нами согласился. Но веселее не стал.
На день рождения 9 сентября мы подарили ему мобильный телефон с «Тетрисом».
Одиннадцатого сентября Игнатьич позвонил нам в семь утра.
– Она вернулась!!! Вернулась, ласточка моя.
– Настенька?
– Да нет, – сказал Игнатьич. – Паучичка моя.
Мы решили, что с Игнатьичем все гораздо хуже, чем мы думали.
– Откуда вы знаете, что это именно она? – спросили мы.
Игнатьич стоял напротив паутины, где довольно высоко над нашими головами копошился крупный паук. Паутина была прочной, хорошо натянутой, но совсем не походила на тот июньский гамак. К тому же в ней застряло несколько мелких сухих листочков; неубранные крылья мотыльков тоже свидетельствовали о том, что паук – другой.
– Все меняются, – пожал плечами Игнатьич. – Что ж тут сделаешь – жизнь.
После этой сентенции Игнатьич заговорщицки подмигнул и сказал:
– А вы поняли, что она делает?
Тут только мы и пригляделись. Это действительно была паучиха; другая или изменившая взгляды прежняя приятельница Игнатьича, она деловито заматывала в кокон паука меньшего, гораздо меньшего размера. Паук не сопротивлялся. Скорей всего, он уже был мертв.
– Самца угваздыкала, – сказал Игнатьич. – Насовокуплялась и угваздыкала.
Он произнес это таким ласковым голосом, так нежно улыбаясь, что несколько секунд от нас ускользал смысл сказанных им слов.
– Вы не поверите, но он меня бросил, – весело горевала Настенька несколько дней спустя, когда мы случайно пересеклись с ней на почте. – Бросил! Не поверите.
Мы действительно не поверили.
А Игнатьичу – не доверять которому у нас не было абсолютно никаких причин – она сказала:
– Батя. Я вернулась. Но ты, пожалуйста, больше не сори в доме.
– А это и не я, – говорил нам Игнатьич, – клянусь, не я. Говорю ей: мол, пока ты замужем была, ни одной новой срани в доме не появилось, а старую я всю на помойку свез.
– А она? – спрашивали мы Игнатьича.
– А она все о своем. Мол, ты, батя, сам не свой был, все лето у паутины проторчал.
– А вы?
– А я ей говорю: мол, а почему не торчать у паутины, когда в доме такой срач?
– А она?
– А она говорит, что вот именно, мол, куда ей было деваться, когда в доме такой срач.
– А вы?
– А я ей говорю: мол, это не повод за кого ни попадя замуж идти.
– А она?
– А молчит.
«А вы?»
– А знаете, – сказал вдруг Свойкин, – мне иногда не хватает моего живота.
И улыбнулся лучезарно, как ангел.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?