Текст книги "Голос Незримого. Том 2"
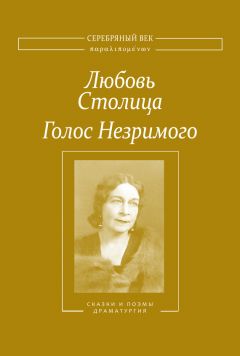
Автор книги: Любовь Столица
Жанр: Поэзия, Поэзия и Драматургия
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 22 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
ГОЛОС НЕЗРИМОГО
беженская эпопея
Если вас будут гнать из одного
города, бегите в другой.
Ев. От Матфея гл. X ст. 23
…и все мы за границей —
одна фантазия…
Достоевский («Идиот»)
В ПЕРВЫЙ РАЗ
В незабвеннейший день, когда ЭТО случилось впервые,
Жизнь особенно горестной Лёль показалась с утра:
Замер пульс у часов, верных, милых – еще из России, —
В дынном ломте чулка нищетой засмуглела дыра.
А потом и пошло… Оказалось, что сахар весь вышел.
Кофе – что содержимого пудрениц… Прямо – пустяк!
А погода!.. Как будто бы губку гигантскую выжал
НЕКТО с шуткою злой на бетонный домов кавардак.
Муж – Аким Владиславович – видимо взрыв малярии —
Вновь лежит и брюзжит. Как всегда, впрочем… Только сильней…
Да, чудеснейший день, когда ЭТО случилось впервые,
Для улыбчивой Лёль встал одним из унылейших дней.
Крупноглаза, хрупка, чистит в кухне она сковородку —
Удручающе-дымный, как солнце в затмение, диск.
Ногтя розовый воск под ежовой ломается щеткой.
Уха бледную раковку режет железистый визг…
После, снявши белье – ком студено-скоробленный, – гладит,
Раздувая дыханием искрой блюющий утюг.
Сколько ж легче, зеркалистей – но за него много платят! —
Электрический! – С ним так не жгла б она маленьких рук.
Эти руки… С такими ль – порезы, ожоги, занозы —
Ей мечтать о несбыточном? – роскоши, воле, любви?..
Крупноглаза, хрупка, в ритме танца вся, вся – как стрекозы,
В чуждый брошена мир, Лёль работает, как муравьи.
Сколько дела ей впрямь! – Это вымыть, тут вытряхнуть, выместь,
Дать лекарство, подшить у Акима порвавшийся плед…
Там – сверкнет, загудит трехрогатый жучище – их примус —
Надо будет варить поскорей для домашних обед…
И, обвившися фартучком, снежным, как ветка в метели,
Мчать по улиц канату на пламенный вымпел кафе, —
Где опять беготня, наглость повара, власть метр-д’отеля,
Звяк посуды в руках, вечный денежный счет в голове…
Сколько ж, сколько ни сделаешь – радость за это какая?
Лишь миражи кино, от которых тяжеле потом,
Спячка мертвая в день выходной свой да гордость глухая,
Что лишь ею, лишь Лёль, на чужбине их держится дом.
Усмехнулась. И до-м!.. Просто – тесный и темный подвальчик —
Вроде бочки, где плыл на чужбину же… кто там?.. Гвидон?
А у них тут есть Витька, тоже рано развившийся мальчик —
Старший пасынок Лёль, что украл у нее медальон.
Есть и младший, Митюша – курчавый и ласковый плакса, —
Бедный!.. Десять уж лет, а учить до сих пор не пришлось.
Всё – у окон… А в них – только пыли труха либо кляксы
Шоколадных шлепков от бегущих калош и колес.
Одеяло солдатское, старая шаль – занавески,
Абажур из бумаг цветных (хлеб в них дают здесь, продав)
Да по сводчатым стенам оливковой сырости фрески
Да печная труба, как изогнутый черный удав…
Вот – весь беженский дом ее! Жалкий уют, ей творимый!
Да, – каморка сестры еще, ставшей швеей по домам…
Есть еще чемодан с орденами, мундиром Акима…
Наконец, есть сокровище всех ненаглядней – он сам.
Вон, как важно возлег! И небрит, а в лице что-то бабье.
Тучный, злой и щетинистый… Подлинный морж в полутьме!
Изрекает о том, как не спит он да как его слабит…
Да что ветер у Лёль в голове и тряпье на уме.
Милый ветер!.. Сиреневый, вешний… При чем ты здесь, ветер?!
Просто ей двадцать шесть, а ему уже все пятьдесят,
И сердит до сих пор за единственный шелковый светер
И за то, что всегда вслед ей долго мужчины глядят.
Что нашла она в нем – в этом дряблом, уж дряхлом Акиме,
Смехотворном теперь величавостью Спеси с лубков?!
Как могла заменить им победой звучащее имя,
Рук боровшихся медь, ворожившего голоса зов?..
Был он, правда, иным. Государственный муж – о, чиновный!
Как умел он в речах тучу бед как рукой развести!
Как в Россию он веровал! Как высоко и любовно
Отзывался об Армии Белой… Но то – позади.
И ленивого, лишнего, чуждого ей человека
Лёль выносит, содержит, себя надломив, умаля,
Потому лишь, что в дни, когда мирно лазурилась Вега,
Багрецом революции грозно горела Земля!
О, те дни неизбывные… Те недреманные ночи…
Уплывали в Ничто из родных пристаней корабли, —
Их, поистине, вел лишь незримый Премудрейший Кормчий,
Ибо люди себя как помешанных толпы вели…
Кто бы их осудил?.. Каждый столько уж видел и вынес! —
Гибель крова, надежд… Бреды голода, тифа, Че-ка…
Язвы личных утрат и российских злосчастий пучинность…
Илиаду Корнилова, солнечный миф Колчака…
И теперь от врага, что связал с Темной Силой успех свой,
Через горы на загнанных конях, в мажарах, пешком,
Это, как бы по Библии, ужасов полное бегство
К молу, к морю, где встал символ доли их – мачты крестом!
Да, ниспал – вострубил чернокрылый карающий Ангел —
Смеркло, рухнуло всё… Лишь – свинцово-соленая муть…
И с пророчеством горьким, каким их напутствовал Врангель,
С грузом общей вины эти люди шли в странничий путь.
Жили в куче, средь скарбов их, выстрелов диких, истерик…
Брал Евангелье воин, сенатор… бобов вожделел…
В мыслях цвел еще милый, с дворцом Императорским, берег,
А в глазах уже чуждый, с султанским Киоском, голел.
Алых каиков рой к Золотому уманивал Рогу,
Город Порты Блистательной влек Шахразадой своей, —
И княжна в сапогах на босую прелестную ногу,
И казак с прокровавленной марлей вкруг буйных кудрей,
Доброволец с осанкой скромнейшею и… без рубахи
Под истрепанным френчем со снежным кристаллом креста,
И калмык в треухе, и красавец кавказский в папахе,
И старуха, вся черная, в крепе – смотрели туда.
Там – мечети Стамбульские высились лилейным стеблем,
Лавки Перы – куском грязноватой сладчайшей халвы,
Бурно пенилась жизнь, как султан над союзным констэблем,
Был дурманящ табак и гевреки – смугло-розовы.
Там – парили плащи, круто лоснились гетры, каскеты —
Шли французы с британцами, греки… Союзники всё!
Там – была их российская, их эмигрантская Лета…
Но держали их одаль, глядя свысока и косо.
Здесь же ад был – в кромешных, кишащих несчастными, трюмах:
Мутно бредил больной, исступленно кричало дитя…
И о жертвах напраснейших, гибелях славно-угрюмых
Здесь наслушалась Лёль, на полу загрязненном сидя.
О, как длится их путь, тошнотворно-колеблющ, бесцелен!
В сундучке – ни пиастра. Опоры, защиты – ни в ком.
Уж два года назад, как заложник, отец их расстрелян,
Мать в скитаньях угасла… Они во всем свете вдвоем!
И в отчаянье жалась к сестре задремавшей… И, глянув
На каштановый локон, снимала перловую вошь…
Вдруг – Аким Владиславич. Поток утешений и планов…
Как не свяжешь тут рук себе? Руку его оттолкнешь?!.
Было нечто еще… Страшный слух, что в боях Перекопа
Пал Никита Орлов, некий ротмистр… Должно быть, что – тот…
Тот, чей голос ее на ржаные и снежные тропы,
А друзей молодых звал на подвиг – в атаки, в окопы…
Ледяного участник – ушел теперь в Звездный поход!..
И была еще странная радость – истаивать плачем
Под воскрыльями чаек, уйдя на светающий ют,
Чуя чуть, как муллы, разлетясь по воздушно-висячим
Восковым минаретам, о Боге Предвечном поют…
– Ника, Ника!.. Орленок мой… Мой богатырь крестоносный!
Вот ты умер… умолк… Кто ж поможет России и мне? —
Вдруг – язвящий попрек: – Замечтались? а служба? – Да, поздно.
И, как листик, летит Лёль по уличной темной волне.
Непригожа зима здесь, на юге прославленном!.. Мозгло…
Моросит – и снежит, – тотчас тает – и вновь моросит…
Ветр унывно-тягуч, как и здешних священников возглас,
Непрогляден туман да и въедлив, как беженский быт.
И – в домах. Окна дующи и леденящи подъезды,
От железных печей – сажи траур на всем… А у нас! —
Вся земля под парчой, с неба – сахарно-льдистые звезды,
Жар клубничный в голландках и ватная в окнах волна.
Светлокудрых метелиц цыганское – в нос чуть – контральто,
Поскок бешеный троек… Зигзаги изящные лыж…
Соболя, сапожки… И… вдруг эта вот слякоть асфальта,
Где в одних башмачках, уж промоченных, жалко скользишь…
Как уютно-ярки несессеры такси в непогоду!
Вот поехать бы! но… разве лишнее есть на проезд?
Что занятней витрины – журнала хрустального моды!
Постоять? Поглядеть? Д-а… но времени только в обрез.
И вращается дверь, роковая ее мышеловка,
И влечет неотвратно в модерно-опошленный зал,
Мандариновость стен с резкой кубовой татуировкой,
Арматуры кубы и угольники стульев, зеркал.
Ждут на полках полки разноформно-и-цветных бутылок,
И стреляют костяшки играющих с жаром в табло,
И встает монументом хозяина жирный затылок
Там – за стойкою лосной… Накурено, душно-тепло…
Тут же ходят наигранной, барски-небрежной походкой
По несчастью подруги, по возрасту и ремеслу.
Да, всё – русские. Взор так грустящ под лазурной обводкой…
И малы, как у Золушки, туфель ладьи на полу.
С ледяною учтивостью внемлют заказам клиентов
И, вернувшись с бутонами рюмок и лунами блюд,
С ледяною улыбкою слушают вздор комплиментов
И тотчас удаляются… Снова несут… подают…
Их зовут фамильярнейше: «Галочка!» «Ирочка!» «Люля!» —
Их, которым с младенчества целый прислуживал штат!
Обижают вниманьем двусмысленным… Но в вестибюле
Их с готовностью рыцарской муж ждет, жених или брат.
Только Лёль всё одна. О, достойный Аким – лежебока!
Да и близко… И храбрости много в ней, маленькой Лёль.
Лишь сегодня она сознает себя столь одинокой —
Как москит, жалит грудь и висок ей какая-то боль…
Но сегодня как раз – понедельник, и мало народу:
Пять иль шесть коммерсантов да странный заезжий турист.
Вот богат легендарно! – Шампанское тянет, как воду. —
Гольф-костюм и очки. Носа клюв и английского свист.
Лёль, процент исчисляя свой, служит ему, окрылившись.
Жаль, что гостю так скучно здесь: смотрит угрюмей ворон!
О?! Гамбринусу памятник сдвинулся?! – Шеф, похвалившись
Новой русской пластинкой, велел завести граммофон.
Тут оно и случилося, то невозможное чудо…
Только черный ларец, отворяясь, как склеп, заскрипел,
И магический диск, завращался быстрейше, – оттуда
Голос милого, мертвого милого звонко запел!
Мигом Лёль замерла меж столами, как струнка, напрягшись:
Этот голос узнала бы из миллионов она!
И слова… и мотив… что столь памятны. Бог мой! Но как же?..
С того света?.. И вот, во мгновенье одно, как средь сна,
Пережилось ей нечто, что было далече отсюда…
Свет двух зорь – зорь на севере – вспыхнул со стен кабака,
Соловьи раззвенелись в фаянсовых гнездах посуды,
Снежно свесились к столикам яблони и облака…
И пахнуло прелестной, едва вероятною жизнью:
Пенным бальным туманом, фиалковой тьмой цветников…
Заструилося вальсом и речкой, что всех живописней,
Нитью гасших ракет и мерцавших века жемчугов…
То – ее день рожденья! Ее – девятнадцатилетья!
И светло-резедовейше-розовый вечер весны…
Год шестнадцатый века, уж вьющийся темною сетью
Над двуглавым орлом всероссийским… Уж третий – войны.
И рука, та, из меди, что насмерть с врагами боролась,
Обвила – о, как бережно! – стан ее, пляшущ и бел,
А в витающих косах звучал вслед за музыкой голос,
Тот же самый, каким здесь, в Балканах, Незримый запел…
Странный голос… Глубокий, слегка горловой, как валторна,
Полный мужества светлого и грозовой красоты.
Если б пели орлы – так звучало б над пропастью горной…
Если б шел Страшный Суд – так бы ангел трубил с высоты!
А когда он был нежным, томил этот голос, как голубь,
А когда был влюбленным, он трогал, как тающий снег…
Ах, когда бы не голос тот, сердце ее не кололо б
Чувство самое страшное – страсть к одному и навек!
Как оно началось?.. Слабым стоном… И с первого взгляда,
Что склонился к носилкам, где стиснул уста полутруп…
И росло… Столько лет! – Чтоб сегодня с безумной усладой
Слушать призрак, не видя трепещущих, дышащих губ…
Там – в усадьбе приокской их, холмной и смольноеловой,
Тишиной и тоской монастырскими цвел лазарет.
Здесь путь Лёль и скрестился с крестовым и крестным Орлова,
Одного из тех… раненых. Графа Орлова? О, нет!
Или графа? Быть может… Так профиль его был породист,
Сдвиг бровей так велителен, нежность усмешки тонка!
Так прекрасно хворал он, шутя, о себе не заботясь…
Да, хворал и лежал, пока Русь не звала… Лишь – пока.
И певал ли, кладя костыли и склоняясь к гитаре,
Он удалейший марш, говорил ли с свеченьем в очах
О величье солдат простых и простоте государя, —
Ворожил его голос! Влек ввысь, как воскрылия взмах…
И теперь вот: – «Дитя, не тянися весною за розой…»
Как ей нравилось это! Хоть розы ей нравились тож.
Что? – «весною срывают фиалки…» – О, нет!.. туберозы,
Цвет надгробий… И – да, если ты, о любимый, живешь!
А сейчас ты поешь: – «Твои губы, как сок земляники…» —
Их ты помнишь?.. – «Твои поцелуи, что липовый мед…» —
О, ты мало вкусил их, борец неустанный мой, Ника…
Пусть! Ты вкусишь. – Тебя, Лёль весь свет обойдет, – а найдет…
И, забывшись от счастия, вея, сияя, рося им,
Кружит в вальсе она, как тогда, средь родимых лугов…
Столбенели товарки, довольнейше хрюкал хозяин,
Приковался – сверкал взгляд чудовищно-крупных очков.
Голос смолк. Лёль опомнилась. Лик исказился гримаской:
Танцевать? Здесь, в кафе? Как одной из тех… платных? О, стыд!
Вон – уж кельнерши шепчутся… И – не скандала ль завязка? —
Иностранец встает, к шефу близится, с ним говорит…
Жест рукой в ее сторону. Дерг головою вороньей…
И хозяина взгляд исподлобья… кивок… шепоток…
О, в ее обстоятельствах можно ли быть несмышленей! —
В лучшем случае выгонят. В худшем… ах, мир так жесток!
Бьется сердце, как бабочка… Возятся руки с подносом,
Собирая сифоны, фужеры с пустого стола…
Что такое?.. Они – ресторана глава с долгоносым —
Направляются к ней! Не кричат, чтоб сама подошла:
Лёль знакомится… С кем? Не расслышала. Что-то… от птицы…
Что-то вроде… Фьюкас. И совсем он – ворона вблизи:
Как бы нос – всё лицо. Так в графине оно отразится.
Голос резок, картав. И теперь уж – французский язык.
Что он хочет от Лёль? Что болтает с хозяином вместе?
И, начав понимать, Лёль едва доверяет ушам:
– О, madame так танцует… Madame здесь совсем не на месте.
Ей в Париж бы и Лондон. Большая артистка – madame.
Где училась?.. В Moscou? Chez danseuse Mossoloff?..[1]1
У танцовщицы Мосоловой?.. (фр.)
[Закрыть] Превосходно!
Что? отстала?.. Вот вздор!.. Хочет быть grande vedette[2]2
большой знаменитостью (фр.).
[Закрыть]?..
Magnifque![3]3
Великолепно! (фр.)
[Закрыть]
Он желал бы с madame побеседовать. Здесь неугодно?
Ну, тогда в Grand Hôtel… – долбит голову карканье – крик.
И чудеснейший день колдовским завершился туманом…
Смутно помнится ей, как в шикарном Hôtel'я антрэ
Застыдилась манто, что казалось тут нищенски-рваным…
Как потом удивилась забытым уж дичи, икре, —
И средь яств и роскошеств себя ощущала моллюском.
Так безвестна, бедна! Что в ней новый знакомец нашел?
Странный тип, говорящий теперь уж на ломаном русском…
Левантинец? Румын?.. Нет, вернее всего – эспаньол.
И держалась сперва суховато, пугливо-сторожко.
Бог весть, кто!.. Аферист… большевик… или просто – нахал…
Но бодрил его карк: – «Cordon-vert?.. О, madame, хоть немножко!»
А затем – лишь о деле, о деле он с ней толковал.
Вот в чем было оно: Лёль – есть нюх в нем, – талант
первоклассный.
Что ж – sapristi![4]4
черт возьми! (фр.)
[Закрыть] ей тут, на задворках Европы, хиреть?
Пусть Финкасу доверится… Едет, танцует и – ясно! —
Жнет фунты себе, доллары, франки… Ему ж – только треть.
Ну, конечно, сначала придется-таки ей работать —
Тренировкой заняться, найти-таки жанр свой и стиль…
Нечто – шик! épatant[5]5
ошеломляющее (фр.).
[Закрыть]!.. Постановка ж его уж забота,
Как и грохот реклам. Тут собачку он скушал… Va-t-il?[6]6
Идет? (фр.)
[Закрыть]
Ай-ай-ай, как медлительны русские! нужно подумать?
У madame есть семья? Для нее жить?.. Madame не права.
Кстати, он хоть сейчас может дать, как гарантию, сумму
Тысяч на… – И у Лёль сразу кругом пошла голова.
Баснословная цифра! Возможным становится столько…
Заплатить долг по лавочкам… Митю устроить в колледж…
И сестру не пускать по дороге портнишки, столь скользкой…
Не лишать и себя всех утех быстро мчащихся лет! —
Жаркоцветных пижам накупить, тонных джемперов, шарфов
И чулок эфемернейших… Сразу две пары! Иль пять?..
Снять обличье злосчастной, уныло трудящейся Марфы, —
Вновь блаженно-беспечной, родной ей Мариею стать!
А еще – помогать нашим русским, налево, направо —
Скрасить жизнь им, таким горемычным… Вот только… Аким?!
Водворить в пансион! И пускай там лежит величаво
Вместе с столь же помпезным, никчемным мундиром своим.
И… вот довод еще, самый главный, как золото, веский:
В центр попав мировой, легче Нику найти… И потом,
Звезды сцен, как и сфер, всё вкруг света кружат, а в поездке
Столько шансов есть встретиться иль хоть разведать о нем!
Что за счастье ждет Лёль! – В ореоле оваций сребристом
Вдруг предстанет она изумившимся милым глазам —
Будет с ним, с ним, живым, с ним, героем и тоже артистом.
Не позвал ли ее из неведомой дали он сам?..
За здоровье ж Финкаса! За эту ворону, sapristi!
Как вещунья та в сказке, ей друга найдет он, Финкас!..
Так в глубокой ночи и в мечтах, их бокалов искристей,
Лёль, смеясь, взяла чек и контракт подписала, смеясь.
ВО ВТОРОЙ РАЗ
Всё ж промчалось пять лет, целых пять! и из этого века,
Под чьей скоростью гоночной Прежнее стерлось, смололось,
И чье Новое зыблется силой фатальною некой, —
Прежде чем ей услышан был снова любимейший голос…
Гениальные люди со смертью отважно боролись,
Старым юность вернув, молодым горизонты раздвинув.
Мотыльки среброкрылые аэро мчались на полюс,
Под луну заплывал серобрюхий дельфин цеппелинов…
И счастливило радио многие гибшие души,
Ибо голос его, словно глас голубой херувимов,
В злую глубь океанную, в дальности жуткие суши
Благовестьем летел, жадно жаждущим слухом ловимый…
В дебрях айсбергов, тропиков, в ночи уныний, бессилий
Пионер иль ученый вдруг слышали богослуженье,
И к судам обреченным, что утлые лодки спустили
В водный хаос бушующий, вдруг приходило спасенье…
И дворцы до небес уж могли воздвигать из железа,
Воскрешать под внушением, шприцем ли – полуумерших…
Пол и профиль менять, идеальные делать протезы —
Гений цвел в те года, иллюзорнейше-самоотвержен!
Просто ж люди неистово бились друг с другом и с жизнью
Из-за хлеба насущного и миллиардов излишних, —
И изгнанники русские, пряча мечту об отчизне,
Словно птицы небесные, жили лишь милостью Вышней…
Хитроумно сбывали их и никуда не пускали,
Одарив иронически Нансена волчьим билетом,
Но они улетали во все заповедные дали…
Улетали, как птицы! Лишь чаще: и в зимы, и летом.
В емком чреве китов-пароходов, зарывшихся в пену,
На драконьем хвосте поездов, пропадавших в тоннеле,
Уносились они на Миссури, на Конго, на Сену,
В Прагу, Айрес, Гонконг… Вили гнезда, как птицы, и пели!
Углублялись в пампасы и шахты, в науку и джунгли,
Дорожили работой и сном, как блаженством великим,
Прежний мичман иль паж становился ковбоем и юнгой,
Лейб-казак – водолазом, торговцем, царьком среди диких…
Знаменитый юрист в гулах порта работал, как грузчик,
Вдохновенный поэт жил в безлюдной глуши рыболовством,
И шофер титулованный мчался с сиреной орущей,
И сиятельный фермер брел с кормом коровам и овцам…
А нежнейшие женщины, что до сих пор лишь играли,
Научились стряпне, птицеводству, кутюрам докучным —
И чудесно-текучий, как миф, туалет надевали,
Только став манекеном, эффектнейшим и злополучным…
Те года и для Лёль шли кометами – блещуще-жутки…
Вспоминать было некогда. Прошлое гасло… Что ж делать? —
Лишь российская ширь голубые растит незабудки!
Но Россия сама позабылась… Куда-то там делась…
О, сначала, пока европейские вялые розы,
Златоцвет безуханный Америк не всю обольщали,
Принялась энергично она за волнующий розыск,
Ждущим взором следя даже в церкви, в кафе, на вокзале…
Расточала призывы и деньги в газетной конторе,
Докучала различным союзам, бюро, комитетам,
Повидала юдоль общежитий и скорбь санаторий —
Немота, отрицанье, незнанье ей были ответом.
И справлялась – конечно же! – в письмах и личном свиданье
У дельцов всяких фирм граммофонных, громадных и меньших,
В ход пуская столь модное «русских княгинь» чарованье,
Как и шарм деловой независимых нынешних женщин.
Нет, Орлова не знали там. Нет, не у них он. И не был.
Кто ж напел их пластинки с мелодией русской и речью?
Добивалась упорно, знакомилась с певшим… О, небо!
Лишней рока насмешкою были те глупые встречи…
То – грузинский князек, словно кобчик поджарый, зловещий,
То – былой семинар с рыком вроде громового эхо,
Либо тонко цыганящий старый галантный помещик…
Был еще некто Дэгль. Но недолго работал. Уехал.
Дэгль… Фамилья совсем иностранная… Знал же по-русски.
Или то – псевдоним артистический?.. Вот и у ней есть!
Дэгль?! но это же… Господи!.. Aigle же – «орел» по-французски!
Как она не додумалась… След утеряла, рассеясь…
Той догадкой (пять лет спустя) вспыхнуло дивное утро,
Нет, вернее, уж день в ее маленькой собственной вилле,
День, столь памятный тож… Ах, в головке запутаннокудрой
Не от сладкого ль сна вновь надежды гнездо свое свили?
Да и жизнь улыбалась. Все трудности в минувших годах…
Две недели ж назад – золотые триумфы Нью-Иорка,
Через две – тож в Мадриде. Сейчас же заслуженный отдых
В этой роскоши, нежащей после бывальщины горькой.
Как красиво вкруг! – Мебели сливочно-стылые сгибы,
Ток лимонный драпри, что струится, пронизанный солнцем,
Бубикопфы седых хризантем под хрустальною глыбой
И паркетная рябь с снежно-легшим в ней северным сконсом…
А в аркаде окна – синь округлая в облачных крапах,
Как рисованный зонт… И деревья осеннего сада
В старомодно-больших, светло-рыжих соломенных шляпах,
И пурпуровый плющ, скрывший бледные плечи ограды…
Там – душистейший воздух! А здесь вот – воздушнейший запах
Дорогого белья и косметики, столько же ценной,
И сиамская кошечка – беж, на коричневых лапах —
Всё комфортно-остро, но и просто – всё так современно!
И подумать, что всё это ею самою добыто —
Ей, вот этой статуйкой танагрскою в нише постельной.
Ею, ветреной… слабою… Ах, если б был тут Никита!
Что она без него? Не танагра – сосуд лишь скудельный!
Вот сейчас ждет ее массажистка, потом – парикмахер,
Там – должно быть, модистка… за ней репортер… как обычно.
Ждет и публика… ждет, чтоб всегда в выступленьях был шлагер!..
Можно ль быть столь удачливой и… несчастливою лично?..
Да, сегодня прикатит в солидном своем Мерседесе
Драгоценнейший мистер, ее покровитель, приятель,
Деревянисто-чопорный, в вечер цедящий слов десять…
Тоже ждет от нее – ох, согласья на брак и объятий!
Лёль вдруг зябко подернулась под теплотой покрывала…
Бррр… Решаться иль нет?.. Да, конечно, Аким – не помеха.
С ним она развелась. Всем другим до нее дела мало.
Митя – в студии лучшего maître'a и полон успеха,
Да и чист, как дитя, словно б жил от всего под стеклом он!
Витька ж, правду сказать, – хулиган и бандит совершенный! —
Политехникум бросил… Сидят, мол, без су и с дипломом.
Впрочем, – Лёль снисходительна – он ведь такой современный! —
Манят бары, кино и игорные залы, и дансинг —
И, чтоб денег достать, не всегда… щепетилен он, скажем.
Из снобизма сойдясь с образинкой одной негритянской,
Как тянул с самой Лёль! Как почти угрожал ей шантажем!
А-а, пустяк! – Сестрин муж (слава Богу, она вышла замуж!),
Человек деловой, молодца обезвредил отлично.
Вот – сестра… И она современна! Не верится прямо ж:
Так прелестно-юна и… убийственно-скучно-практична!
Средства есть, а сама и готовит, и шьет. Да, всё копит.
В свое время и Лёль помогла она делать карьеру —
Грим, турнэ ль, интервью ль, – больший смысл проявляя и опыт.
Но зато и развеяла все ее чаянья… веру…
Из-за сестриных слов же, точнейших, как счетная книга,
Доказавших, что чуда не может быть – ухо ей лгало, —
Что от слез только старятся, а от мужчин ждут лишь выгод, —
Лёль презрела всё бывшее… Стала такой, какой стала!
Ну-ка?.. Спрыгнув, влилась в вертикальные зеркала воды:
Д-а… Иная. Красивей… но… что-то теперь в ней… дурное!
Цветом странно-гранатовы, вычурны, как корнеплоды,
Вьются волосы, стрижены и перекрашены хною…
Нарочито-искусственен брови прощипанной очерк,
Искусительно выломан губ, слишком алых, рисунок…
А глаза! – В них, пустых, все танго ее, все ее ночи!
Роковой ее путь… Вот лишь тело совсем как у юных,
Да и сердце как будто бы… Стук его смутный и тихий,
Как надтреснутой чашечки… Но оживает он в танце! —
Ведь тогда в этом сердце – паренье… стремление к Нике,
Что б ни думали наглые, в первых рядах, иностранцы.
Как смешно! – Эти куклы из черного с белым картона
За их нервы, как ниточки, дергались той… Жозефиной —
Чертовщинкою негрской, хохочущей спазмой чарльстона…
Ныне ж как обвела взгляд их, хищно-ослепший, совиный,
Содроганьем танго своих, полных смертельнейшей боли,
Вот она, «Лёль Никитина» – малая русская нежить…
Тож во мненье их – варварка! И – врангелистка… тем боле!
За подарок – как знать? – зацелует она иль зарежет?
А пред выходом крестится… Словом – âme slave[7]7
славянская душа (фр.).
[Закрыть] в полной мере!
Потому и – успех. В красной маске – в цепях – в горностаях —
Рваной нищей танго и танго рай утратившей пэри —
Ей, как скажет Финкас, таки дали кроху со стола их!..
А-а, вот, кстати, и он, импресарио Лёль неизменный!
Ну, пускай подождет и готовит со скуки коктейли.
После всех махинаций лишь с паром, и кремом, и пеной,
Средь приборов и рук чужих, – в льнущем велуре на теле
Лёль выходит в салон и болтает с ним – «вещей вороной».
– Н-у, глазок-таки спал!.. (Лёль он в l’oeil[8]8
глаз (фр.).
[Закрыть] переделал забавно.)
– Как глазок себе выглядит?.. Чудно! Лишь чуть утомленно. —
Женский взор стал тревожнейшим… Или стареет уж явно?
– Пхе! Горит чересчур… Ну, а как уважаемый мистер?..
Что б Финкас посоветовал?.. Взять предложенье, конечно!
Он – богач-таки, мистер!.. Ой-ой, кто ж сказал, – из корысти?
Разве ж – крошку! – Carramba! в наш век мода, слава – не вечны. —
Женский рот стал печальнейшим… Встала. – Финкас, мне
к кутюрше…
Но, оставшись одна, оглядела, там морщась, тут свистнув,
Заполнявшие комнату снимки, портреты, скульптуры,
Жутким множеством Лёль отразившие в танце и в жизни…
Ф-ью! – Обычнейший тип. Меж ее соплеменниц их много:
Мелкость черт, ширь очей, детскость бедер и плеч, слишком
узких…
При уходе – утонченность та же и… та же дорога.
Их ведь тысячи, этаких маленьких загнанных «русских»!..
И, легонько вздохнув, средь больших, как Рольс-Ройса колеса,
На диване круглящихся праздно подушек упала —
И, нигде не бывав, никого не приняв, с папиросой
Провалялась до сумерек, мысля о мистере мало…
Как-нибудь с ним устроится! Важно отныне другое…
Этот Дэгль… иль Орлов?.. Если б истину мысль та таила!
И сыскался б он… О!.. Жизнь бы стала совсем золотою! —
Деньги, слава, возлюбленный… В сущности, Лёль не любила.
Так… из грустной нужды… А ведь ей уже – Бог мой! —
за тридцать…
Но… возможно, что он изменил? и с другой теперь связан?
Нет, ах, нет! То в любви – истый русский… Монашек и рыцарь!
Да и крепок обет, что, как их, был в час гибели сказан.
Сед был зимний Ростов… Веял хладом, тревогой, карболкой…
Тьмы шинелей и лиц были сумрачно-мертвенно-серы…
В конвульсивном объятье так ранил погон его колкий!
Так давила ей грудь, их деля, кобура револьвера!
В далях ухало… Тут – заливались прощальные трубы
Маршем «черных гусар»… Что властнее таких расставаний?..
И опять целовать те скупые и темные губы…
Каждый день… День и ночь… В этой вилле… на этом диване…
Ах!.. Но стукнули в дверь, мягко звякнул крутящийся ролик —
И сюда, где плелись маки бликов каминных и тени,
С пэром схожий лакей прикатил сервированный столик
С горкой радужной фрукт, в листопаде хрустящем печений,
В стойких искорках никеля, в хрупких скорлупках фарфора…
Миг еще – и зацвел лотос ало-огромный на лампе.
Лёль очнулася… Чай?.. Значит, мистер приедет уж скоро!
И торопко, как все, кто привык уж к кулисам и рампе,
Побежала в уборную – брызнула краном, флаконом,
Заиграла карминным и угольным карандашами,
Там – пропала на миг в крепе, сверху до пят проструенном…
Там – развихрила локоны… И в бесподобной пижаме, —
И сквозящей, и скрытнейшей, словно богатство Голконды,
И блестящей, и призрачной, словно сам клад Алладинов,
Возвратилась в салон и с улыбкой почти Джиоконды
Стала ждать… День и чай равно тускло темнели, остынув…
Мистер что-то запаздывал. Скука! До жути безмолвно…
И до злости нелепо! – Сиди, разрядясь, усмехаясь…
И включила Лёль радио – ловить капризные волны…
Незадача и тут! – Шум… отрывки какие-то… хаос!..
Вдруг – шаги деревянные. Он! Он же весь – как ходули.
Худ – длиннющ… И вот так свысока: – Как попрыгалось, Лесли? —
Лёль – увлек аппарат ее? – медлит… Глаза лишь сверкнули:
О, да мистер как дома тут! – Вот развалился уж в кресле.
Лесли! Лёй! – у нее этих кличек кошачьих уж столько!
Из-за них позабудешь свое настоящее имя…
В самом деле: Елена – она? Лизавета?.. Ах, Ольга!..
Вот что значит порвать с берегами своими родными.
В память русской святой крещена, а ведь как ликовала,
Что сестра – за французом… Сама же идет за британца.
И ка-ко-го! Сугубого… Прелестей Лёль ему мало:
«Лэди» нужно ей стать. Бросить русские «странности»… танцы…
Закурил, не спросясь! Разве так поступают при лэди?..
Мистер выждал достойнейше. – Милая Лесли не в духе?
Объяснимо, all right[9]9
хорошо (англ.).
[Закрыть]: дети края, где бродят медведи,
Где морозится нос и съедают бебе с голодухи,
Гольфа, тенниса нет, – и high-life[10]10
высшее общество (англ.).
[Закрыть] развлекается с vodka, —
Все немножко нервны. – О, болван! Миг – и фыркнула б «Лесли»,
Лед сломался б… Она обратилась в миссис в срок короткий —
Сода-виски, плум-пуддинги делать навыкла бы, если…
Если б только не радио – ящик Пандоры-причуды!
В диффузоре его, где с волною волна всё боролась,
Бормотало… июхало… и… вдруг принесся оттуда
Лоэнгриновым лебедем милый велительный голос!
– Слушай, слушай, Москва! Говорит с тобой Харбин далекий.
Пусть ты – в рабстве, Москва. У тебя есть сыны, что свободны!
Так узнай же от них: испытаний кончаются сроки.
Близок час тот, когда, если Господу будет угодно,
Мы придем, принесем всем, всем, всем – слышишь? всем! —
избавленье.
Вольность, радость и честь. Не у нас ли Донской был и Минин?!
Их ты помнишь, Москва?.. Пусть ломал, растлевал тебя Ленин!
Что он сам ныне? Тлен. И другие так сгинут и минут…
Золотая Москва и за нею Россия вся, слушай! —
Верьте нам! верьте в нас! верьте в мощь свою!.. веруйте в Бога!
И не бойтесь вы тех, что берут вашу жизнь, но не душу…
Пряньте ей! Мы – сильней. Нас теперь и средь вас уже много.
Слушай, слушай и ты, новый Гришка Отрепьев, ты, Сталин! —
Ты, срамящий наш Кремль, свергший Иверской купол лазурный,
Храмы Чудов и Симонов сделавший грудой развалин,
Дни злодейств скоро кончишь ты… Кончишь, товарищ! и дурно.
Говорит то один из борцов за отчизну и веру,
Всех же их – миллион! И все рвутся в пределы родные…
Кто?.. Да некий Орлов из маньчжурских рядов мушкетеров,
Из полка Их Величеств – Христа и Великой России!
До свиданья ж, Москва! – Скорбь, святыня и солнышко наше!
С моря ль, с неба ль, из ржи ль, – но мы явимся. Жди же и жалуй!
О, далекая… Знай: ты для нас и возлюбленных краше…
Харбин кончил, Москва. – Тррр… тррр… и-юх… И тишь вдруг
настала.
Европейская комната в люстрах, гравюрах исчезла…
Азиатской пустынностью дунуло… вихрем каляным…
Не курильниц ли дым скрыл с надменнейшим идолом кресло?
Взмыли пули и коршуны… Взъершилась даль гаоляном…
Там ширял теперь он, тот, чей голос мчал белою птицей
К ней чрез тысячи верст!.. Тот, кто всё еще помнил, боролся
За Россию… А Лёль?.. Что ж теперь? Ликовать ей? казниться?
Ясно только: не жить, как жила, средь слепого довольства!
Ломко пальцами хрустнула, в плаче бесслезном забилась
От восторга и горечи, гордости и униженья…
И – алло, мисс Никитина! Что же такое случилось? —
Удлинился еще облик мистера от удивленья.
То – в обычье славянок… О, yes. Dostoevsky… Он знает…
Но желал бы доверия более и хладнокровья.
И – наивная! – Лёль в всхлипах, сбивчиво, всё объясняет:
– В дни войны… офицер… счастья рай, приоткрытый любовью…
Годы страхов и мук… Миги встреч и разлук в жертву долга…
И потом… он погиб. А теперь вот воскрес из могилы!
В небе?.. Нет, на земле. Где?.. Далеко… за Волгой…
Что? В Манчжурии?.. Да. О, такой он герой – ее милый! —
Он воюет и там. Вызов шлет главарям большевицким!
Как?.. По радио… Ах, он поможет России! Он может!
И счастливый уж плач брызнул жемчугом влажным бурмитским…
Но смешался с ним смех… Смех, каким засмеялась бы лошадь!
Содрогнулася Лёль, – до того был он жутко-нежданен,
Неестественно-ржущ!.. То, оскалив дюймовые зубы,
Вскинув кегельный лоб, хохотал, хохотал англичанин,
Слов язвительных шип испуская сквозь гогот тот грубый.
– Он грозит? Он спасет?.. Лесли милой не чужд, видно, юмор!
За границу удрал – и храбрится, как выпивший шерри!
Го!.. То – shocking! позор!.. Пусть воскрес, – для Антанты он умер.
Трус, как все они! Да… Вот кто – русский ее офицерик!..
Большевизм же… То – мощь! Это – кнут, над рабами законный.
Russ swiataya… Го-го… Что она для Европы давала?!
Беспокойство. Икру. И курьезы: короны, иконы…
Girls театрика Diaghilew… – Больше уж Лёль не слыхала.
Задохнулась… Мелькнул фильм живой первых дней зарубежья…
Груз людской на судах, цепенеющих в Стиксе Босфора…
Дождь, нужда и… раздор от безденежья и безнадежья…
Флаг: нет пресной воды!.. Флаг: больные!.. Вдруг – постук мотора.
Лодка – блеска рекорд! – тут, за бортом, отверженным, грязным,
И друзья в ней английские… Банки, коробки, пакеты…
Их бросают сюда, – лишь поймай!.. И пред этим соблазном
Те “boyare”, князья – о, те русские! – скифски одеты
И небриты дня два, как Панургово ринулись стадо,
И толкались – ха-ха! – и дрались, как мартышки в зверинце
За галеты, уж черствые, или кусок шоколада!..
Да, «друзья» хорошо за свои развлеклися гостинцы.
И картина еще: это было уже через месяц, —
Месяц странствий слепых и мытарств на чужих пароходах…
Изнурясь чечевичною жидко-оливковой месью,
Плыли русские призраки в зелено-мраморных водах…
И, лишеньями сломлены, гибче, бледней их перчаток,
Сыпля в сумрак аттический чуждый рокочущий говор,
Флирт с французской командою несколько аристократок
Повели… И счастливее всех кавалеров стал повар!
Лёль запомнилась в камбузе дама, прелестней Мадонны,
Чьи миндальные пальчики стиснули, зубки же грызли
Бычью кость колоссальную!.. Кок же взирал благосклонно…
Ах, обид той поры от недавних друзей не исчислить!
Раньше ж – быль вопиющая… Ею она лишь слыхалась,
Но вставала так явственно! – Словно бы зрима воочью:
Как весы оловянные, Балтики хлябь колыхалась, —
В них России судьба была белой той питерской ночью.
Каждый штык в ней сверкал, бил литаврами шаг одинакий! —
То к столице своей шли российского рыцарства кадры…
И уж солнцем вторым золотел перед ними Исакий,
С моря ж виделись гаубицы дружеской некой эскадры,
Словно перст, на Врага указующий… Но – до минуты,
Что в последнем бою их вводила в предместья родные.
Тут они обернулися, «белых» громя… И, как спруты,
Задушили победу их!..…………..Нету друзей у России!
Вот и этот, себя почитающий за джентлемена…
Нет теперь для нее человека его ненавистней! —
Всё попрать! оскорбить!.. Но должна стать его непременно
Иль… проститься со всей современной заманчивой жизнью…
Отказаться от лож раззолоченных, солнечных пляжей,
Джазов ярко-дикарских и ангельски-белых Испано…
Как в постели она не на шантунг прохладнейший ляжет
Иль не сядет в тепло от эссенций опаловой ванны?
А приемы? а спорт?.. Паутины ракеток и платьев?
И цветы вот!.. и радио… Нет, и не думать уж лучше!
Можно ль с шаткой судьбой русской беженки и пропускать ей —
(Ведь сказал и Финкас!) этот брак… этот редкостный случай?..
Но отдаться врагу?.. Этой кобре английской? Джон Буллю?
А с другой стороны, – что сама она, Лёль, для такого,
Как былой ее друг?.. – чьи крыла уж в Сибири взмахнули,
Клич Россию будил?!. Для орленка – Никиты Орлова!..
Лёль вся – мрак, вся – смятение!.. Сердце так стонет, что слышно,
Мозг горит, как в огне… Мрак, и стон, и огонь – те ж страданья,
Что в отчизне ее… Где же путь, что не вел бы облыжно?
Лёль – России листок – в жесточайшем дрожит колебанье…
Даже мистер вдруг сжалился. С страстностью важной, смешною
Ей объятья раскрыл… Но, темно лепеча, отскочила.
– Не-т… Пусть сэр извинит… Слишком душно здесь!..
нехорошо ей…
Мышкой – в дверь и – бежит вверх, на воздух, к балкону над виллой.
О, как тут высоко! Д-а, конечно, этаж уже третий…
О, как холодно тут! Д-а, ведь, правда, сейчас уже осень…
Как мучительно… ох! И зачем существуешь на свете?
О-ди-но-ко… А что, если прыгнуть… удариться оземь?..
Город мира вдали – гордых, колких, косых очертаний —
В волнах прахов, огней, фосфорически-розово-мглистых,
Как гигант-трансатлантик в вечернем всплывал океане
Меж медуз-фонарей и реклам – рыб летуче-искристых…
Снизу ж пахло землей… так родимо! И падали листья
Русым легким лоскутиком… Ветер их ласково зыбил…
Вот и Лёль полетит! Пусть ее дожидается мистер!..
Парапет. И прыжок. Русым легким лоскутиком… в гибель…
В ТРЕТИЙ РАЗ
Но она не погибла тут… Видно, судьба ей с ним встретиться —
С тем, кто дважды уж звал… с третьим зовом и сам к ней придет.
В миг паденья ей так засияла Большая Медведица —
Наше – русских – созвездие!.. Лёль и жива. Третий год.
Всё на свете исполнено мудрой божественной мистики:
Умерла б во грехах… А Господь пожалел ее, спас.
Ведь смягчили удар те ж взманившие павшие листики, —
Там садовник их сгреб. Там, под страшным балконом как раз…
Правда, – стала калекою. Что-то болит в позвоночнике,
Ноги плохо уж движутся… кашель… и сон стал дурной…
Что ж такое! Они с Никой были всегда полунощники —
До зари, в зеленях той… святой резедовой весной.
И теперь вот весна… Ей и здесь – на мансарде – всё скрашено:
Сеть лучей! Через всю – гамаки золотые висят!
И лимоны, и финики, ею из косточек взращены,
Процветают… На кровле же – голуби арфно гурлят…
Если ж встанешь вот так, взявши трость (помоги, Богородица!),
Что за вид из окна! – Тот же город и всё же не тот.
Весь – молочнейше-призрачный, схожий с картинкой, что сводится,
И – за пленкой своей – полный милых чудес и хлопот.
Слюдяными букашками ползают трамы, автобусы,
Алюминьевой ласточкой носится аэроплан…
Небо ж с тучкой единственной – часть голубейшая глобуса,
Где есть остров… Таити?.. иль Пасхи?.. О, лучшей всех стран…
Как мережка, вдали виадук… Поезд прямо игрушечный!
А вон там, на окраинах, уж зацветают сады, —
Дым курчаво-серебряный, будто… но вовсе не пушечный!
То – айва? иль миндаль? Всё равно. Всё полно красоты.
Да, ме-реж-ка… Пора! За работу же, Лёль, да не мешкая!
Отслужили свое ее ножки… Рукам – череда.
И уменье уж есть, и терпение даже… с мережкою.
В магазине довольны. Заказ, слава Богу, всегда…
Что за воздух! Как будто бы льются духи бирюзовые
Из квадратно-больших пузырьков двух распахнутых рам.
На коленях – шелка цвета crème, и champagne, и лиловые —
Мотыльковый наряд для богатых неведомых дам…
Тут – и розы сорочек их в жилках сквозной инкрустации,
Панталонные крылышки, комбинезонов струи…
Да, порой нелегко, что пришлося с такими ж расстаться ей!
Ах, как горько порой, что они для других, не твои…
Но из глаз – ни слезы. С губ, в старании сжатых – ни жалобы.
Лишь стрекочут кузнечики ножниц, лишь блещет игла…
Нет, всё к лучшему! Иначе – с милым навеки порвала бы,
А ему и больная она – сердце верит – мила.
И потом – разве Лёль так уж всеми оставлена, брошена? —
Помогает сестра и, хоть редко, впорхнет – навестит.
То Митюша зайдет – о, такой стал большой и хороший он! —
То студент-богослов один, то генерал-инвалид.
И, особенно, та, что прозвали все Доброю Душкою.
Это – фрейлина бывшая. Русская фея – сейчас.
Неприметна, вне лет… То девицей глядит, то – старушкою, —
Хвостик серый волос и лампады голубящих глаз…
Захворает ли кто, – Душка мчится в аптеку, в лечебницу.
Без работы? – летит в иностранный влиятельный свет.
Визу ль, кров ли, стипендию ль – всё достает, как волшебница,
Ну, а что у самой?.. Бриллиантов и стерлингов нет!..
Так… пособье ничтожное… Что бы и Лёль теперь делала? —
Слава, вилла ушли… Горизонт был трагически-хмур:
Без гроша и без ног. Но влетела тут Душка, затрелила,
Принесла ей Евангелье… Раздобыла ей кутюр.
И с тех пор повелось: за работой идет и обедом ей,
И с работой уйдет – с платой входит… Бескрайнейший круг!
Если ж худо ей, – доктора кличет без денег и ведома.
Вот легка на помине-то! Чу?.. Деликатнейший стук.
Древний запах tzarine bouquet[11]11
царицына букета (фр.).
[Закрыть], старый tailleur[12]12
костюм (фр.).
[Закрыть] полн изящества…
– Фея, фея! – Ну, Лёль, как вы?.. Плохо?.. не спали всю ночь?
Ах, а я-то!.. Вчера – чай-концерт… одного там землячества.
Цель благая. На скаутов. Как же, мой друг, не помочь?..
Танцы?.. Были. Какие ж, – вот в этом не смыслю ни столечко!
Если б – вальс, полонез… Что-то новое: блэк или блюс…
Показать?.. Ах, насмешница! Да и Господь с вами, Лёлечка!
Ведь – Страстная. За вас лучше, грешная, я помолюсь. —
Лёль вдруг вся всполохнулася. Стало быть, Пасха так близко уж?
Наша, русская… Боже мой!.. Дрогнула, в кашле зашлась…
Ах, опять эта кровь! Крепдешины еще ей забрызгаешь.
– Душка… милая… это ведь… это – не спешный заказ?
Приберите ж его!.. Мне сегодня не очень здоровится… —
Душка прячет, тревожится… Бодро хлопочет потом:
То лекарство накапает, то подобьет изголовьице…
– И прекрасно. Вы, Лёль, утомляетесь слишком шитьем.
Но весна вот… Вы встанете. Сами плясать еще станете! —
(А в лице средь подушек уж легкая синь разлита…)
– О, я встану!.. Но мне… Срок и мне претерпеть ведь страданья те…
Тридцать три – завтра, знаете?.. Это – Христовы года.
Почитайте ж, дружок, что услышите в церкви сегодня вы… —
И запело о вечерях и золотых вечерах
Всех тех избранных, призванных к близости Лика Господнего,
И о грешнице, вкравшейся в круг их с сосудом в руках…
Изливал, алавастровый, миро и чувство бесценное
На стопы Обреченного… Вытерли их, как убрус,
Косы траурно-темные и в преклоненье смятенные…
И прославилась Женщина. Так завещал Иисус.
Галок крестики черные зыблются в выси эмалевой.
Иль то – лодки рыбацкие в Генисаретских волнах?..
Лёль словила их сеть… Сеть лу-чи-ста-я… – Лёль, задремали вы? —
Тишина. Поцелуй… И растаяла фея в дверях…
Да, дремала. И видела что-то… чего нет желаннее!
Что?.. Забылось. Одно: где-то, в крае блаженств побыла…
В Океании пальмовой иль, средь смоковниц, в Вифании,
Иль в России, в березничке?.. В далях… А долго ль спала?
Взор открыла, окрепшая, приподнялась без усилия. —
Снова – радость! Митюша здесь. Как осторожно вошел!
И – такой баловник! – в кувшине умывальном жонкилии,
Цвет которых так солнечно, так канареечно желт!
Ах… и небо такое уж!.. Влажно-прохладнейше-палево…
Клич вечерних газетчиков… Или то – высвист скворцов?..
Митя клонится к ней. – Хорошо, мама Лёль, что поспали вы!
А теперь вам – бульон… это Душкин приказ, и – яйцо. —
Вот чудак! Говорит, как с ребенком, с ней. Сам не мальчишка ли?
А, пожалуй, уж – нет. Кудри сглажены, галстук, пиджак…
Головой выше Лёль. Очень сдержан. На диво, как вышколен.
Молодежь зарубежная, правда, вся выглядит так.
Ну, а сердце-то – русское! Лишь под корой черепаховой.
Вот – сам кормит ее, по душам с ней беседует он.
– Как живется?.. Прекраснейше!.. Замысл… Удача в делах его…
Акварели две проданы. Кажется, примут в Салон.
О, тогда уж не мама Лёль, он о ней станет заботиться…
Брату ж Виктору… гм… он не знает вполне, почему, —
Чек какой-то… подлог… но в Америку смыться приходится.
Да Чикаго, по совести, – самое место ему!
Что же плачет она?.. Как?.. Себя в том виновною чувствует?
Ну, а кто ж их кормил, между тем как родной их отец…
И – потом… Вот ведь смог же он, Митя, учиться искусству… и…
Только б в славу войти! – ей построит не дом, а дворец!
А-а, смеется?.. И сразу же – прелесть какая! Русалочка!
Лучше star всех прославленных, всех этих выбранных «мисс».
Лёль не верит?.. Тоща, как кикимора? ходит уж с палочкой?
Вздор! – Русалка. Naïade. Хоть пиши с нее!.. Да, это – мысль.
Взор ее – океан… Волоса – ах, как выросли! – струями…
И в движеньях всех ритм… Он – художник. Ему ли не знать?
И понятно, чем зрители некогда были волнуемы.
О, Финкас – не дурак, что ее побудил выступать!
Кстати, Митя с ним встретился… – С «вещей вороной»?
Ну, что же он?
– Шлет привет. Убежден, что страданья ее недолги.
Запорхает опять и создаст что-то, с прежним не схожее, —
Нечто – фин! du soleil[13]13
солнечное (фр.).
[Закрыть]! и пожнет-таки снова венки… —
Лёль светло призадумалась. – Это сказал он, действительно?..
Старый, верный Финкас! Никогда не обманывал он.
Так страданьям конец?.. Как тогда будет жить восхитительно! —
(А прозрачнейший лик средь подушек – уже заострен…)
Митя тоже притих… Говорят, – это отжило, вымерло,
Но его так пленяет всё русское! – быт ли то, миф…
А не знает снегов… И потом: что такое – кикимора?!
Да и мыслимо ль знать, там едва шестилетье прожив?
– Мама Лёль, мама Лёль! Расскажите-ка мне про Россию вы… —
– Ах, Митюша… Возможно ли то не поэту?.. И вдруг?
Ведь Россия – великая… От Петербурга до Киева —
Вот и Франция вся. А на север еще и на юг…
И к востоку… Сибирь. А за ней – почти наша Маньчжурия…
(О, загадочный край, где прекрасный Никита Орлов!)
Только… Митя! нигде не видала подобной лазури я! —
И бледна-то, и пасмурна, а восторгает, нет слов!
Арки радуг как в рай ведут… Душем небесным льют проливни…
По грибы пойдешь, ягоды… Столько! – Грузи камион.
И какая весна! – Ночь что день, и душисто до боли в ней…
А в мороз – прямо жар! И скрипучий он, как саксофон.
Снег забыл?.. Ах, бедняжки! Видали лишь пляжи да ланды вы…
Снег… Да с ним чудеса! – Золотой… нет! – Алмазнейший Век.
За ночь встанет – представь! – целый горный хребет бриллиантовый.
Запах дынь! Вкус – шампанского!.. Вот что такое – наш снег.
От сверканья ж и чудится: пни – лешуками мохнатыми,
Ствол березовый – девушкой, если на лыжах бежишь.
Ну, а дома – кикиморы… Сходное что-то с пенатами,
Только злы и то-ню-сень-ки… Вот теперь знаешь, глупыш?..
А березки… Они – наше самое русское дерево!
Тож белы и уж так… неповинны, что ль, Митя, на взгляд.
Их на Троицын день – уж не празднуют, верно, теперь его? —
В храмах ставили, в комнатах… Крыша, – а всюду как сад!
О, увидь это ты… Особливо в деревне, в поместьице…
Всё дивило б! – Лежанка хоть… Это… ну, с выступом печь
Ярких, жарких изразчиков. Сладостно так на ней грезится…
Или – пошевни. Санища! Как на кровать, можно лечь.
А засидки?.. покос?.. Вот опять не поймешь ты, Митюшенька! —
И поют, и работают… Словно их труд – лишь игра.
Голоса необъятные… Что ни chanson, то жемчужинка.
Все разряжены… веселы… Прямо, как в Grand Opéra…
Но чудесней всего крестный ход наш по ржам, средь привольица!
Люд… Святыня… И – вот… ничего того, пишут, уж нет.
Все мрачны. Да и… Господи!.. Каторга ж! казнь!.. и… не молятся…
Не велят им, несчастненьким… Митя! Тебе – мой завет.
Ни-ког-да, ни-за-что не мирись ты с Нечистою Силою,
Что вселилась в Москву! Ох, и немцы с ней… Бог их суди!
Да снеси, коль воротишься (где уж мне?) на землю милую,
Ей поклончик от Лёль… Сам же, мальчик мой, всех там прости.
Вот, как в Пасху… У нас как нигде она! – С жаром и… жалостью:
Чок яичек малиновых… Бум колокольный весь день…
Д-а, как звон наш от здешнего, так и вся жизнь отличалась там
От сухой суеты, что в Европе всегда и везде,
Не понять – отчего. Шире ль… краше ль… Пусть чище здесь,
убранней!
Там – озера с моря! Лес без края… Не парк их сквозной.
Тот, где царь сам охотился, полн был страшенными зубрами…
К нам в усадьбу же лось заходил… да, как раз… той весной.
Лось же – это ведь тур! Зверь – видал у Билибина? – сказочный.
Ника мой разгорелся весь! Так и схватил бы ружье
Да погнал по следам. Только… где же? – Лежал в перевязочной.
Что за Ника?.. Ах, друг! Это – счастье и горе мое.
Он ведь сказочный тож. Он – Вольга! Всюду рыщет, всех борет он.
Он – как в медь весь закованный! Даже и голос такой.
Он – святой и безжалостный… Для златоглавого города,
Навек мной поцелованный, пренебрегает он мной…
Нет, Димитрий, не то… Я по слабости так… по болезни я…
Можно вверить не только что сердце – державу ему!
Мне ж сказал: нет родней! Что как колос – я… только прелестнее.
И что Русь всю увидишь, ко взору склонясь моему.
Как был ласков неслыханно! Всякой любил… и заплаканной…
Целовал башмачки… А ведь пыльны ж!.. И гордый он, страх.
Чуть Венера – была та вечернею – вспыхнет, нам знак она:
Час свиданья. И встретимся в вишнях иль дальше… в хлебах.
И хорош же средь травного и соловьиного щекота
С милым об руку узенький русский проселочный путь…
Что ты, Митенька?.. Господи!.. Что же целуешь мне ноги ты?..
Иль… родной на них прах?.. Ну, спасибо. Теперь – отдохнуть. —
Славный мальчик, заботливый… Взгляда не сводит прощального,
Ставит ближе питье… Ну, Митюша, храни тебя Бог! —
И – одна уж. И высь – пред ней. Вроде чертога хрустального,
Просквозеннейше-светлого… Но беспредельна как… ох!
Звезды?.. Да, уж забрезжили. Только не видно вечернюю.
Иль ослабли глаза? Иль взошла на другой стороне?
Но как четко вдруг выступил в бледной бездонности чернию
Жутко-правильный крест – рамы дерево – в каждом окне!
Раз и два. Два креста! Ах, кресты те не их ли с Никитою?..
Что-то тяжко как… Боже мой!.. Смилуйся, Боже, прости…
Всё пляша да рядясь, часто падая, часто завидуя,
Прожила она, Лёль… Если смерть – как к Тебе ей пойти?..
Эта высь, – как стекляннейший непроницаемый колокол,
Из которого выкачан воздух весь… Нечем дышать…
Свет зажечь бы… Да встанешь ли?.. И никого-то нет около! —
Лишь она вот да смерть ее! При смерти ж страшно лежать…
Сколько может быть времени?.. Семь или восемь? иль девять и…
Ах, дождаться бы милого, голос услышать его!
Раньше б глаз не закрыть… не узреть жениха… вот как девы те…
Нет! – хотеть всей душой и молиться. Так лучше всего.
Город снизу, за ней – ведь года в его чаром кругу была! —
Мечет лассо огней своих, музык, услады и зла…
Но уж высь – покровеннейшим сизой мозаики куполом,
Как над Айя-Софией, где Лёль разик в жизни была…
Ароматы… светильники… Дышится легче… Не страшно ей…
И… – «Чертог твой…» – запел кто-то возле, знаком, но незрим.
Так слепительно: – «вижду…» – и трепетно: «Спасе,
украшенный…»
И «одежды не имам да вниду в онь…» – с горем глухим.
То о ней! То о Лёль!.. – «Просвети одеянье души моя,
Светодавче!» – здесь тембр стал смиреннейше-матово-бел…
– «И спаси…» – с глубиной и тревогою неизъяснимою —
– «И спаси мя» – рыдающе – «Спасе мой…» – Он это пел!
В третий раз он позвал! Он пришел к ней в минуту последнюю, —
И, любовью расплавлена, голоса гордого медь
Утешеньем лучилася… Нет! То не может быть бреднею.
Нет! Не мог бы никто еще столь же божественно петь!
А меж тем… Огляделась: всё та же мансардная комнатка, —
Стул дырявый, клюка ее, платье – порожней сумой…
Стало вовсе бедно, что при свете казалось лишь скромно так
От графитно-густой паутины, уж сотканной тьмой.
Нет и техники чуд: ни капкана звучаний всех – радио,
Ни певучих письмен граммофона… Нет, – бедность и тьма.
Как же слышался голос ей, певший, рыдая и радуя?!
Кроме легких и ног, не лишилась ли Лёль и ума?..
Мог ли быть он здесь, в городе? Разве дорога близка ему?
И откуда бы пел? Ведь не с улицы ж или двора?..
Всё ж она его слышала! Это уж непререкаемо.
Бог мой!.. Дверь нараспах. Разволнованно входит сестра.
Мех сугробом оранжевым. Бус, слишком крупных, созвездие.
И шаги, слишком крупные – юбке колен не прикрыть.
– Добрый вечер!.. Ах, Лёль… Знаешь, Лёль… тут одно
происшествие…
Только… Как ты слаба! Может быть, мне не след говорить?
Но – должна ж! Тут была и моя вина… – брызнула бусинка
Под рукой, слишком нервною. – В век наш – и чудо вдруг есть?..
Ну, так вот! Не волнуйся лишь. – Я не волнуюся, Мусенька…
Я ведь знаю сама уже… – Что?! – Что Орлов сейчас здесь. —
Мех оранжевый вздыбился кошечкой вспугнуто-шалою.
– Кто тебе сообщил?.. Генерал твой? Он в курсе быть мог.
Я ж от всенощной только что. В церкви ж, представь,
что слыхала я! —
– Я сама, Муся, слышала. – Ты?! – Да. Как пел «Чертог». —
Мех оранжевый в ужасе на пол пополз непокрашеный…
– Так и было. Орлов нынче соло исполнил «Чертог».
Н-о… Так быстро узнать?.. Это странно… почти даже страшно мне…
Богослов твой сказал?.. В церкви был он… Да нет! Он не мог.
Я ж помчалась в такси. Чуть взглянув и узнав… Не дослушала.
Так рвалась к тебе!.. Лёль! А тебя самой не было там? —
– Что ты! Что ты!.. Могу ль?.. Никуда я – вот как занедужила…
Это больше двух лет… А хотела б туда-то… во храм.
Ну, Бог даст, попаду еще… – Бусинки Муси всё падают…
Пахнет Мусин платок… Всё к лицу он. Иль насморк у ней?..
– Лёль… так что ж?.. Эта весть беспокоит тебя или радует?
Отыскать мне его, привести?.. Ты скажи! И скорей. —
Как на кладбище – тишь. Но поет в ней рулада сиренная…
Грушка лампы тускла. Но сиренево светит весна…
У кровати – тут – женщина, пудренная и смятенная.
А в кровати – там – женщина вдвое белей и – ясна.
– Впрочем, ваш с ним роман, это что-то такое давнишнее! —
И его воскрешать, может быть, и не стоило б, Лёль?
(Знать ли Мусе любовь под белеющей окскою вишнею?..
А цвела она два семилетья назад лишь… давно ль?)
– Лёль, а вдруг… отчуждение?.. холод?.. Ты вынесешь груз его?
Не видаться с ним, думаю, было б разумней всего! —
(Знать ли Мусе любовь, золотую душевную русского?
А разумно иль нет, – суждено ей увидеть его!)
– Звать? – Кивок. – Так бегу! И поставлю всех на ноги живо я. —
Генерала, студентика, Митю… А Душку – сюда.
Будь здорова ж, сестренка! – Ты ж, Мусенька… Ты будь
счастливою!..
Вновь одна. Но уж рай – пред ней! Стерлись два тяжких креста.
Где-то били часы… девять… десять… одинцать… двенадцать и…
Мрак павлинье-смарагдовый делался маслично-сер…
Грушка мертво-темна. Пережглась… Что ж! Не век накаляться ей…
Но… Венера вдруг вспыхнула! Утренней стала теперь?..
Час свидания. В горнице всё просветлело таинственно…
Нестерпимого чаянья миг!.. И вошел из дверей
Он, Никита Орлов. Он, ей любленный навек, единственно!
В белом блеске – виски. А – прекрасный! Ничуть не старей.
А потом… Столь счастливыми – о, никогда! – они не были. —
Поцелуи пасхальные……Русские колокола……
А потом Лёль пошла с ним в поля васильковые… в небо ли…
В этот вешний рассвет, на Четверг Страстной, Лёль умерла.
После ж было всё так: вникла Душка, взглянула… заплакала…
И… тотчас хлопотать. – На глаза – два рудых пятака,
Что в ее ридикюльчике русскою памяткой звякали,
Пальцы – в крест. И – платком. И лежала Лёль хмуро-строга.
Так, наверное, мучилась! Да и скончалась, как брошена…
Но зато уж теперь всех друзей она к Лёль созовет…
И пришли генерал с богословом, печально-всполошены,
Зачитали Псалтырь, соблюдая ревниво черед…
А когда в позумент гроб мансарды лучи уже путали,
Вслед за Митей вступил сторожащейся поступью львов
С их же взглядом, сгорающим в хищной печали – не удали! —
Человек в белом блеске висков. В темном френче. Орлов.
Генерал обомлел. Затопорщил очки да и китель свой…
– Вы ли, ротмистр?! Да вы ж… Вы погибли – я слышал – в Крыму! —
– То, прощенья прошу я у Вашего Превосходительства, —
Ложь. Я жив. Хоть видал слишком близко и смерть, и тюрьму.
– Что же… вы? – Всё борюсь. – Где ж вы были? – О, не был где
только я…
– Здесь давно ли? – Дня два. Торопился, как будто кто гнал!
И дела есть… А главное… больше не мог я! – За Ольгою. —
– Ольга… Кто это? – Вот! – Наша Лёль?.. Я, простите, не знал.
– Доложил бы, – да поздно уж… – Вашему Превосходительству,
То – невеста моя… – Эх!.. Так выйдем-ка, друг-богослов!
И, предавшись великому, жаркому самомучительству,
С нею, мертвою Лёль, остается глаз на глаз Орлов.
Что тут было меж них? В чем, безгласной, ей он исповедался?
О, в простимых грехах!.. Что – забыл для России ее.
В чем он с нею, простой, но уже умудренной, советался?..
И потом жадно пил недопитое ею питье…
Вспоминал ли с ней край, тот, что цвел меж Москвой и Владимиром,
Где русалки водились… и дева Февронья жила?..
Край, что вот поддался с чужеземья примчавшим кикиморам —
И завял под их веяньем нечеловечьего зла!
Ножки ль он целовал – те, что пляскою мир весь пленяли так?
Руки ль, знавшие труд – иглы, вилки – все жала земли?..
Но, когда уходил он из горницы, светами залитой,
Голубые умершей уста уж улыбкой цвели…
– Как… теперь вы, Орлов? – Я-с?.. Опять на пустынское
жительство.
Если счастию – смерть, счастьем мыслится насмерть борьба…
Есть надежда – доверюсь я Вашему Превосходительству —
Что невдолге решится с Востока России судьба. —
Мчался век… Золотой – достиженьями, лютостью – Каменный.
Героичный отряд от полярного холода гиб,
Гибли лорды ученые, вскрыв саркофаг Тутенкамона,
Гиб от голода беженец, в пышный попавши Антиб…
А в стране, где – зловещие куомитанги и капища,
Гиб, но – бился Орлов. Рыцарь белый… земли своей соль…
За нее, эту землю, где Бог необорен… Но слаб еще
Человек……Как и лист, на чужбину увихренный, – Лёль.
28 октября 1931 – 8 февраля 1932(по старому стилю)София
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































