Текст книги "Я медленно открыла эту дверь"
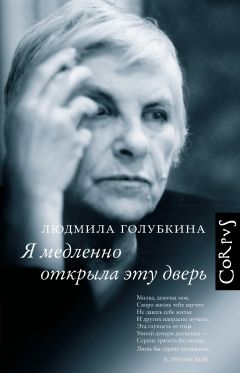
Автор книги: Людмила Голубкина
Жанр: Кинематограф и театр, Искусство
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Летом меня отправляли в пионерский лагерь, каждый раз в другой. Однажды попала в образцовый – в Горках Ленинских. Оттуда я приехала завшивевшая. Помню, как сижу, наклонив голову и закрыв глаза, над газетой, а мама чешет меня частым гребешком, и я слышу, как они сыплются горохом, звучно ударяясь о стол. Мазали голову керосином, покупали какое-то средство в аптеке – ничего не помогало. Пришлось остричь меня наголо.
Лагеря были одинаково скучные и казенные. Мы с нетерпением ждали только родительского дня и конца смены. Впрочем, меня чаще всего оставляли на второй срок. Мама работала и не могла мной заниматься.
И всё же голод, холод, бедность были не главным в тогдашней нашей жизни. От первых послевоенных лет у меня осталось ощущение тревоги и подавленности. Инвалиды на тележках, заполнявшие улицы, слухи о новых арестах, передававшиеся шепотом, и общая суровость бытия, которой я не чувствовала даже в эвакуации, может, потому, что там всё казалось временным, объяснимым. А в Москве всему этому не видно было конца. Казалось, мы всегда только так и будем жить.
Впрочем, возможно, это сугубо личные ощущения девочки из среды служащих, самого обделенного слоя советских людей. Даже карточные нормы продуктов для служащих были самыми скудными. Меньше получали только иждивенцы.
34
Меня перевели в другую школу, неподалёку от Сретенских ворот, в бывшем Рождественском монастыре. Там работала завучем тетя Эмма. Эту 240-ю среднюю женскую школу я и окончила.
Обучение в те годы было раздельным. Мальчики появлялись у нас только на вечерах, когда я уже училась в старших классах. Стояли у стен, глядели сумрачно. Танцевали обычно девочки с девочками, мальчики с мальчиками. Дружбы не получалось.
Слово «монастырь» нам ничего не говорило, как и Рождество. Мы считали, что название связано с Новым годом.
Монастырь стоял на невысоком пригорке, окруженный высокими стенами. От Рождественского бульвара подниматься нужно было по довольно крутой лестнице. В бывших монастырских помещениях были какие-то мастерские. Посреди двора – новенькое стандартное здание нашей школы. Школа была хорошая, спокойная.
Директором в те времена была Злата Савельевна Гальперина. Завучем старших классов, как я сказала, моя тетя, Эмма Соломоновна Голубкина. Вообще, в школе почему-то было много евреев – и учителей, и учениц. В нашем классе – чуть не половина: Мильштейн, Каплун, Зак, Френкель, Смоляницкая… Были и татарки, и украинки, даже одна немка. Национальный вопрос нас совершенно не волновал. Может быть, в семьях девочек и соблюдались какие-то традиции, но до школы это не доходило. Почти все одноклассницы были одинаково бедны, жили трудно, ходили в обносках. Школьная форма – коричневое платье и черный фартук – у большинства были сшиты дома из дешевой полушерстяной ткани или сатина. В магазинах купить всё это было невозможно, даже по ордерам. Насколько я помню, в отдельных квартирах жили только три или четыре девочки из нашего класса. У одной девочки – Иры Калиновской – была своя отдельная комната. Ей не завидовали, но в гости к ней ходили редко, а если и бывали у нее, то, как в музее, снимали у входа обувь и ступали дальше на цыпочках, благоговейно посматривая по сторонам.
Большинство же моих одноклассниц жили не просто в коммуналках, а в домах гостиничного типа, своего рода общежитиях, с бесконечными коридорами, по которым можно было разъезжать на велосипеде, если имелся, и с двумя-тремя огромными общими кухнями, запахи из которых разносились далеко окрест.
Хорошо помню, как пришла к одной девочке в гости и оказалась в большой комнате, посреди которой был фонтан. Правда, недействующий. Кажется, на нём что-то висело. Может, одежда. У самого входа, за выгородкой, помещалась отдельная кухня – немыслимое удобство в те годы, а вдоль стен, за ширмами, занавесками и невысокими перегородками, располагалась немалая семья.
Все эти дома находились в прилегающих к Трубной площади переулках. Поговаривали, что раньше это были дома терпимости. Если правда, то довольно интересное соседство – монастырь и обиталища падших женщин.
Училась я средне. Любила литературу, историю, географию. Ненавидела биологию. Может, потому, что учительница была противная – злая, насмешливая и нудная. Одно время я вдруг увлеклась алгеброй, но потом попала в больницу с экссудативным плевритом, отстала от программы и так уже и не нагнала до конца учебы.
По-моему, я долго была человеком тихим и отдельным. Не высовывалась, как говорится. Ни с кем особенно не дружила. После уроков спешила домой. Приходила, снимала форму – платье в одну сторону, фартук в другую. Доставала кастрюлю из-под кучи одеял, зачастую обходилась без тарелок, чтобы потом не мыть. Книгу в руки – и понеслось: другой мир, другая жизнь, другие люди. Может, они были не лучше тех, что окружали меня, но – другие, незнакомые и потому привлекательные или, скорее, увлекательные.
Еще были редкие, но волнующие походы в кино.
Первое после возвращения из эвакуации посещение московского кинотеатра меня потрясло и обескуражило. Там, в военном городке, просмотр фильма был событием, праздником. А здесь верхнюю одежду не снимали, лузгали семечки, сплевывая шелуху в горсть. Правда, перед началом сеанса в фойе играл оркестр. Иногда даже выступала певица.
Фильмы шли в основном «трофейные» – «Молодой Карузо», «Где моя дочь?», «Ты – моё счастье», «Девушка моей мечты». Сентиментальные, слащавые, но открывавшие нам целый мир. До сих пор помню эти дурацкие названия. Иногда показывали замечательные картины. «Мост Ватерлоо» оставил неизгладимое впечатление. Недавно смотрела его по телевизору и удивилась: неплохо, но ничего особенного. «Судьба солдата в Америке». Многого я в нём, наверное, не поняла, но бредила Хэмфри Богартом. Позже, когда посмотрела «Касабланку», убедилась, что моё восхищение Богартом не было ошибкой. Генри Фонда, Кларк Гейбл, Дина Дурбин – это были наши кумиры, как теперь понимаю, неравнозначные, но тогда казавшиеся нам существами из другой галактики.
У меня имелся немалый блат – тетя Фаня, вдова маминого брата, работала билетершей в кинотеатре «Уран», рядом с нами, на Сретенке, и многие фильмы я смотрела несчетное количество раз.
А еще были московские театры с их волнующей атмосферой: билеты у входа, шумная раздевалка, устланная ковром лестница, по которой поднимались неторопливо, будто возносясь к чему-то особенному. Зал, оживленный и дружелюбный. Наконец, твоё кресло, постепенно гаснущий свет, наступающая тишина и медленно, торжественно открывающийся занавес. А за ним – ярко освещенная сцена и новый, еще не ведомый мир.
Позже, когда я попала в актив Центрального Детского театра и стала дежурить на спектаклях, бывать за кулисами, это ощущение праздника несколько потускнело, сделалось привычным.
В восьмом классе у нас в школе организовали драматический кружок. Руководил им настоящий актер из Театра юного зрителя, молодой, но уже известный, по фамилии, если не ошибаюсь, Горелов. Актеры получали тогда гроши, и работа в школах или клубах была их единственным приработком.
Мы принялись за дело всерьез. Сразу начали ставить большую пьесу, которая шла в детских театрах. Называлась «Снежок», в ней рассказывалось о горькой жизни чернокожего мальчика в Америке.
Особенность нашей постановки заключалась в том, что и мальчиков, и дяденек, и тетенек играли девочки. Мне как самой длинной в классе досталась роль директора американской школы. Противный был тип, расист. Я очень старалась, чтобы он вызывал отвращение. Самое забавное, что спектакль имел успех. Мы даже показывали его в Центральном Доме пионеров.
А еще ставили отрывки из поэмы Некрасова о женах декабристов. Горелов достал настоящие театральные костюмы и парики. Наше сочувствие несчастным женам превышало все мыслимые пределы. Эту искренность зрители, очевидно, почувствовали. Родители, пришедшие на спектакль, утирали слёзы. Мне снова досталась мужская и снова отрицательная роль: губернатора, который не пускал княгиню Волконскую к мужу. В конце он, правда, сдается и даже выражает ей свое восхищение. Перед самым спектаклем выяснилось, что на мои (быстро отросшие с лета) толстые косы ни один парик не налезает. Началась паника, но Горелов привел на показ коллег, чтобы помочь нас гримировать и одевать. И один из них предложил – пусть твой персонаж будет раненым генералом. Так и сделали. Мне забинтовали голову, будто ее разнесло снарядом. Сохранилась фотография, где я в генеральском мундире и в огромном тюрбане из бинтов на голове. Сейчас мне кажется, что это несколько перекосило некрасовский замысел. Раненый генерал вызывал больше сочувствия, чем не желавшая оставить его в покое Волконская.
35
Папа выпал из нашей жизни окончательно. Телефона у нас по-прежнему не было. К нам он не заезжал. Пути наши не пересекались. Скажу честно, меня это тогда мало занимало. Я привыкла к тому, что у нас маленькая семья, очень любила маму, мы дружили с ней. Не просто жили дружно, а именно дружили. У меня не было от нее тайн, у нее от меня, кажется, тоже. Мы всё обсуждали – новости, события, происходившие у меня в классе и у нее на работе, она в то время опять служила в ТЭУ – Туристско-экскурсионном управлении, водила экскурсии по Москве.
Мы вместе ходили в гости к ее немногочисленным друзьям и родственникам, посещали театры и музеи. Зимой ездили кататься на лыжах за город или в Сокольники. Своих лыж у нас не было, брали напрокат. Вместе решали, что нужно купить, вместе радовались покупкам, на которые долго копили деньги. Помню нашу бурную радость, когда купили этажерку для книг. До этого книги стояли на полочке на мамином диване или лежали сверху на шкафу. Этажерка потом долго путешествовала с мамой, а позднее и со мной из квартиры на квартиру. Она до сих пор стоит в углу моей комнаты, совсем дряхлая, но очень мне дорогая. Уже значительно позже мама пригласила столяра, и он смастерил стеллаж высотой до потолка. Книги всё прибавлялись и прибавлялись. В нашем окружении никто не задавался вопросом, что подарить друзьям или знакомым на праздник или день рождения. Книги и только книги.
Мы редко ссорились. Хотя помню очень стыдный эпизод. Я отставала по английскому, потому что, не зная ни слова, пришла в школу, где язык учили с третьего класса. Весь первый год обучения выпал из моей жизни. Учительница пыталась заниматься со мной после уроков, но потом сказала, что ей некогда, и посоветовала нанять педагога. Для нас это была почти непосильная трата, но мама как-то извернулась, экономя на всём, кажется, даже продала что-то. Поначалу я очень старалась, ходила на дом к педагогу, добросовестно зубрила слова и правила. Но учительница попалась на редкость неприятная. Почти ничего не объясняла, кричала на меня. Дом у нее был шумный, полный народу. Меня постоянно что-то отвлекало, и я тупела, ничего не понимала.
Однажды я не очень хорошо выучила урок и со страху пропустила занятие. Но не решилась сказать об этом маме.
Так и повелось. Я бродила по улицам, дома на мамины вопросы скупо отвечала, что всё хорошо. Наконец, наступил день, когда надо было расплачиваться за очередной месяц. Мама вручила мне деньги. Я их, естественно, не отдала. Более того, часть даже истратила на какие-то свои нужды. На что я рассчитывала, совершенно не понимаю. Какая-то общая тупость, начавшаяся на уроках, охватила меня. Этот эпизод моей жизни вспоминается мне как один из самых тяжелых и стыдных.
Конечно, всё вскоре раскрылось. Мама была потрясена. Долго не разговаривала со мной. Я очень страдала. Потом как-то сгладилось, но и сейчас мне горько и стыдно вспоминать. Хотя теперь, вырастив детей и внуков, я понимаю, что каждый ребенок так или иначе проходит через подобные искушения и проступки, познавая жизнь и определяя себя в ней. Мне урока хватило на всю жизнь.
Мама никогда не звонила отцу. У неё хватало гордости и отдельности.
Значительно позже, когда я уже училась в институте, мы поехали с мамой в Ригу. Остановились на туристской базе. Однажды она встретила на улице бывшую приятельницу, с которой давно потеряла связь. Та пригласила маму в гости. Я почему-то не пошла. Мама вернулась невеселая и даже чуть раздраженная. Оказалось, приятельница весь вечер ссорилась с мужем, они говорили друг другу резкости, несмотря на присутствие постороннего человека.
Успокоившись, мама сказала: «Как хорошо, что мы с тобой живем вдвоем. Нам ведь больше никто не нужен. Какой-нибудь мужик в доме со своими претензиями и чужеродностью! Курит! Пьет рюмку за рюмкой! Нет, я правильно построила свою жизнь».
Бедная мама. Она как будто забыла, что я взрослею и ухожу от неё. Через несколько лет я вышла замуж, и она осталась одна. И хотя наши отношения по-прежнему были очень близкими, мамина повседневность всё равно граничила с одиночеством.
Время от времени нам встречались в газетах и журналах новые стихи отца. Они мне не очень нравились. Зато прежние его книги, подаренные маме до войны, я знала почти целиком наизусть и большинство стихов очень любила.
Один раз мы даже слышали выступление отца по радио. Меня взволновал его голос, знакомые интонации, но желания увидеть его не возникло. Более того, я где-то в глубине души была обижена и даже зла на него. Иногда эти чувства прорывались у меня в разговоре с мамой. Она каждый раз мягко возражала и говорила, что отца надо любить. Он хороший человек, хотя и безалаберный.
Однажды в октябре 1949 года я увидела на улице большую афишу «Советские писатели – свободному Китаю», извещавшую о вечере в Зале имени Чайковского. В числе участников был назван и поэт Луговской. Решение пришло мгновенно, я не раздумывала ни секунды. Уговорила пойти со мной свою подругу, сейчас даже не помню, кого именно. Мама дала деньги на билеты.
Огромный зал, ряды круто поднимаются вверх. Мы сидели высоко, на самых дешевых местах. На сцене – все выступающие: Асеев, Антокольский, Катаев, Михалков и другие. Я с трудом отыскала среди них отца, сидевшего позади. Сердце забилось неистово. Я замерла. Подруга искоса с интересом посматривала на меня.
Начался вечер. Поэты и писатели выступали, читали свои стихи и отрывки из прозы. Наконец на трибуну поднялся отец. Своим громовым голосом он прочитал что-то про Китай, наверное, написанное специально к этому вечеру. Я потом никогда и нигде не встречала это стихотворение. Кажется, оно было невнятным, вялым и вместе с тем пафосным. Но в тот момент я об этом не думала.
Он дочитал, откашлялся и сел на свое место под довольно жидкие аплодисменты. И тут я вырвала листок из тетради и написала карандашом: «Папа, я в зале. Если хочешь меня видеть, я буду ждать тебя после вечера возле третьей колонны у входа. Мила». Надписала его фамилию и послала в президиум.
Записка медленно поплыла по залу. Я видела, как ее передают из рук в руки, из ряда в ряд. Кто-то вертел бумажку, разглядывая, кто-то сразу передавал следующему. Мне казалось, это продолжается бесконечно. Меня колотила дрожь. Подруга потом сказала, что я была бледна, как полотно.
Наконец записка дошла до отца, и он прочитал ее, близко поднеся к глазам. Повертел в руках. Снова прочитал. Оглядел зал. И стал искать кого-то глазами в первых рядах. Несмотря на волнение, я немного удивилась – почему в первых? Потом выяснилось, что там сидела Елена Леонидовна, его жена.
Как я досидела до окончания вечера, не помню. Мы вышли на улицу, подруга отошла подальше, я встала у третьей колонны. Ждать пришлось довольно долго. Наконец появился отец – большой, вальяжный, с тростью в руке, а с ним довольно крупная женщина, нарядно и необычно одетая, прелестная.
Отец поцеловал меня, сказал что-то вроде: «Как ты выросла!» Дальше говорили только я и Елена Леонидовна. Она задавала вопросы, хвалила меня за что-то, пригласила к ним в гости, назначив день. Папа стоял молча, опираясь на трость и улыбаясь несколько туманной улыбкой. Как потом, много лет спустя, рассказала мне Елена Леонидовна, он был в тот вечер сильно пьян.
36
В день визита я уже с утра не находила себе места. Принарядилась как могла. Впрочем, наряжаться особенно было не во что. День был будний, надо идти в школу, как обычно, в форме, довольно поношенной. Почистила платье жесткой одежной щеткой, пришила чистый воротничок и тайком взяла шелковый мамин шарфик, чтобы надеть под демисезонное пальто.
Уроки прошли как в бреду. После уроков я забрала пальто в раздевалке и обнаружила, что шарфик стащили. Горю моему не было предела. Жалко было шарфика, но больше всего я переживала, как скажу об этом маме. Ведь я взяла ее вещь без разрешения. Она бы мне его, конечно, дала. Но почему-то было неловко признаться, что я так наряжаюсь для встречи с папой.
Зареванная, несчастная, позвонила из учебной части отцу. Подошла Елена Леонидовна. Задыхаясь от слёз, я поведала ей свою грустную историю и сказала, что не могу приехать. Она почему-то засмеялась и велела немедленно явиться, потому что они ждут меня к обеду.
Робея, вошла я в подъезд солидного дома в Лаврушинском переулке. В лифт сесть побоялась, мне никогда еще не доводилось ездить в лифте одной. Поднялась на шестой этаж, позвонила. Дверь открыла домработница Поля. Она всплеснула руками и произнесла традиционное: «Как выросла!»
Тут же появилась Елена Леонидовна, ласково обняла, велела пойти в ванную и смыть следы слёз.
Ванная потрясла меня – чистая, выложенная кафелем, не обвешанная, как у нас, корытами и ушатами. Умывшись, я долго стояла, не зная, каким полотенцем можно воспользоваться. Они все казались такими роскошными, что я боялась притронуться.
Заглянула Поля, показала на маленькое полотенце, висевшее слева от раковины, и, видно, почувствовав моё смущение, ласково погладила по голове.
Потом Елена Леонидовна провела меня по квартире – трехкомнатной, показавшейся мне огромной. Я таких больших отдельных квартир еще никогда не видела.
Наконец мы вошли в папин кабинет. Тут я вовсе онемела. Книжные полки от пола до потолка, старинные настенные часы, мерно отсчитывающие время, широкая тахта, покрытая роскошным ковром, спускавшимся со стены. Другой ковер лежал на полу. Письменный стол, величественный и уютный – на нём две настольные лампы, старинная чернильница, лоток с грудой остро оточенных карандашей. А на полках перед книгами – оружие: сабли, шашки, какой-то древний пистолет (как потом оказалось – дуэльный) и пара ружей, прислоненных к полкам. И еще на старинном шкафчике, позади стола, – статуэтки Будды, похожие на те, что я видела в музее.
Папа встал из-за стола, обнял меня, а потом подвел к окну и стал пристально рассматривать.
Елена Леонидовна комментировала: «Ничего девочка, подрастет, выправится – будет просто красотка. Грудь намечается неплохая. Волосы такие, что можно позавидовать. Ножки вполне, длинные. Только плечи распрями, не сутулься».
Я не знала, куда деться от смущения, неловкости и нарастающего раздражения.
Внезапно я резко высвободилась из рук отца и, насупившись, отошла в сторону.
Папа рассмеялся и на этот раз очень искренне привлек меня к себе: «Майя, уймись! А ты не обращай на нее внимания. Она у нас дама эксцентричная. Пошли к столу».
Самое большое испытание ожидало за обедом. Почему-то две вилки, два ножа. Накрахмаленная салфетка углом около тарелки. Впрочем, с салфеткой я справилась довольно быстро. Я увидела, как папа расправил ее и положил на колени. Тут я из протеста отодвинула свою салфетку в сторону.
С вилками тоже разобралась: та, что поменьше, – для салата, а побольше – для второго. Ножи мне вовсе не понадобились, на второе подали котлету. И только в середине обеда я обратила внимание, что взрослые держат вилку в левой руке, а нож в правой и накладывают им на вилку гарнир. Но последовать их примеру не рискнула. Решила потренироваться дома.
Поля подавала. Сначала салат и закуски. Потом внесла большую супницу. Елена Леонидовна принялась разливать суп.
– А водка? – грозно спросил папа.
– Обойдешься, – легкомысленно ответила Елена Леонидовна. – У тебя дочка в гостях. Один раз можешь и воздержаться.
Папа с грохотом отодвинул стул, его салфетка упала на пол.
– Хорошо, хорошо, – поспешно сказала Елена Леонидовна и взглянула на Полю, стоявшую в дверях, скрестив руки на груди. Та, что-то ворча себе под нос, отправилась на кухню и вернулась с графинчиком и рюмкой. Отец одну за другой выпил две рюмки и заметно повеселел.
Стал меня расспрашивать, как дела в школе и что я читаю. Список недавно прочитанного его удовлетворил.
– Молодец, – похвалил он. – Моя дочка.
Что было потом, уже не помню. По-моему, отец основательно набрался и отправился вздремнуть. А я попрощалась с Еленой Леонидовной и Полей и поехала домой, нагруженная конфетами, папиными книгами и тремя шарфиками взамен одного украденного.
37
С тех пор я стала бывать у них довольно часто. С отцом особой близости не возникло. Он демонстрировал меня гостям, стандартно расспрашивал об успехах в школе, равнодушно относясь к моим признаниям в том, что успехи так себе. Спрашивал и про маму. Он даже несколько раз заезжал к нам домой – на минутку. Я каждый раз терялась. Уж очень он был большой, заполнял собой всю нашу убогую комнатушку. Разговаривал больше с мамой. В общем, я была ему не очень интересна.
Зато с Еленой Леонидовной, Майей, я дружила бурно и страстно. Я просто влюбилась в нее. Ей это нравилось. Своих детей у нее не было, а потребность опекать и учить жизни была. Я ей даже звонила иногда из ближайшей телефонной будки, и мы болтали просто так, если у нее находилось время.
Однажды, когда мы о чём-то разговаривали с папой в его кабинете, раздался звонок в дверь – пришла моя сестра Маша, тогда еще Груберт, а впоследствии Седова, по мужу. Я знала о ее существовании, видела ее фотографию, стоявшую на папином письменном столе рядом с задумчивой химерой с Собора Парижской Богоматери, но встречаться нам не приходилось. Свидание получилось довольно натянутым.
Позже мы очень подружились, и отношения у нас были теплые и сестринские до самой ее смерти в 2003 году, преждевременной и неожиданной, ставшей для меня большим ударом.
Дом у отца был открытый, гостеприимный во многом благодаря Елене Леонидовне, ее приветливости, веселому нраву. Там я встретила многих замечательных людей – поэтов, писателей, журналистов, ученых, чьи имена знала только по газетам. Павел Антокольский, Николай Тихонов, Михаил Светлов, Владимир Соколов, многих еще могла бы перечислить. Однажды видела Бориса Леонидовича Пастернака, но мельком, он забежал на минуту. Приходили в дом отца и молодые – Евтушенко, Рождественский, Ахмадулина. Впрочем, возможно, с ними я встретилась уже после смерти папы. Первое время они бывали на каждой печальной годовщине.
Сильное впечатление произвел на меня Александр Александрович Стрепихеев – химик, профессор, первый муж Елены Леонидовны. Она ушла от него к папе, но Александр Александрович не превратил ее уход в драму. Более того, они с отцом очень подружились, нежно относились друг к другу. У папы есть посвященный Стрепихееву цикл стихов «Памяти друга», написанный после внезапной смерти Александра Александровича.
Это был незаурядный, глубокий человек. Широко образованный, с каким-то внутренним светом. Спокойный, добрый, ироничный. Я очень любила слушать их разговоры. Может быть, они меня во многом сформировали, расширили горизонты моего сознания, как впоследствии и мои посещения дома Ермолинских.
Чем дальше, тем больше мы сближались с отцом. Я взрослела и становилась для него интереснее и интереснее. Он часто вызывал меня телеграммами – «Позвони!», «Приезжай!»
А незадолго до смерти написал маме записку, которой я очень горжусь: «Ирина, спасибо тебе за дочку!»
Он начал водить меня в гости. Елена Леонидовна очень поощряла это. Я должна была сидеть рядом с отцом и, когда видела, что он пьянеет, подменять рюмки. Вместо водки наливала воду, вместо коньяка – холодный чай. С какого-то момента он переставал различать, что пьет.
Я очень любила ездить с ним в метро, направляясь на очередные посиделки. Мы входили в вагон, и все пассажиры сразу поворачивали головы в нашу сторону: величественный, импозантный, в широком пальто, мягкой шляпе, с тростью, отец выделялся из толпы и привлекал к себе всеобщее внимание. А я была рядом с ним.
Когда я рассказывала об этом маме, она лишь вздыхала, но никогда не запрещала мне эти поездки с ним в гости. Впрочем, она мне вообще никогда ничего не запрещала. И очень верила в меня.
Папа сильно пил в то время. С тех пор я ненавижу пьяных. Мне казалось, его пьянство навсегда. Но после первого инфаркта, случившегося у отца в 1952 году, он резко и сразу бросил пить и курить. И остававшиеся ему последние пять лет жизни стали для него плодотворным периодом творчества.
Но и в худшие времена, страдая и зачастую стыдясь за него, я очень, очень любила его. В нём было столько обаяния, доброты, таланта, какой-то глубинной честности и верности самому себе. В молодые годы он искренне и страстно хотел вписаться в эпоху, верил, что живет в великое время в великой стране. Стыдился своей интеллигентности. «Возьми же меня в переделку и двинь, грохоча, вперед!» Поэт, путешественник, романтик. Боже! Какие все стертые, звонкие и пустые слова. Как мне передать мою бесконечную любовь и нежность к нему, чтобы до конца выразить то, что переполняет мою душу.
Я узнавала его тогда, познаю всю жизнь через его стихи, к которым без конца возвращаюсь, через рассказы о нём и мгновенные воспоминания, вспыхивающие в душе. Спасибо Наталье Громовой, которая расшифровала, прочитала его записные книжки, стопкой лежавшие на полке под буддами. Почерк у отца был великолепный, но в книжках этих почти всё неразборчиво. Отрывочные слова набегают друг на друга, обрываются на середине… Видимо, часто это писалось на ходу, на колене. Для себя, не для других.
Но сколько всего мне открылось благодаря этим записям! Я думаю, отец был одним из самых образованных и восприимчивых людей своего времени. Он всё принимал близко к сердцу. У него была очень обманчивая внешность, особенно в молодости, – высокий, широкоплечий, громкоголосый красавец с ослепительной улыбкой и гордо посаженной головой. А характер был мягкий, податливый, немного капризный, иногда он мог проявить малодушие. В чём-то он был рабом своей внешности – пытался ей соответствовать. Отсюда громоподобность его первых стихов и поэм. Знаменитая «Песня о ветре», «Лозовая», «Курсантская венгерка», «Большевикам пустыни и весны». На самом деле он был лирик, и это очень проявилось в его последних книгах.
И еще об одном мне хотелось бы сказать. Я недавно прочитала книгу митрополита Антония (Храповицкого) «О Пушкине». Меня в ней поразила одна мысль. Автор пишет, что Пушкин был очень нравственным человеком, хотя жизнь вел во многом безнравственную. Но в стихах его билась живая совесть и высокая душа. Я подумала, что это можно отнести и к моему отцу, который никогда не лукавил в своем творчестве и если заблуждался, то искренне, а не ради карьеры и процветания. И за все срывы и ошибки расплачивался сполна.
Моё общение с ним было недолгим – всего восемь-девять лет, но это были годы юности, когда мне открывался мир, и я была бесконечно занята собой, своими проблемами, романами, выбором пути. От многого отмахивалась, многое не замечала.
Под конец его жизни мы очень сблизились, полюбили наши общения и беглые разговоры. Думаю, он даже стал нуждаться во мне – в притоке моей молодой энергии и моей восторженной любви.
38
В актив ЦДТ я попала почти случайно. Ненавижу эти советские словечки и аббревиатуры. Но именно так мы и говорили: «актив ЦДТ».
Какие-то незнакомые ребята прикрепляли кнопками к доске приказов объявление. Рядом с ними стояла наша завуч, моя родная тетя Эмма. «Значит, всё законно», – подумала я. Вокруг толпилось много народу, поскольку само по себе появление мальчиков в женской школе было событием.
Объявление гласило, что при Центральном детском театре создается «актив старшеклассников» и желающие могут прийти на собеседование в указанные дни и часы.
Объявление крайне заинтересовало меня, потому что к этому времени я уже была сумасшедшей театралкой и старалась всеми правдами и неправдами попасть на все спектакли, которые шли в Москве. Билеты тогда стоили сравнительно недорого. Маме нравилось моё увлечение, и она охотно давала мне деньги, выкраивая их из нашего более чем скромного бюджета. А тут, подумала я, может быть, появится возможность бесплатно ходить на спектакли. Я мечтала хоть немного приобщиться к волшебному миру театра.
В школе я никогда не подходила к тете Эмме, скрывая наше родство, о котором, само собой, все знали. Но тут не выдержала и робко спросила, могу ли я попробовать. Она снисходительно кивнула: «Отчего же не попробовать. Дело хорошее».
Совершенно не помню, как проходило собеседование, на которое я пошла с моей тогдашней приятельницей Ирой Калиновской. О чем-то нас спрашивали, на какие-то вопросы я, обмирая от страха, отвечала. Происходило это в педагогической части театра, которая вскоре стала нашим милым домом, куда мы приходили запросто, где нас приветливо встречали и всегда были нам рады.
Ира Калиновская, более бойкая, сразу понравилась, а меня приняли, по-моему, с ней за компанию.
Первое собрание вновь набранного «актива» проходило в фойе театра. Кроме педагогов, с которыми нам в основном предстояло иметь дело, пришел сам директор Шахазизов и любопытствующие актеры. Я смотрела во все глаза и слушала, боясь пропустить слово. Передо мной открылся новый мир. Не закулисье – это тоже будет, но потом, позже. А мир создателей искусства, тех, кто трудится, думает, ищет и находит. Лучше или хуже – как придется. Они хотели быть понятыми и нужными. Об этом и говорилось в первую очередь на собрании – о том, что творческому коллективу очень важно наше мнение, что мы представители зала и юных зрителей, для которых и создавались спектакли.
Я ушла ликующая и подавленная одновременно. До сих пор никогда никого не представляла, только самое себя. А тут такая ответственность.
Но всё оказалось легче и веселее, чем я воображала. Мы дежурили на спектаклях – ходили между рядами, унимали шалунов и болтунов-говорунов. Иногда даже выводили из зала – успокоиться и остыть. Злостных хулиганов среди них не было. Просто на ребят в театре обрушивалось столько нового и необычного, что они как бы защищались этими выплесками энергии. Впрочем, помню, как однажды Андрей Передерий привел за шиворот в педчасть двух третьеклашек, которые стреляли по актерам из рогаток. Их не стали «прорабатывать», просто посадили на стулья, и они, притихнув, стали свидетелями повседневной жизни нашего актива. Кто-то рассказывал о новой прочитанной книге или увиденном фильме. Кто-то жаловался, как трудно дежурить, когда приходят целыми классами, без родителей. Педагоги не успевали за всеми следить. А кто-то просто мирно беседовал с друзьями или педагогами. Когда прозвенел звонок на антракт, хулиганов отпустили, сказав, чтобы они больше так не делали. Они смирненько вышли, а потом сразу мы услышали топот и ликующие крики – они помчались к своим делиться новыми впечатлениями.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































