Читать книгу "Молоко с кровью"
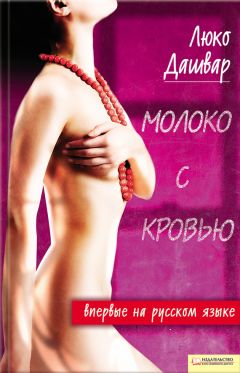
Автор книги: Люко Дашвар
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
– О! Немец! – удивился Лешкин дружка Николай. Бросился к бутылке. – А за молодых! За молодых! Ты где потерялся? Мы тут… А ты…
Налил полную стопку, Степке протянул.
– А что в руках? Брось! Пить будем. За молодых!
Степка вертел в руках большую коробку конфет и все оглядывался.
– Так это… куда ее? Поздравить хотел. Куда ее теперь?
– Съедим! – захохотал Николай и – к коробке, но Орыся – тут как тут.
– Давай мне, Степан. Спасибо за поздравления. Я молодым передам.
Степка отдал Орысе коробку, заглотил стопку горилки, заел огурцом, поправил очки.
– Пойду, наверное…
– Да подожди! А «горько»?! – разошелся пьяный Николай.
– Кому – «горько»? – хмыкнул немец. – Может, мы с тобой поцелуемся?
Николай задумался, вдруг усмехнулся, словно изобрел нечто неимоверное, оглянулся, Степку обнял и зашептал ему на ухо:
– Слышь, немец! А пошли к молодым… Станем под окном и ка-а-ак гаркнем им «горько»! Пусть в кровати подскочат! А?! Люди говорят, если во время этого дела хлопца с девкой напугать, так хлопец свой болт из девки вытянуть не сможет. Вот это будет забава!
– Пошли, – на удивление быстро согласился рыжий Степка. Попросил: – Только еще налей.
– С собой возьмем, а то еще задержимся, молодые уснут и пропадет забава! – постановил Николай, засунул в карман пиджака бутылку горилки, накидал на тарелку огурцов и кольцо колбасы, ткнул немцу в руки. – Будешь закусь нести.
И поперлись. Немец на пороге клуба остановился.
– Подожди! Сейчас… – и обратно в клуб. Со стола конфету шоколадную ухватил, в карман положил. На порог вышел.
– Эй, Колька… Ты где?
Под вербой возле клуба сладко храпел Лешкин дружка. Немец горько вздохнул, опустил голову и присел рядом с Николаем. Достал бутылку горилки из его пиджака, открыл… Оторвался, когда ни капли не осталось.
Следующим утром уже и солнце на небе показалось, уже и гости вновь потянулись к клубу, чтобы забаву продолжить, а молодых – нет и нет.
– Что-то они не очень торопятся, – нарисовался Николай. Предложил: – Давайте я за ними сбегаю.
– Да что ты все «сбегаю, сбегаю»! – возразила Орыся. – Стой и не рыпайся! Сами придут. Первая ночь… особенная. Зачем их лишний раз дергать? Может, они сейчас, как голуби, натешиться не могут.
…Голубь Лешка Ордынский голышом сидел на кровати и ошеломленно смотрел на белую, как предательство, простыню. А где… Где кровь невинности, чистоты и…
Покраснел, будто кто-то ему пощечину дал.
– Маруся…
Лежит на кровати у стены, коралловое намысто на белых грудях перебирает и улыбается мечтательно, да не ему, своему мужу законному, а куда-то – в даль дальнюю, словно там ее счастье, словно бы полетела к нему, словно… чужая.
– Маруся… Слышишь?
На мужа глянула.
– Вот я… Твоя Маруся…
Лоб рукой потер, будто от этого вопросов меньше стало, отважился:
– А это… почему простыня чистая? Должна бы… – и умолк.
– Я чистая, вот и простыня чистая, – и в глаза ему внимательно смотрит: веришь?
– Подожди… Не то говоришь… У тебя кто-то…
– Ночью, Леша, каждая девушка свою звезду видит. Одна к ней тянется, другая – за собой зовет, а третья – смотрит на нее и все тут. А ты думал, на всем небе ты один сияешь, как солнце?
– Погоди… Да что ж это… Не путай меня, Маруся! – и нотки грозные в голосе. Наконец. Наконец вспомнил, что мужик!
– Сам себя путаешь.
– Да как же…
На локте приподнялась, серьезной стала.
– Давай повенчаемся, – попросила. – Богу поклясться – не закорючку в сельсовете поставить…
– Шутишь или уничтожить меня захотела? Я – коммунист… Меня за это…
Погасла, отвернулась. Он – с кровати. В брюки вскочил, по комнате забегал. Остановился – и к Марусе. За руку схватил, сжал, запястье даже покраснело.
– Говори, а то убью!
– Твоя я.
– Точно?
– А еще с высшим образованием! – рассмеялась через силу, а рука уже посинела.
Испугался. Руку отпустил, целует ее.
– Прости меня… Любовь моя… Жить без тебя не могу. Мир перевернулся. Умоляю – правду скажи. Если там что-то и было… Прощу! Клянусь – прощу, только не лги, Маруся! Слышишь? Не лги! Был кто-то?
– Твоя я… – оттолкнула мужа, с кровати встала. – Книжек тебе накуплю. Учебник медицинский. По гинекологии. Может, поумнеешь и перестанешь меня за руки хватать.
– А что? Бывает как-то иначе? – ухватился за сомнение, как за соломинку.
– Бывает, – отрезала.
Всю неделю Ракитное гуляло и догуливало Марусину и Лешкину свадьбу. Неделю молодые при гостях быстренько целовались, выпивали по чарке и исчезали в Марусиной комнатушке с настежь открытыми окнами.
– Я Лешку понимаю! – размышлял Николай, когда ракитнянская молодежь собиралась около клуба и все сплетничала про пышную и красивую свадьбу.
– Стыд бы имели, – раздражалась горбоносая Татьянка. – Неужто им ночи мало?
– А вон они! Плывут наши рыбы! – радостно воскликнул баянист Костя, когда на пятый день еще хотелось выпить, а без молодых на халяву уже никто не наливал.
Глянули ракитнянцы – точно! От Марусиной хаты чешут молодые – Маруся в цветастом платье, просто светится, Лешка пиджак на плечо закинул и молодую жену под руку ведет.
– Куда это они? – заволновался Николай, потому что его, как и баяниста Костю, мучила жажда, а без молодых… Ну, не наливали, чтоб им пусто было!
Лешка с Марусей вышли со двора на улицу и остановились.
– А может, вернемся? – Лешка хитро глаз щурит. Вот, кажется, наелся за эти дни Маруси – аж через край, а только представит себе ее тело голое манящее, снова бы…
Маруся краешком губ – да как хочешь! И – к дому. А он смеется, за руку ее, к себе.
– Ну хорошо, хорошо… Пройдемся!
Она равнодушными глазами по улице повела.
– А я бы и вернулась.
Лешка смеется.
– Вот прямо тянешь меня в постель, ненасытная.
Маруся уже и головку мужу на плечо положила, уже и к дому шаг сделала, да заметила – на лавке у своего двора худой немец уселся, «Пегас» закурил и в землю пялится.
– А и пройдемся! – И потянула Лешку по улице. Под руку подхватила, спина выгнулась, подбородок – выше, выше…
Лешка пиджак поправил – с такой женой не то что по улице пройтись не стыдно, а хоть по Парижу. Идут, улыбаются…
– Подожди, Маруся, – говорит Лешка жене молодой. – Пойду с немцем поздороваюсь.
– Идем вместе.
Немец услышал шаги раньше, чем увидел Марусю и Лешку. Глаза напряг, очки поправил, встал… Стоит около лавки как прибитый.
– Привет немцам! – Лешка Степке ладонь протянул, пожал крепко. – А что это ты на нашу свадьбу не пришел?
– Был… – затянулся сигаретой, глаза отвел. – Это вас уже не было.
Лешка смеется, на Марусю хозяйским глазом.
– Да нас бы и сегодня не было… Вот я бы еще недели две с кровати не вставал, да жена, вишь, уперлась – дайте ей по улице пройтись, свежим воздухом подышать. Так, Маруся?
Молчит Маруся. Усмехается. На немца смотрит и коралловое намысто на груди перебирает. Степка покраснел и упал на лавку.
– Ну, ну… Потерпи уже. – Лешка Марусю обнял. – Какая же ты у меня горячая… Вот покурю и пойдем.
К немцу наклонился.
– Дай, Степа, прикурить женатому мужчине! – Обручальное кольцо немцу показывает и сигаретой к нему тянется.
Немец со своего окурка пепел стряхнул, Лешке протягивает, а сам – глаза в землю.
– Давай, немец! Будь здоров, не кашляй! – Лешка попрощался со Степой, согнул руку – мол, цепляйся, жена, пойдем уже.
Маруся молча взяла мужа под руку, и молодые пошли к клубу. Степа только и видел, что их ноги. Головы не поднял. Когда уже далече отошли, немец как-то неловко поднялся с лавки, бросил окурок под ноги и молча побрел в свой двор. Возле хаты остановился, достал из кармана конфету и выбросил прочь.
– Не понадобится, – пробормотал.
Сел на пороге и снова закурил.
«Помру я без нее, – подумал спокойно и горько. – К ней теперь и не подступиться». Почему-то вспомнился покойный отец, которого ракитнянские бабы все за вдов сватали, а он только плевал им под ноги, мол, отцепитесь уже, и одно талдычил, что была уже у него жена – Ксанка. «И зачем мне новая жена, когда я старую забыть не могу?» – не понимал калека.
«Помру я без нее», – подумал снова. Отец хоть пожил с мамой, а ему… Что – ему? Ночи.
Им лет по двенадцать было, когда однажды летней ночью немец как всегда, без надежд и ожиданий, принес конфету, положил ее на подоконник открытого Марусиного окна и уже хотел рвануть прочь, потому что наивно верил, что Маруся не догадывается, кто из ночи в ночь столько лет таскает ей сладости, как из открытого окна выглянула девочка. Немец убежал бы, но на тонкой шее в лунном свете увидел коралловое намысто и отчего-то замер, как последний дурак, заморгал, только и успел за вишню во дворе спрятаться.
– Немец… Это ты? – услышал тихий шепот от окна.
«Ну все. Задразнит!» – испугался и таки собрался бежать, однако ноги сами понесли к окну.
– Привет, Маруська, – буркнул, очки поправил. – А я вот на ставок иду… За рыбой… Дай, думаю, по дороге вишен натрясу у Маруськи. У вас вишни немаленькие, – и умолк. – А ты почему не спишь? Спи уже. Вон ночь на дворе.
– Известно, что ночь, – шепчет. – А ночью девушку звезда согревает…
– Как это? – не понял.
– Полезай в окно, – приказала.
– Зачем? – испугался.
– Потому что одна девушка на звезду смотрит и все, другая к ней тянется, а третья к себе манит…
Степка залез в комнату, от страха и непонятного волнения присел под окном. Маруся присела рядом и прошептала:
– Вот, немец, смотри мне! Если на другую глянешь – так все твои конфеты тебе прямо в рожу полетят.
– Да не гляну, – смутился.
– Клянись!
– Чтоб меня на куски разорвало!
– Что это за клятва такая дурная?
– Сама ты дурная! У меня маму гранатой разорвало.
– Ладно. Пусть тебя разорвет на куски! – согласилась.
– Не разорвет, – заволновался, очки снял, дышит на стекло, чтоб видеть лучше, а дело не в стекле, видимо. Встал. – Так я пойду?
Маруся что-то там себе покумекала, напротив немца стала, глаза закрыла.
– Можешь поцеловать. Но только раз.
– Хорошо, – растерялся, губы вытянул, Марусиной щеки едва коснулся, отшатнулся.
Девочка глаза открыла, брови сердито сдвинула, мол, что же ты делаешь, дурачок?!
– Теперь я, – серьезно.
Плечиком повела, подбородок – выше, к немцу потянулась и просто в губы – цем! Поцеловала и уста не отняла. В Степкиной голове – десять звонарей и дударь с дудкой, да все вместе – как заиграли! И мир перевернулся. Руками пошевелил… На месте. Не отняло. Вздрогнул, Марусю обнял, уста близкие целует, как может, а одного только хочется – бежать за тридевять земель, спрятаться ото всех, и от Маруси – тоже, и плакать от неожиданного и невероятного счастья.
Маруся Степку за плечи взяла, отодвинула.
– Хватит… Теперь уходи…
– Маруська, я тебя люблю, – прошептал отчаянно.
– Смотри мне! Люби! – приказала.
В соседней комнатке во сне вздохнула Орыся. Немец перепугался до смерти и выскочил в окно. Сколько раз позднее он вот так прыгал в ночную темень Марусиного двора? И не припомнить теперь.
Когда немцу исполнилось четырнадцать, калека Григорий слег и уже не поднялся. За жизнь не цеплялся, но умирал тяжело, словно чьи-то грехи отрабатывал. Хрипел на кровати у окна и все звал Ксанку. Ракитнянские бабы взяли его под свою опеку, гнали Степку из дома, мол, не рви душу, бедолага, все равно не поможешь, но немец все сидел около отца как привязанный вплоть до того позднего вечера, когда Григорий вдруг открыл глаза и прошептал тихо и четко:
– Сходи… К рыбке… своей…
– А и то, – подхватили бабы, предчувствуя близкий конец. – Сходи, Степа, на ставок… Чего в хате сидеть? Рыбы наловишь, отца порадуешь…
Сколько раз после смерти отца Степка все думал и думал над его последними словами и никак не мог понять их скрытого смысла, потому что не мог знать калека про Марусю. Никто не знал.
– Хорошо… Пойду… – встал.
Тетку Орысю увидел у дверей, смутился, голову опустил:
– Я быстро…
Луна тревожила черную ночь холодным белым сиянием, гасила звезды, касалась верхушек деревьев и крыш, и казалось, звезды померкнут, деревья и крыши сейчас запылают таким же белым холодным пламенем, станут пеплом и навеки растают, оставляя властвовать в бескрайней тьме только это холодное жестокое светило.
Степка дошел до сиреневого куста, увидел в открытом окне силуэт – бледные до голубизны голые руки, плечи… И намысто – аж черное в лунном свете. Вздохнул горько и впервые пошел к Марусиному окну не прячась. Заскочил в комнату, упал на пол под окном, прошептал:
– Маруся… У меня отец так сильно болеет… А если помрет?
– Выздоровеет. – Маруся присела рядышком, прижалась к немцу.
– А вдруг помрет?.. Меня ж тогда… в интернат… от тебя…
– Нет!
Со двора послышались шаги. Степка напрягся, на Марусю испуганно зыркнул.
– Замри… – прошептала, к окну стала. – Мама?
К окну подошла заплаканная Орыся.
– Гришка Барбуляк помер, – сказала.
Маруся замерла. В комнатке под окном в ее ногу вцепился Степка Барбуляк, сжал судорожно челюсти, чтобы не закричать.
– Я к Старостенко… – всхлипнула Орыся. – Сообщить… А ты, доченька, беги к бабе Чудихе… Скажи, пусть идет к Барбуляковой хате да хоть какую-то молитву над покойным прочитает…
– Не пойду…
Орыся зыркнула на дочку удивленно.
– Э, девка! Не время фокусы показывать. У людей горе…
– Не пойду, – прошептала упрямо.
– Да что с тобой, Маруся?! – рассердилась Орыся. – А ну быстро к Чудихе!
– Не пойду! – отчаянно выкрикнула. – …Боюсь!
– Тьфу на тебя! Боится она… – махнула рукой Орыся и побежала со двора.
Маруся провела мать взглядом, наклонилась к немому, окаменевшему немцу, что так и сидел на полу, вцепившись в ее ногу. Погладила по рыжим волосам. Задержала дыхание, словно дыхание могло разрушить неожиданную необъяснимую гармонию…
– А дай-ка… – рукой к пуговице на сорочке.
Вздрогнул, глянул на нее беспомощно, как дитя малое. Расстегнула. Рядом с немцем на пол уселась. Брови сдвинула – думает… Выдохнула.
– А дай-ка… – задрожала. Потянулась к нему. Коснулась губами голой шеи.
Напрягся. Очки снял – диво! Все расплывается вокруг, только Марусю видит, да так четко, словно наилучшие очки на носу. Рукой – по черным косам. На плече зацепился за какую-то лямку, дернул – легкое платьишко сползло, оставило на голой груди только красные бусинки. Маруся странно усмехнулась, осторожно взяла красные кораллы. Намысто натянулось… Она припала к Степке и накинула намысто на его шею: одно на двоих, судьба-хомут. Впряглись – тяните! Дальше, чем на вздох, – не отойти. Ближе, чем сейчас, – не бывает.
Намысто врезалось немцу в затылок, но он не ощущал боли. Как в нереальном сне намысто тянуло его на пол, на Марусю – такую испуганную и такую отважную. Разлетелась одежда, сверчки за окном вдруг умолкли, и весь мир стал единой первозданной силой, помогая двум юным созданиям преодолеть непонятный, радостный, отчаянный страх.
Неожиданно немец почувствовал себя невероятно сильным. Он не понимал, да и не пытался понять, откуда вдруг взялась эта богатырская сила, что заставляет его действовать не поспешно, а уверенно и нежно, в одном ритме с биением сердца.
Когда наконец оторвался от Маруси, увидел на полу кровь. А в Марусиных глазах – слезы. Испугался.
– Маруся… Я тебя обидел?
– Нет, – прошептала.
– Кровь… – испугался еще больше.
– Так бывает…
– Ты же плачешь?
– Вот такая глупая! – засмеялась тихо. – Сердце радуется, а я плачу…
Немец вдруг вспомнил слова тетки Орыси под окном. Отец… На Марусю виновато глянул.
– Беги, – прошептала. – Да смотри… На интернат чтоб не соглашался…
Немец прыгнул в окно и, прежде чем ноги коснулись земли, почувствовал необыкновенную свободу полета. Поднял голову – луна исчезла, словно и не было. На целом небе сияла одна звезда.
– Убегу! Хоть на край света меня отправляйте – все равно убегу. Мне из Ракитного нельзя, – хмуро отвечал Степка председателю Старостенко, когда калеку Барбуляка похоронили и встал вопрос – что делать с его сыном.
Старостенко поворчал, поворчал, но опекунство над несовершеннолетним Степкой оформил по всем правилам.
– Это ж не война, чтоб хлопца в интернат упрятать, – объяснил жене. – Пусть живет с нами.
Но Степка переезжать к председателю отказался наотрез. Сам хозяйничал в родительском доме, да так умело, что через полгода председатель уже не бегал каждый день проверять, как там его подопечный.
Когда восемнадцать стукнуло и в военкомате поставили крест на желании Степки послужить в армии и, может, хоть тем доказать, что зря ракитнянцы его немцем дразнят, он встретил как-то Марусю на улице и сказал:
– Маруся! Может, давай и днем встречаться? В клуб бы там ходили, на танцы или просто… Зачем прятаться?
– Я? С тобой? – рассмеялась. – Да ты сдурел, немец?
– А почему ж… – хотел спросить, почему ж ночью ласкаются, как ненормальные, да не отважился.
– Что это ты? – нахмурилась.
– Да ничего. – Глаза в землю.
– Может, скажешь еще, что не любишь меня? – С вызовом.
– Люблю, – прошептал.
– Так зачем ты мне голову морочишь? – Маруся махнула косами и пошла к конторе. Как раз секретаршей к председателю устроилась, очень этим гордилась и к работе относилась ответственно – во всяком случае, и на минутку никогда не опаздывала.
И тогда в первый и последний раз за все годы их удивительного тайного романа немец осмелился днем сказать Марусе больше, чем десять слов. Она пошла, а он поковырял ботинком землю, спохватился и бросился догонять.
Ох и не понравилось это Марусе! Остановилась, уничтожила взглядом и спросила, словно пощечин надавала:
– Да что это ты, Степка, за мной ходишь? Не хватало еще, чтобы люди сплетничать начали.
– Слышь, Маруська… – умолк, воздуха в грудь набрал. – А зачем я тебе ночью, если днем…
– Что ты, немец, путаешь грешное с праведным. День… Он для работы. И на небе, если туч нет, так только солнце. А ночью каждую девушку своя любовь-звезда согревает.
– Зачем же любовь в ночах прятать? Любовь – это же красота.
Горько глянула.
– Для людей, Степа, красота – то кровь с молоком. А мы с тобой – молоко с кровью. То же самое, а люди заплюют. Понимаешь?
– Нет…
– Так и не приходи больше никогда, крот слепой! – рассердилась. И пошла к конторе. Немец так и остался посреди улицы. Голову поднял – солнце.
– Помру я без нее, – поставил в воспоминаниях точку. Снова закурил. – Нужно утопиться. Точно. Вот пойду ночью под сирень, на окна ее гляну и – на ставок. Утоплюсь.
Ракитное спало, потому что натрудилось за день, как проклятое. Все спало – и люди, и куры, и свиньи, и коровы, и собаки с котами, и даже мыши, потому что нигде и тихого шелеста не услышишь. Казалось, эти куры со свиньями, коровами и даже малыми мышами знали, что люди за день все жилы порвали, вот и молчали, чтоб дать им отдохнуть.
Степка вышел на улицу. Тихо. Закурил и пошел к Марусиной хате. Под сиреневым кустом стал, «Пегасом» дымит.
– Вот и вся любовь, Маруська!
Из-под сирени на окно в последний раз глянул – закрыто. Усмехнулся – а как иначе?! Верно, муж приказал закрыть. «Прощай, Маруська! – подумал. – Записку после себя не оставлю. Кому писать? Некому. А ты… Ты и так все поймешь. Прощай!» Бросил окурок под куст и хмыкнул: сколько же раз он тут вот так топтался, если окурков целая горка высится?
– Да всю жизнь и протоптался, – пробормотал.
И пошел к ставку. Шагов десять сделал, а в ракитнянской ночной тишине оконце – скри-и-ип. Замер. Оглянулся. Просто так оглянулся. На всякий случай. Потому что тишина бескрайняя давила, за ноги цеплялась, словно сердилась на дурного хлопца, что шатается здесь, когда спать нужно.
Оглянулся… И помертвел – в открытом Марусином окне тихо звенело стекольце.
Немец не поверил. Протер очки, на нос напялил, всмотрелся – открыто! – и все равно не поверил.
– Вот, значит, решила посмеяться надо мной, Маруська? – вздохнул и дальше было к ставку пошел, но снова оглянулся: а ну как привиделось?
Да нет. Не привиделось. Открытое оконце. Ветерок занавеску наружу вытянул, играет, словно насмехается.
Степка воровато оглянулся и пошел к окну.
У сирени традиции не изменил: стал под куст, курил не курил, окурок бросил и отыскал старую дырку в таком же старом заборе. «А что они мне сделают?! – билось в висках. – Высмеют? Ну и пусть! Все равно все село надо мной смеется – немец-несчастье. Да и она! И она сама насмехается. Это ж надо – замуж выскочила, на улицу с муженьком выперлась, а сама передо мной намысто по груди катает. Сумасшедшая, не иначе. Чего хочет? И зачем окно открыла? Для меня? Да нет! Скорее всего, хочет Лешеньке своему показать, какой у нее верный раб есть, какую она себе прихоть завела было лет сто назад. Скорее всего. А я… А мне все равно. Мне вот просто интересно, зачем Маруська окно открыла. Издалека погляжу и пойду. Нет у меня времени в чужие окна долго заглядывать. Мне еще это… еще нужно успеть утопиться».
До окна – метра три, не меньше. Темно, хоть глаз выколи. Ничего не видно. Степка подкрался к раскидистой вишне, спрятался за нее и осторожно выглянул – никого. Потоптался минуту-другую. Только из-за вишни вышел, слышит – мужик захрапел. Да так душевно захрапел, что аж стекла в окнах задрожали. «Лешка, кто ж еще», – подумал Степка и уже было сделал шаг к дырке в заборе, как увидел Марусю: из окна во двор наклонилась, словно высматривает кого-то – и намысто коралловое с шеи свисает.
– А чего это ты не спишь, Маруся? Вон ночь на дворе. Еще не наигралась с молодым своим или уже ухайдокала его до ручки? – не то прохрипел, не то простонал.
– Да смотрю, немец куда-то по ночи чешет. Дай, думаю, спрошу, куда собрался?
– А пойду утоплюсь, – сказал Степка.
– А меня на кого? – Спину выровняла, подбородок – выше.
– Да на него! – мотнул головой в сторону комнатки.
– Так хоть заскочи попрощаться, – говорит вроде бы и серьезно, а немцу – один смех в ее голосе.
– Так когда?
– Так сейчас! – И вот вроде бы серьезно снова, а немцу хохот слышится. Рассвирепел: издевается румынка, даже умереть спокойно не дает.
– Смотри, Маруська! – прошептал люто. – Сама напросилась. Вот сейчас в окно влезу, назад не выпихнешь!
– И с чего бы это я тебя выпихивала? – снова серьезно.
Степка враз остыл, голова кругом, ноги слабые, и плакать хочется.
– Слышь… Маруся… Конец нам. Конец… Ты теперь замужняя стала.
Рот рукой прикрыла, рассмеялась тихо.
– Ох и болтливым ты стал…
– Да как же мы… В комнате этот, твой… спит.
– А я не сплю. – Наклонилась, приказала: – Давай уже…
Немец обо всем забыл. Забралася на подоконник и спустя миг исчез в открытом окне. И за этот миг таким героем себя почувствовал – словно вместо Гагарина в космос слетал. А в комнатку прыгнул – мама родная! На кровати Лешка храпит, у окна Маруся в одной сорочке с намыстом на шее, и вот между ними – он, как кизяк в проруби.
Закрутился на одном месте.
– Да… пойду, наверное, – шепчет и голоса своего не слышит.
Маруся улыбнулась, шагнула к Степке, закрыла ему рот поцелуем. Оторвалась. На Лешку кивнула.
– И ты бы меня на него покинул?
– Сама на него бросилась, – ответил горько.
– Чтобы не топился, – приказала Маруся.
– Все равно пропаду, – прошептал.
– А я тебя женю, Степа, – ответила. – Ровней будем. У меня – вот этот, а ты, например, Татьянку горбоносую возьмешь… А ночи – наши…
– Маруська, да ты… Румынка сумасшедшая, – испугался.
Она приложила палец к губам, мол, тихонечко мне, и опустилась на пол. Степкины ноги подкосились, будто обрадовались, – и так едва немца держали. Он опустился на пол рядом с Марусей и, пока ее быстрые руки нетерпеливо расстегивали пуговицы на его сорочке, осторожно отодвинул подальше Лешкину руку, которая упала с кровати и свисала прямо над Степкиным носом.
Через год снова лето запекло.
– И чего это ты, немец, все лыбишься? – спросил баянист Костя, когда однажды утром пришел в тракторную бригаду и увидел, как немец без печали в тракторе ковыряется.
– А по ком слезы лить? – подозрительно зыркнул Степка. Перестал улыбаться.
– А сам узнаешь! – Костя недобро оскалился и присел на колесо трактора. – Иди, немец! Получишь сейчас нахлобучку за все свои похождения.
Степка побелел, растерянно вытер замасленные руки о рабочие штаны и поправил очки.
– Ты того… Что такое? Куда идти?
– В контору, куда ж еще? – удивленно пожал плечами Костя. – Ради какого-то немца меня по бригадам бегать заставили!
– А что там, в конторе?
– Там и председатель, и секретарь парткома, и Лешка Ордынский… Он же теперь в хозяйстве второй человек после Старостенко. Ждут тебя, немец. Готовь сраку!
Степка вздохнул и побрел к конторе. «Да разве могло быть иначе? – горевал мысленно. – Кто-нибудь когда-нибудь, но узнать должен был… Что теперь будет? Хоть бы Марусю не трогали…»
На то время колхоз уже богатым стал. Новую контору в центре Ракитного возле клуба построил, начал колхозникам новые дома ставить, без печей – с газом. Степка остановился около аккуратно покрашенного белым заборчика, который охранял цветник вокруг конторы, и толкнул дверь.
В конторском коридоре темно, хоть глаз выколи: верно, скупенький Старостенко справедливо рассудил, что в коридоре дела не делаются, и решил сэкономить на электричестве. Степка прошел мимо нескольких закрытых дверей, за которыми шуршала бумагами колхозная элита – бухгалтерша, агроном, два животновода и инженер-механик, который и был немцу начальником, и обреченно остановился перед дверью кабинета председателя колхоза Матвея Ивановича Старостенко, потому что в Ракитном знали все – когда требовалось кого-то обуздать, так секретарь парткома Петр Ласочка и председатель сельсовета Панасюк собирались вместе тут, в кабинете председателя колхоза Матвея Старостенко, и вот втроем без пыток и издевательств, а только одними своими словами так могли запилить норовистого, что тот выходил шелковым и послушным. Но чтобы попасть в кабинет председателя, нужно было пройти еще и через приемную. А в приемной сидела Маруся. И немец перепугался до смерти – стоит у закрытых дверей, а открыть их никак не решается.
– Немец! Ты чего дорогу загораживаешь? – горластая бухгалтерша без церемоний толкнула его в бок.
– Председатель… вызвал, – выдавил Степка.
– Так иди, трясця матери, – расходилась. – Вот босяки! Выдумают что угодно, только бы им не работать, а за трудодни так первыми глотки дерут!
Степка выдохнул и открыл дверь. Маруси в приемной не было. Тут дверь кабинета Старостенко открылась, в приемную выглянул председатель.
– О! Поминали волка, а он уже и тут, – смерил немца взглядом. – Проходи, Степан. Разговор имеется.
Степка напрягся и шагнул в кабинет председателя. Очки мигом запотели, но немец увидел – народа в кабинете больше троицы, которая обычно вытряхивала душу из ракитнянских горячих голов.
Председатель Старостенко прикрыл дверь и уселся за стол. На стульях у приставного столика сидели секретарь парткома Петр Ласочка, лысый, как бубен, и въедливый, как осенняя муха, около него, как и обычно, председатель сельсовета Панасюк – старый и уже к жизни не очень рьяный, напротив Панасюка деловито перебирал бумажки Лешка Ордынский в чистой, аж хрустящей, сорочке и пестром галстуке, рядом с ним поправлял очки на носу совсем незнакомый немцу, нездешний человек. А у открытого из-за летней духоты окна… А у окна стояла Маруся, и немцу почудилось, что бледная как призрак, настороженная, печальная.
Лешка отодвинул бумаги, встал из-за стола, подхватил один из стульев, которые выстроились вдоль стены, поставил его перед Старостенковым столом посреди кабинета и указал на него немцу.
– Присядь, Степан.
Степка как в яму могильную – бух!
– Да что это ты мне тут… Стулья ломать надумал? – сдвинул брови хозяйственный председатель. – Мало того что позоришь Ракитное на весь район, так еще и…
Степка встал.
– Ну… отремонтирую…
– Знаем мы вас, таких, – зазудел секретарь парткома. – Как на субботник, так не дозовешься.
– Да… отремонтирую… – и сел. Ноги не держали.
Старостенко поднялся из-за стола, обошел кабинет и стал перед немцем как кара Господня.
– Ну! И вот что нам теперь с тобой делать?
– Да делайте уже, что хотите, – голову опустил. – Могу новых стульев настрогать, если уже…
– И что ты мне этими стульями голову забиваешь? – рассердился Старостенко. – Что мы, Степа, с тобой делать будем?
– Не буду больше… – прошептал и на Марусю – зырк.
– Чего «не будешь»? – насупился Старостенко.
– Да… ничего… не буду.
– А я вам говорил – неподходящая кандидатура! – вставил секретарь парткома. – Разве таких направляют за счет хозяйства на учебу? Вы ж только посмотрите – ему все по барабану. В селе знают – днем немец под трактором валяется, ночью на ставке рыбу ловит. Вот это и все интересы у человека. Ни тебе вдохновения, ни стремления самоутвердиться, новую профессию освоить или новые знания в работе использовать. В самодеятельность калачом не заманишь. Честь колхоза в прошлом году на районных соревнованиях отстаивали, так все хлопцы жилы рвали, а немец на лавке около хаты папироской дымил. Совсем неподходящая кандидатура.
– Что за учеба? – не поверил Степка.
– А рыбы хоть много ловишь? – проснулся от старческой спячки председатель сельсовета Панасюк. – На макуху?
– Так! Хватит тут мне лясы точить! – прикрикнул Старостенко. – Дело серьезное. – На незнакомца кивнул. – Уважаемый человек из района приехал с разнарядкой. Должны отправить ракитнянца на учебу.
– Я… не хочу из Ракитного… – покраснел Степка.
Старостенко вздохнул, затылок почесал, тяжелую ладонь немцу на плечо положил.
– А что делать? Должен, потому что разнарядка пришла на мужчину со стажем работы в хозяйстве. Мы тут перебрали – ты один подходишь.
– Не нужно мне это… – покраснел сильнее.
Старостенко нахмурился.
– Смотрю я на тебя, Степа… Вроде ж и неплохой хлопец. Не пьешь, в технике разбираешься, а чего-то тебе не хватает… Знаний не хватает! Так?
Незнакомец из района бумагами пошелестел, напомнил председателю колхоза:
– У вас еще с демографическими показателями не очень-то…
Старостенко зыркнул на районного, руки за спину заложил и заходил вокруг Степки, как вокруг новогодней елки.
– Вот, вот… То-то и оно! – остановился да как хлопнет Степку по плечу. – А женись! Верно я говорю? На демографических показателях отработаешь, если учиться не хочешь. В народе говорят: до тридцати – не женатый, до сорока – не богатый, выходит, совсем пропащий.
– Нет мне еще тридцати. – Степка растерялся окончательно.
– Нет, нет… Но уже и не восемнадцать. Как ты вот без женщины управляешься?
– Известно как, – хохотнул Ласочка.
– На селе девок – как вшей в солдатской портянке, – вел свое Старостенко. – Взять, например… – к Марусе обернулся, – как ты, Маруся, говорила, ту девку звать?
– Татьянка, – впервые заговорила Маруся.
Степка глаза опустил, кровь аж под кадык. «Проклятая, – задохнулся от гнева. – Что делает? Что делает, паскуда?! Совсем хочет меня со свету сжить!»
– Татьянка! – подхватил Старостенко. – Хорошая девка! Вот только что нос горбом, так и ты, Степа, не первый парень на селе. Как раз пара. Колхоз тебе свадьбу организует. Хату дадим. – На Лешку глянул. – Дадим?
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!





























