Читать книгу "В людях"
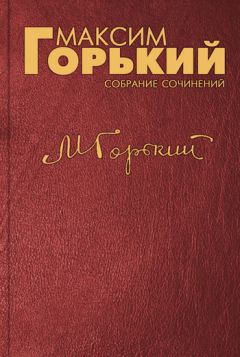
Автор книги: Максим Горький
Жанр: Русская классика, Классика
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
Глава XIII
Иконописная мастерская помещалась в двух комнатах большого полукаменного дома; одна комната о трех окнах во двор и двух – в сад; другая – окно в сад, окно на улицу. Окна маленькие, квадратные, стекла в них, радужные от старости, неохотно пропускают в мастерскую бедный, рассеянный свет зимних дней.
Обе комнаты тесно заставлены столами, за каждым столом сидит, согнувшись, иконописец, за иным – по двое. С потолка спускаются на бечевках стеклянные шары; налитые водою, они собирают свет лампы, отбрасывая его на квадратную доску иконы белым, холодным лучом.
В мастерской жарко и душно; работает около двадцати человек «богомазов» из Палеха, Холуя, Мстеры; все сидят в ситцевых рубахах с расстегнутыми воротами, в тиковых подштанниках, босые или в опорках. Над головами мастеров простерта сизая пелена сожженной махорки, стоит густой запах олифы, лака, тухлых яиц. Медленно, как смола, течет заунывная владимирская песня:
Какой нынче стал бессовестный народ —
При народе мальчик девочку прельстил…
Поют и другие песни, тоже невеселые, но эту – чаще других. Ее тягучий мотив не мешает думать, не мешает водить тонкой кисточкой из волос горностая по рисунку иконы, раскрашивая складки «доличного», накладывая на костяные лица святых тоненькие морщинки страдания. Под окнами стучит молоточком чеканщик Гоголев – пьяный старик, с огромным синим носом; в ленивую струю песни непрерывно вторгается сухой стук молотка – словно червь точит дерево.
Иконопись никого не увлекает; какой-то злой мудрец раздробил работу на длинный ряд действий, лишенных красоты, не способных возбудить любовь к делу, интерес к нему. Косоглазый столяр Панфил, злой и ехидный, приносит выстроганные им и склеенные кипарисовые и липовые доски разных размеров; чахоточный парень Давидов грунтует их; его товарищ Сорокин кладет «левкас»; Миляшин сводит карандашом рисунок с подлинника; старик Гоголев золотит и чеканит по золоту узор; доличники пишут пейзаж и одеяние иконы, затем она, без лица и ручек, стоит у стены, ожидая работы личников.
Очень неприятно видеть большие иконы для иконостасов и алтарных дверей, когда они стоят у стены без лица, рук и ног, – только одни ризы или латы и коротенькие рубашечки архангелов. От этих пестро расписанных досок веет мертвым; того, что должно оживить их, нет, но кажется, что оно уже было и чудесно исчезло, оставив только свои тяжелые ризы.
Когда «тельце» написано личником, икону сдают мастеру, который накладывает по узору чеканки «финифть»; надписи пишет тоже отдельный мастер, а кроет лаком сам управляющий мастерскою, Иван Ларионыч, тихий человек.
Лицо у него серое, бородка тоже серая, из тонких шелковых волос, серые глаза как-то особенно глубоки и печальны. Он хорошо улыбается, но ему не улыбнешься, неловко как-то. Он похож на икону Симеона Столпника – такой же сухой, тощий, и его неподвижные глаза так же отвлеченно смотрят куда-то вдаль, сквозь людей и стены.
Через несколько дней после того, как я поступил в мастерскую, мастер по хоругвям, донской казак Капендюхин, красавец и силач, пришел пьяный и, крепко сцепив зубы, прищурив сладкие, бабьи глаза, начал молча избивать всех железными кулаками. Невысокий и стройный, он метался по мастерской, словно кот в погребе среди крыс; растерявшиеся люди прятались от него по углам и оттуда кричали друг другу:
– Бей!
Личнику Евгению Ситанову удалось ошеломить взбесившегося буяна ударом табурета по голове. Казак сел на пол, его тотчас опрокинули и связали полотенцами, он стал грызть и рвать их зубами зверя. Тогда взбесился Евгений – вскочил на стол и, прижав локти к бокам, приготовился прыгнуть на казака; высокий, жилистый, он неизбежно раздавил бы своим прыжком грудную клетку Капендюхина, но в эту минуту около него появился Ларионыч в пальто и шапке, погрозил пальцем Ситанову и сказал мастерам, тихо и деловито:
– Вынести его в сени, пусть отрезвеет…
Казака вытащили из мастерской, расставили столы, стулья и снова уселись за работу, перекидываясь краткими замечаниями о силе товарища, предрекая, что его когда-нибудь убьют в драке.
– Убить его трудно, – сказал Ситанов очень спокойно, как говорят о деле, хорошо знакомом.
Я смотрел на Ларионыча, недоуменно соображая: почему эти крепкие, буйные люди так легко подчиняются ему?
Он всем показывал, как надо работать, даже лучшие мастера охотно слушали его советы; Капендюхина он учил больше и многословнее, чем других.
– Ты, Капендюхин, называешься – живописец, это значит, ты должен живо писать, итальянской манерой. Живопись маслом требует единства красок теплых, а ты вот подвел избыточно белил, и вышли у богородицы глазки холодные, зимние. Щечки написаны румяно, яблоками, а глазки – чужие к ним. Да и неверно поставлены – один заглянул в переносье, другой на висок отодвинут, и вышло личико не святочистое, а хитрое, земное. Не думаешь ты над работой, Капендюхин.
Казак, слушая, кривит лицо, потом, бесстыдно улыбаясь бабьими глазами, говорит приятным голосом, немножко сиплым от пьянства:
– Эх, Иван Ларионыч, отец, – не мое это дело. Я музыкантом родился, а меня – в монахи!
– Усердием всякое дело можно одолеть.
– Нет, что такое я? Мне бы в кучера да тройку борзых, э…
И, выгнув кадык, он отчаянно затягивает:
Э, и-ах за-апрягу я тройку борзых
Темно-карих лошадей,
Ох, да и помчуся в ноченьку морозну
Да прямо – ой, прямо к любушке своей!
Иван Ларионович, покорно улыбаясь, поправляет очки на сером, печальном носу и отходит прочь, а десяток голосов дружно подхватывают песню, сливаясь в могучий поток, и, точно подняв на воздух всю мастерскую, мерными толчками качает ее.
По привычке – кони знают,
Где су-дарушка живет…
Ученик Пашка Одинцов, бросив отливать желтки яиц, держа в руках по скорлупке, великолепным дискантом ведет подголосье.
Опьяненные звуками, все забылись, все дышат одной грудью, живут одним чувством, искоса следя за казаком. Когда он пел, мастерская признавала его своим владыкой; все тянулись к нему, следя за широкими взмахами его рук, – он разводил руками, точно собираясь лететь. Я уверен, что если бы он, вдруг прервав песню, крикнул: «Бей, ломай все!» – все, даже самые солидные мастера, в несколько минут разнесли бы мастерскую в щепы.
Пел он редко, но власть его буйных песен была всегда одинаково неотразима и победна; как бы тяжело ни были настроены люди, он поднимал и зажигал их, все напрягались, становясь в жарком слиянии сил могучим органом.
У меня эти песни вызывали горячее чувство зависти к певцу, к его красивой власти над людьми; что-то жутко волнующее вливалось в сердце, расширяя его до боли, хотелось плакать и кричать поющим людям:
«Я люблю вас!»
Чахоточный, желтый Давидов, весь в клочьях волос, тоже открывал рот, странно уподобляясь галчонку, только что вылупившемуся из яйца.
Веселые, буйные песни пелись только тогда, когда их заводил казак, чаще же пели унылые и тягучие о «бессовестном народе», «Уж как под лесом-лесочком» и о смерти Александра I: «Как поехал наш Лександра свою армию смотреть».
Иногда, по предложению лучшего личника нашей мастерской Жихарева, пробовали петь церковные, но это редко удавалось. Жихарев всегда добивался какой-то особенной, только ему одному понятной стройности и всем мешал петь.
Это был человек лет сорока пяти, сухой, лысый, в полувенце черных, курчаво-цыганских волос, с большими, точно усы, черными бровями. Острая густая бородка очень украшала его тонкое и смуглое, нерусское лицо, но под горбатым носом торчали жесткие усы, лишние при его бровях. Синие глаза его были разны: левый – заметно больше правого.
– Пашка! – кричал он тенором моему товарищу, ученику. – Ну-ка, заведи: «Хвалите!» Народ, прислушайся!
Вытирая руки о передник, Пашка заводил:
– «Хва-алите…»
– «…и-имя господне», – подхватывало несколько голосов, а Жихарев тревожно кричал:
– Евгений – ниже! Опусти голос в самые недра души…
Ситанов глухо, точно в бочку бьет, взывает:
– «Р-раби господа…»
– Не то-о! Тут надо так хватить, чтобы земля сотряслась и распахнулись бы сами собою двери, окна!
Жихарев весь дергался в непонятном возбуждении, его удивительные брови ходят по лбу вверх и вниз, голос у него срывается, и пальцы играют на невидимых гуслях.
– Рабы господа – понимаешь? – многозначительно говорит он. – Это надо почувствовать до зерна, сквозь всю шелуху. Р-рабы, хвалите господа! Как же вы, народ живой, не понимаете?
– Это у нас никогда не выходит, как вам известно, – вежливо говорит Ситанов.
– Ну, оставим!
Жихарев обиженно принимается за работу. Он лучший мастер, может писать лица по-византийски, по-фряжски и «живописно», итальянской манерой. Принимая заказы на иконостасы, Ларионыч советуется с ним, – он тонкий знаток иконописных подлинников, все дорогие копии чудотворных икон – Феодоровской, Смоленской, Казанской и других – проходят через его руки. Но, роясь в подлинниках, он громко ворчит:
– Связали нас подлиннички эти… Надо сказать прямо: связали!..
Несмотря на важное свое положение в мастерской, он заносчив менее других, ласково относится к ученикам – ко мне и Павлу; хочет научить нас мастерству – этим никто не занимается, кроме него.
Его трудно понять; вообще – невеселый человек, он иногда целую неделю работает молча, точно немой: смотрит на всех удивленно и чуждо, будто впервые видя знакомых ему людей. И хотя очень любит пение, но в эти дни не поет и даже словно не слышит песен. Все следят за ним, подмигивая на него друг другу. Он согнулся над косо поставленной иконой, доска ее стоит на коленях у него, середина упирается на край стола, его тонкая кисть тщательно выписывает темное, отчужденное лицо, сам он тоже темный и отчужденный.
Вдруг он говорит, четко и обиженно:
– Предтеча – что такое? Течь, по-древнему, значит – идти. Предтеча – предшественник, а не иное что…
В мастерской становится тихо, все косятся в сторону Жихарева, усмехаясь, а в тишине звучат странные слова:
– Его надо не в овчине писать, а с крыльями…
– Ты – с кем говоришь? – спрашивают его.
Он молчит, не слышит вопроса или не хочет ответить, потом – снова падают в ожидающую тишину его слова:
– Жития надо знать, а кто их знает – жития? Что мы знаем? Живем без окрыления… Где – душа? Душа – где? Подлиннички – да! – есть. А сердца – нет…
Эти думы вслух вызывают у всех, кроме Ситанова, насмешливые улыбки; почти всегда кто-нибудь злорадно шепчет:
– В субботу – запьет…
Длинный, жилистый Ситанов, юноша двадцати двух лет, с круглым лицом без усов и бровей, печально и серьезно смотрит в угол.
Помню, закончив копию Феодоровской Божией Матери, кажется, в Кунгур, Жихарев положил икону на стол и сказал громко, взволнованно:
– Кончена матушка! Яко чаша ты, – чаша бездонная, в кою польются теперь горькие, сердечные слезы мира людского…
И, накинув на плечи чье-то пальто, ушел – в кабак. Молодежь засмеялась, засвистала; люди постарше завистливо вздохнули вслед ему, а Ситанов подошел к работе, внимательно посмотрел на нее и объяснил:
– Конечно, он запьет, потому что жалко сдавать работу. Эта жалость – не всем доступна…
Запои Жихарева начинались всегда по субботам. Это, пожалуй, не была обычная болезнь алкоголика-мастерового; начиналось это так: утром он писал записку и куда-то посылал с нею Павла, а перед обедом говорил Ларионычу:
– Я сегодня – в баню!
– Надолго ли?
– Ну, Господи…
– Уж, пожалуйста, не позже, как до вторника!
Жихарев согласно кивал голым черепом, брови у него дрожали.
Возвратясь из бани, он одевался франтом, надевал манишку, косынку на шею, выпускал по атласному жилету длинную серебряную цепь и молча уезжал, приказав мне и Павлу:
– К вечеру приберите мастерскую почище; большой стол вымыть, выскоблить!
У всех являлось праздничное настроение, все подтягивались, чистились, бежали в баню, наскоро ужинали; а после ужина являлся Жихарев, с кульками закусок, с пивом и вином, а за ним – женщина, преувеличенная во всех измерениях почти безобразно. Ростом она была вершков двенадцати сверх двух аршин, все наши стулья и табуретки становились перед нею игрушечными, даже длинный Ситанов – подросток обок с нею. Она очень стройная, но ее грудь бугром поднята к подбородку, движения медленны, неуклюжи. Ей за сорок лет, но круглое, неподвижное лицо ее, с огромными глазами лошади, свежо и гладко, маленький рот кажется нарисованным, как у дешевой куклы. Жеманно улыбаясь, она совала всем широкую, теплую ладонь и говорила ненужные слова:
– Здравствуйте. Морозно сегодня. Как у вас густо пахнет. Это краской пахнет. Здравствуйте.
Смотреть на нее, спокойную и сильную, как большая полноводная река, приятно, но в речах ее – что-то снотворное, все они не нужны и утомляют. Перед тем как сказать слово, она надувалась, еще более округляя почти багровые щеки.
Молодежь, ухмыляясь, шепчет:
– Вот так машина!
– Колокольня!
Сложив губы бантиком, а руки под грудями, она садится за накрытый стол, к самовару, и смотрит на всех по очереди добрым взглядом лошадиных глаз.
Все относятся к ней почтительно, молодежь даже немножко боится ее, – смотрит юноша на это большое тело жадными глазами, но когда с его взглядом встретится ее тесно обнимающий взгляд – юноша смущенно опускает свои глаза. Жихарев тоже почтителен к своей гостье, говорит с нею на «вы», зовет ее кумушкой, угощая – кланяется низко.
– Да вы не беспокойтесь, – сладко тянет она, – какой вы беспокойный, право!
Сама она живет не спеша, руки ее двигаются только от локтей до кисти, а локти крепко прижаты к бокам. От нее исходит спиртной запах горячего хлеба.
Старик Гоголев, заикаясь от восторга, хвалит красоту женщины – точно дьячок акафист читает, она слушает, благосклонно улыбаясь, а когда он запутается в словах – она говорит о себе:
– А в девицах мы вовсе некрасивой были, это все от женской жизни прибавилось нам. К тридцати годам сделались мы такой примечательной, что даже дворяне интересовались, один уездный предводитель коляску с парой лошадей обещали…
Капендюхин, выпивший, встрепанный, смотрит на нее ненавидящим взглядом и грубо спрашивает:
– Это – за что же обещал?
– За любовь нашу, конешно, – объясняет гостья.
– Любовь, – бормочет Капендюхин, смущаясь, – какая там любовь?
– Вы, такой прекрасный молодец, очень хорошо знаете про любовь, – говорит женщина просто.
Мастерская трясется от хохота, а Ситанов ворчит Капендюхину:
– Дура, коли не хуже! Этакую можно любить только от великой тоски, как всем известно…
Он бледнеет от вина, на висках у него жемчужинами выступил пот, умные глаза тревожно горят. А старик Гоголев, покачивая уродливым носом, отирает слезы с глаз пальцами и спрашивает:
– Деток у тебя сколько было?
– Дитя у нас было одно…
Над столом висит лампа, за углом печи – другая. Они дают мало света, в углах мастерской сошлись густые тени, откуда смотрят недописанные, обезглавленные фигуры. В плоских серых пятнах, на месте рук и голов, чудится жуткое, – больше, чем всегда, кажется, что тела святых таинственно исчезли из раскрашенных одежд, из этого подвала. Стеклянные шары подняты к самому потолку, висят там на крючках, в облачке дыма, и синевато поблескивают.
Жихарев беспокойно ходит вокруг стола, всех угощая, его лысый череп склоняется то к тому, то к другому, тонкие пальцы все время играют. Он похудел, хищный нос его стал острее; когда он стоит боком к огню, на щеку его ложится черная тень носа.
– Пейте, ешьте, друзья, – говорит он звонким тенором.
А женщина поет хозяйственно:
– Что вы, куманек, беспокоитесь? У всякого своя рука, свой аппетит; больше того, сколько хочется, – никто не может есть!
– Отдыхай, народ! – возбужденно кричит Жихарев. – Друзья мои, все мы – рабы божии, давайте споем «Хвалите имя»…
Песнопение не удается; все уже размякли, опьянев от еды и водки. В руках Капендюхина – двухрядная гармония, молодой Виктор Салаутин, черный и серьезный, точно вороненок, взял бубен, водит по тугой коже пальцем, кожа глухо гудит, задорно брякают бубенчики.
– Р-русскую! – командует Жихарев. – Кумушка, пожалуйте!
– Ах, – вздыхает женщина, вставая, – как вы беспокоитесь!
Выходит на свободное место и стоит на нем прочно, как часовня. На ней широкая коричневая юбка, желтая батистовая кофта и алый платок на голове.
Задорно вопит гармоника, звонят ее колокольчики, брякают бубенцы; кожа бубна издает звук тяжелый, глухо вздыхающий; это неприятно слышать: точно человек сошел с ума и, охая, рыдая, колотит лбом о стену.
Жихарев не умеет плясать, он просто семенит ногами; притопывая каблуками ярко начищенных сапог, прыгает козлом и все не в такт разымчивой музыке. Ноги у него – точно чужие, тело некрасиво извивается, он бьется, как оса в паутине или рыба в сети, – это невесело. Но все, даже пьяные, смотрят на его судороги внимательно, все молча следят за его лицом и руками. Лицо Жихарева изумительно играет, становясь то ласковым и сконфуженным, то вдруг гордым, и – сурово хмурится; вот он чему-то удивился, ахнул, закрыл на секунду глаза, а открыв их, – стал печален. Сжав кулаки, он крадется к женщине и вдруг, топнув ногой, падает на колени перед нею, широко раскинув руки, подняв брови, сердечно улыбаясь. Она смотрит на него сверху вниз с благосклонной улыбкой и предупреждает спокойно:
– Устанете вы, куманек!
Она пытается умильно прикрыть глаза, но эти глаза, объемом в трехкопеечную монету, не закрываются, и ее лицо, сморщившись, принимает неприятное выражение.
Она тоже не умеет плясать, только медленно раскачивает свое огромное тело и бесшумно передвигает его с места на место. В левой руке у нее платок, она лениво помахивает им; правая рука уперта в бок – это делает ее похожею на огромный кувшин.
А Жихарев ходит вокруг этой каменной бабы, противоречиво изменяя лицо, – кажется, пляшет не один, а десять человек, все разные: один – тихий, покорный; другой – сердитый, пугающий; третий – сам чего-то боится и, тихонько охая, хочет незаметно уйти от большой, неприятной женщины. Вот явился еще один – оскалил зубы и судорожно изгибается, точно раненая собака. Эта скучная, некрасивая пляска вызывает у меня тяжелое уныние, будит нехорошие воспоминания о солдатах, прачках и кухарках, о собачьих свадьбах.
В памяти тихие слова Сидорова:
«В этом дело все – врут, это уж такое дело – стыдно всем, никто никого не любит, а просто – баловство…»
Я не хочу верить, что «все врут в этом деле», – как же тогда Королева Марго? И Жихарев не врет, конечно. Я знаю, что Ситанов полюбил «гулящую» девицу, а она заразила его постыдной болезнью, но он не бьет ее за это, как советуют ему товарищи, а нанял ей комнату, лечит девицу и всегда говорит о ней как-то особенно ласково, смущенно.
Большая женщина все качается, мертво улыбаясь, помахивая платочком; Жихарев судорожно прыгает вокруг нее, я смотрю и думаю: неужели Ева, обманувшая бога, была похожей на эту лошадь? У меня возникает чувство ненависти к ней.
Безликие иконы смотрят с темных стен, к стеклам окон прижалась темная ночь. Лампы горят тускло в духоте мастерской; прислушаешься, и – среди тяжелого топота, в шуме голосов выделяется торопливое падение капель воды из медного умывальника в ушат с помоями.
Как все это не похоже на жизнь, о которой я читал в книгах! Жутко не похоже. Вот наконец всем стало скучно. Капендюхин сует гармонику в руки Салаутина и кричит:
– Делай! С дымом!
Он пляшет, как Ванька Цыган, – точно по воздуху летает; потом задорно и ловко пляшет Павел Одинцов, Сорокин; чахоточный Давидов тоже двигает по полу ногами и кашляет от пыли, дыма, крепкого запаха водки и копченой колбасы, которая всегда пахнет дубленой кожей.
Пляшут, поют, кричат, но каждый помнит, что он – веселится, и все точно экзамен сдают друг другу, – экзамен на ловкость и неутомимость.
Выпивший Ситанов спрашивает то того, то другого:
– Разве можно любить такую женщину, а?
Кажется, что он сейчас заплачет.
Ларионыч, приподняв острые кости плеч, отвечает ему:
– Женщина как женщина, – чего тебе надо?
Те, о ком говорят, незаметно исчезли. Жихарев явится в мастерскую дня через два-три, сходит в баню и недели две будет работать в своем углу молча, важный, всем чужой.
– Ушли? – спрашивает Ситанов сам себя, осматривая мастерскую печальными, синевато-серыми глазами. Лицо у него некрасивое, какое-то старческое, но глаза – ясные и добрые.
Ситанов относится ко мне дружески, – этим я обязан моей толстой тетради, в которой записаны стихи. Он не верит в бога, но очень трудно понять – кто в мастерской, кроме Ларионыча, любит бога и верит в него: все говорят о нем легкомысленно, насмешливо, так же, как любят говорить о хозяйке. Однако, садясь обедать и ужинать, – все крестятся, ложась спать – молятся, ходят в церковь по праздникам.
Ситанов ничего этого не делает, и его считают безбожником.
– Бога нет, – говорит он.
– Откуда же всё?
– Не знаю…
Когда я спросил его: как же это – бога нет? – он объяснил:
– Видишь ли: бог – высота!
И поднял длинную руку над своей головой, а потом опустил ее на аршин от пола и сказал:
– Человек – низость! Верно? А сказано: «Человек создан по образу и подобию божию», как тебе известно! А чему подобен Гоголев?
Это меня опрокидывает: грязный и пьяный старик Гоголев, несмотря на свои годы, грешит грехом Онана; я вспоминаю вятского солдатика, Ермохина, сестру бабушки, – что в них богоподобного?
– Люди – свиньи, как это известно, – говорит Ситанов и тотчас же начинает утешать меня:
– Ничего, Максимыч, есть и хорошие, есть!
С ним было легко, просто. Когда он не знал чего-либо, то откровенно говорил:
– Не знаю, об этом не думал!
Это – тоже необыкновенно: до встречи с ним я видел только людей, которые всё знали, обо всем говорили.
Мне было странно видеть в его тетрадке, рядом с хорошими стихами, которые трогали душу, множество грязных стихотворений, возбуждавших только стыд. Когда я говорил ему о Пушкине, он указывал на «Гаврилиаду», списанную в его тетрадке…
– Пушкин – что? Просто – шутник, а вот Бенедиктов – это, Максимыч, стоит внимания!
И, закрыв глаза, тихонько читал:
Взгляни: вот женщины прекрасной
Обворожительная грудь…
И почему-то особенно выделял три строки, читая их с гордой радостью:
Но и орла не могут взоры
Сквозь эти жаркие затворы
Пройти – и в сердце заглянуть…
– Понимаешь?
Мне очень неловко было сознаться, что – не понимаю я, чему он радуется.









































