Текст книги "Покоритель орнамента (сборник)"
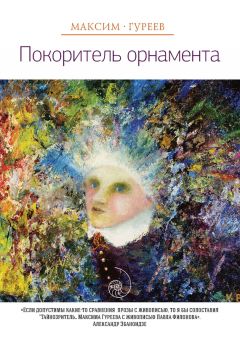
Автор книги: Максим Гуреев
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 19 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Тайнозритель
Часть 1. Феофания
После отъезда больницы в изоляторе осталась одна Феофания.
Она даже не встала с кровати, когда растрепанные няньки плясали на провислых, облепленных ватой сетях-сетках, перед тем как вынести скатанные горчичного цвета матрасы. Вынести приговор – оттиснутый фиолетовой краской больничный номер – «ИС. ХС». Феофания лежала, отвернувшись к стене, водила пальцем по губам, волосам, одеялу, потрескавшейся краске труб и горячим, урчащим кипятком батареям. И выносили-таки приговор – «Пусти! Ну пусти во двор! А во дворе-то и рыла злые кореньица! Одевайся! Ишь, забоялась идти! Забоялась!» – потом устраивали маскарад с хождением ряженых, каждением предстоящих, пением величальных песен и гимнов под Вифлеемской звездой, взрывали петарды, лицедействовали, уподоблялись всадникам, наездникам, стреляющим лыжникам, королевской чете, облаченной в сияющие тяжелые ризы – богатые и роскошные, баловались с бенгальскими огнями, а потом пировали на славу.
Когда в преддверии блокады больница должна была эвакуироваться куда-то за Урал, в помещение лесной школы для больных инфекционными болезнями, тогда и забыли о девочке, не замечали ее, хотя, конечно, знали, что она болеет, напоминая о себе лишь упорным нежеланием ни с кем разговаривать. Ее как будто бы уже и не было, она лишь безмолвно примеряла у себя в закутке старые бусы – червивые орешки – вот смотри, чего у меня есть, – оборачивала ими шею и тонкие прозрачные руки, словно из алебастра, любовалась, нравилась сама себе, заплетала волосы, лениво слушала голоса приглашавших в гости: «Какая хорошая девочка! А у меня мальчик есть, у него ножки болят, но вы подружитесь. Он такой умный, он тебя в шашки научит играть!» – «Нет! Не хочу!» – «Фу, какая противная злюка…»
Многие уже думали, что Феофания останется в больничном изоляторе навсегда, как однажды (после эвакуации больницы прошло уже больше месяца) в замазанное белой краской окно регистратуры постучали. Так как всю предыдущую ночь пили в процедурной, то открывать двинулись с нежеланием, руганью и отрыжкой, мол, кого это еще черт принес в такую рань, долго гремели ключами, лишенные чудесного дара попадания в замочную скважину с первого, как, впрочем, и со второго раза, кряхтя, протирали половой тряпкой поручни, оглядывались воровато, посмеивались.
Регистратура располагалась в одноэтажном деревянном флигеле, соединенном со зданием больницы длинным застекленным коридором-верандой. Так как крыша здесь протекала, то начиная с осени регистратуру закрывали до лета, то есть флигель закрывали в том смысле, что переводили регистратуру в отапливаемое каменное помещение. Теперь же, когда детей увезли отсюда на предмет опустошения-опустошения, куч-куч, сухарей-сухарей, коридор вообще забили. Внутренний двор больницы выглядел запущенным унылым стариком, который только что убежал от няньки, пришедшей побрить его вялые щеки. Он, видите ли, более чем нетерпелив, когда она медленно размешивает пальцем в алюминиевой миске жидкую пену зубного порошка и казеинового клея, и потому, сопливо морщась, сползает с кресла, после чего, воспользовавшись открытой по недогляду дверью, топочет, сопит, расперев рот, прячется в предгорьях бойлерной, где и обосновывается вдыхать парной цемент кирпичного горла. «Спас, спас-таки, щеки свои… – приговаривает —…сохранил, сохранил-таки щеки мои для подушки, для прачечной синьки и языка».
В замазанное белой краской окно регистратуры постучали.
Кто-то пожаловал.
По такому случаю пришлось отдирать доски от двери и окон, пробираться мимо отсыревших шкафов, завалившихся непроходимыми кущами вешалок и шевелящихся под порывами сквозняка грязных бинтов, что были приспособлены для дыр и щелей: изжеваны и съедены ими. Принудили к тому – о, убожество!
На скамейке перед входом сидела женщина.
Глубокая осень.
Вязаные рейтузы. Так как на открывание регистратуры ушло довольно времени, то женщина и замерзла, измяв совершенно приготовленное прошение на имя доктора Межакова, ведь слухи о том, что после эвакуации в больнице осталась одна Феофания, достигли островов и дальнего паромного гарнизона. Осталась одна девочка.
Наконец дверь распахнулась, обрушив на скользкие, рыбные, отсыревшие ступени приступки шелуху прошлогодней краски.
Вот именно через этот коридор детей, заботливо снабженных брезентовыми вещмешками, выводили знакомиться с добрыми самаритянами, потом усаживали на оббитые дерматином низкие топчаны, прежде чем выписать. Дети, разумеется, перешептывались, а новые, улыбающиеся по такому случаю родственники пытались заглянуть в маленькое оконце ординаторской, что-то выкрикивали, манипулировали, при помощи пальцев представляли направление движения и те целлулоидные части тела, которые, по их мнению, магически указывали на истинность родительского выбора. «Сбылось реченное через пророка! – восклицали, – мой отрок! мой рог спасения! моя отроковица! моя непорочная дева!» – чтобы по ночам любоваться детским безмятежным сном и в великой тайне приникать губами к крохотным пяточкам, выбившимся из-под одеяла взыгравшего младенца…
– Да, лучше и не скажешь… – Межаков развел руками, указуя на свои пахнущие аптекой владения.
У доктора оказался разный профиль, ведь у него был сломан нос – как бы вывернут к уху, – и женщине, забегавшей то по правую, то по левую его руку, казалось, что она разговаривает с разными людьми, вернее, слушает разных людей. Подобно тому, как два брата – Симон, называемый Петром, и Андрей – не слышат, не видят и не внемлют друг другу.
От быстрой ходьбы ногам в вязаных рейтузах стало жарко, да и сами рейтузы съехали вниз, собравшись вокруг колен безобразными вытянутыми древесными грибами-чагами. Сочниками.
Сочиво приготовили.
– А вы знаете, почему ее зовут Феофания?
– Нет.
– И еще вы должны знать, что…
– Да, мне известно об этом, девочка больна.
– Все это продлится не более двух месяцев, не более! Уверяю вас!
Межаков внезапно остановился и, наклонившись к женщине, принялся вертеть головой:
– Действительно, действительно, вообразите себе моего старшего братца, этакого великовозрастного лоботряса, выгнанного из ремесленного училища по причине часто случавшихся с ним припадков – сказывалась старая бомбовая контузия. Так вот, он с изуверским увлечением любил пытать меня на кухне, в частности запирал в тесной вонючей мойке и пускал горячую воду. Здесь, в темноте ужасающей духоты, где старый, опутанный резиновыми гофрированными шлангами и кишками музыкальный ларь превращался в газовую камеру-душегубку. Я – единый глас вопиющего, мне ведь больше ничего не оставалось (или что же мне оставалось делать), превращался в вой, треск граммофона, я колотил ногами и руками в деревянные стены, плакал, надрывно кричал, а он, мой брат то есть, приникал своими карминовыми губами к узкой светящейся щели и чревовещал: «Я – твой душегубец лютый по имени Берендий!» Мучил меня. После чего он начинал истерично смеяться. Однажды, вообразив себя умершим после подобного рода страстей, я сладостно подглядывал за своим братом, как он плакал надо мной, напуганный столь внезапным исходом своего неистовства, но, когда обнаружил, что все это розыгрыш, обычная шутка, столь комичная, столь, казалось бы, естественная, а на его помутившийся взгляд – противоестественная, он принялся избивать меня… – Межаков постучал себя пальцем по развороченной, просевшей вглубь черепа переносице, – вот полюбуйтесь! сломал мне тогда нос! пожалуйста! если хотите, можете даже потрогать, только не обожгитесь, так горячо, так горячо, зимой я даже грею тут руки.
Женщина видела разный профиль с разных сторон, как потемневшие от времени портреты естествоиспытателей, авиаторов, ботаников, целая скорбная галерея Доу, погружающаяся во мрак, который пересиливал свет. Картины висели вдоль стен. Картины пахли канифолью и воском. Приходилось зажигать электричество и держать сломанный выключатель. Картины выглядели экзотикой в этих краях. В кущах зацветал виноград. Сладкий виноград. Кислый виноград.
– А вот мы и пришли, – Межаков открыл дверь в небольшой сводчатый зал, в дальнем углу которого возле окна стояла кровать. На кровати кто-то лежал.
– «На кровати кто-то лежал», – проговорила женщина.
– «А кафельная печная колонна что-то мне напоминает, – вторил эхом доктор. – Ну что же, что же она мне напоминает?.. может быть, здание городской управы или присутственных мест? может быть… может быть…»
Существо, разглядеть которое в отражениях и тенях уличных фонарей (невечерний свет, нездешний свет), в царстве скошенных к полу подоконников не было никакой возможности, зашевелилось, задвигало кровать, высыпая на пол панцирную продавленную мережь – ловчую, и одеяло при этом ожило и дохнуло черным бездонным балком на городище.
Стоял лес в воде.
Стоит лес в воде.
Межаков подводит женщину к окну: через вытоптанный сквер с видом на четырнадцатый и сорок первый годы, на цементный элеватор, кстати, довольно-таки нелепое ампирное сооружение эпохи губернского строительства, эпохи Костромы, на академию, на бетонный музей, на игрушечный больничный двор, разгороженный мокнущими под дождем воздухами. Прямо – невысокий кирпичный забор – брандмауэр и кладбище игрушечных скамеек, гипсовых вазонов и ног статуй. Ног.
– А вы знаете, почему ее зовут Феофания? – доктор садится на выступающий из-под матраса металлический рельс кровати.
– Нет, не знаю.
– В старых книгах Феофанией называется откровение, новое откровение, благовествование, как будет угодно, неизреченная истина, то, чего не может быть, то, чего нет на самом деле. Это имя возникло как-то само собой, его никто не давал ей, но и она сама не приносила его начертанным в ковчежце обещанием. Обещанием родительскому обещанию, завету, ведь она даже не знала своих родителей, вернее сказать, она утверждала, что их у нее не было. Верно я говорю? – Межаков замер, указуя женщине со всеми гримасами рта и красными от фотографического света глазами, что сейчас должно слушать тишину, как вариант – треск затвердевших настом простыней. И действительно, из-под одеяла послышался звук, чем-то напоминающий шелест соприкасающихся под водой скользких, круглых камней.
Потом продолжил:
– Ее привезли сюда два года назад из вечности, той, что за алтарем, за жертвенником, за дверью, из безвременья, оттуда, где густой бесконечный снег засыпает окна первого этажа и их приходится откапывать каждое утро, оттуда, где будильник прячут под кроватью в белой эмалированной утке, чтобы громче звонил, но не тарахтел, не хрипел своими судорогами проржавевших внутренностей, оттуда, где на перекладины гигантских неподъемных крестов набивают гвозди для спасения святынь от испражняющихся на них птиц.
Доктор встал и принялся расхаживать по залу:
– Естественно, сразу по приезде последовало приглашение в прозекторскую, морг у нас тогда располагался в бывшей больничной церкви. Для этой надобности Феофанию необходимо было раздеть и водрузить этаким стеариновым сооружением, иначе говоря, куклой на железную двухэтажную телегу или сани, сейчас уже не помню. Путь предстоял долгий, и потому запрягали со всем отпущенным Богом старанием. Кучер-татарин ходил вокруг лошади и, казалось, не знал, что делать с многочисленным извозчичьим инструментарием. Он неумело или нехотя, что, впрочем, одно и то же, вязал кожаные ремешки, заплетал, подхватывал металлические кольца и крюки оказавшейся по случаю под рукой проволокой, что-то шептал себе под нос, наверное, молился, а когда дело было закончено, обнаружил у себя в карманах еще несколько соединительных колец, чего быть никак не могло при снаряжении паломничества в больничную церковь. Однако это скучно… Все закурили…
В морге выяснилось, что Феофания жива, жива для кафельного царства с его пронзительным, располагающим к бодрствованию холодом…
Нет, не так!
Процессия двигалась к бывшей больничной церкви через опустевший от осени сад. Кое-где тлели кучи собранных хаотично листьев, пахло дымом и преющей в преддверии снега корой. Некоторые деревья стояли в воде. Павильоны были уже заколочены на зиму, но при этом разорены не в меньшей степени, подвергнуты и поруганию, и разграблению. За санями, оставлявшими на окаменевшем песке аллеи черную единообразную борозду, шествовали санитары в накинутых на плечи шинелях – фронт лишний раз напоминал о своем неминуемом приближении. Межаков несколько отстал, занятый разглядыванием черного воспаляющегося нутра одной из дренажных канав, недостатка в которых старый запущенный сад не испытывал – подобные заросшие травой и кустарником трещины бесшумно пробирались окрест, возникая при этом в самых неожиданных местах – «вот! извольте!» Казалось, что канифолевая, неподвластная горнему воздуху вода умирает.
– Господин доктор, просим не отставать!
За деревьями показалось серое кирпичное здание прозекторской, в окнах которой горел свет. Пришлось еще довольно долго ехать вдоль невысокой церковной ограды, предвкушая при этом богатый архиерейский въезд в покосившиеся, вросшие в болотную топь ворота с гипсовыми облупившимися навершиями.
Карабкаясь по длинному дощатому взвозу, лошадь втащила сани в верхний притвор морга. Лифт не работал и теперь был переоборудован в ризницу. Татарин здесь снял шапку и надел ее на лицо – из жестяных заборников нестерпимо тянуло разделочной и хлоркой. Санитары, к тому времени побросавшие свои шинели у входа, где способно было в перерывах между сменами спать вповалку – сопеть, переворачиваться во сне, разевать рот, – забрались на второй этаж железной телеги или саней, сейчас это уже стерлось в памяти, и, отталкивая друг друга, откинули войлочное покрывало.
Женщина наклонилась над кроватью и откинула одеяло.
Ослепленная Феофания выглядела растерянной, застигнутой врасплох. Казалось, что она пряталась в ожидании воображения, того, что должно было нарисовать ее портрет – маленькая больная девочка в ситцевом платьице, перехваченном красным поясом-лентой, девочка украшает себя бусами, неизвестно откуда взявшимися, такими червивыми орешками-камешками, испещренными черными змейками арабской вязи, и на лиловом фоне шевелящейся листвы, и на багровом фоне украшенного строгановским шитьем тяжелого парчового занавеса девочка не кажется заплаканной и тем более несчастной, ведь только что ее угостили яблоком и дали подержать маленького флегматичного зверька, с возмутительным безразличием взирающего на окружающий его мир, лучше б ей, в самом деле, дали подержать вертлявую, вечно живую птичку, заодно бы и спасли ее от толстого, улыбающегося соседского кота Арефы.
Феофания нахмурилась и, уцепившись за край одеяла, резко натянула его до самых глаз. Женщина улыбнулась в ответ, но вдруг лицо ее начало изменяться, принимая непредвиденные очертания, в том смысле, что она ожидала некоего испуга, провидела его, осознавала неминуемым: под кроватью затарахтел будильник. Девочка вновь скрылась под одеялом, а старая механическая машинка все еще хрипела своими проржавевшими внутренностями и медленно выезжала по деревянному крашеному полу в белой эмалированной утке, куда ее помещали для усиления звука. Выезжала, минуя никелированные ножки кровати с разнообразными фигурами – волютами ионического и коринфского ордера.
– Опять! – Межаков подбежал к двери и, распахнув ее, закричал наудалую в коридор: – Я же просил!
Женщина, как зачарованная, наблюдала за дребезжащей агонией пожелтевшего от времени циферблата, окаменевший взгляд ее застыл, изнемог, не сумев выпутаться из черных расслоившихся стрелок, показывавших половину десятого утра.
Нездешний свет. Невечерний свет.
Все было закончено, когда прибежавшие перепуганные няньки унесли утку и ее умершее содержимое. Феофания вновь выглянула из-под одеяла.
– Вот вы пишете в своем прошении… цитирую, – доктор достал из кармана халата измятую бумагу и, развернув ее, начал читать: – «…Здесь на острове, у скалы, в полуразвалившемся дымнике с земляным полом и нашли двух человек, нагих и голодных, ноги их почти совершенно сгнили, и потому не могли они передвигаться, только ползком и то до двери… вода подступала кругом…»
– О каком острове вы говорите? Нам это будет интересно.
– В детстве я жила с родителями на острове недалеко от устья Токшинского, – женщина наклонилась к девочке и погладила ее по голове, – меня зовут Верой Елагиной, а тебя как?
– Не знаю, – Феофания опять нахмурилась и отвернулась к окну.
– Отчим работал бакенщиком при Устьинском лесозаводе, – продолжала Вера. – В его обязанности входило расставлять и проверять габаритные огни при подходе из озера в Токшу. Здесь было много самых разнообразных проток, обмелевших водоразборных каналов, вырытых заключенными, и глухих бездонных плесов. К тому же торфяники коварно манили к себе непроходимыми газовыми топями. Еще до нас тут случилось несколько аварий, когда буксиры, заблудившись в тумане, – ведь здесь постоянно висит низкий цементный туман, – затаскивали целые горы сплавного леса, проделав при этом достаточно долгий путь с верховьев Порозовицы и от пристани Антоний, в непроходимые болотные кущи, блуждали, заунывно гудели (надрывно гудели), пытались развернуться, но неизбежно бывали раздавлены собственным страшным грузом. (Влекомый течением и инерцией гигантского веса сплав забивал все внутренности, его тошнило на берег, он переворачивался, опрокидывался, с грохотом и ревом обезумевшего в западне зверя набрасывался на плавающие, мохнатые водорослями препятствия, выдирал их из земли, вздымал к небу, обнаруживая при этом латаное-перелатаное днище буксира, облепленное турой и ракушками.)
На небольшом каменном острове, скорее даже уступе, о котором только что было прочитано в прошении, и находился дом бакенщика. Моего отчима.
Так как караваны проходили, как правило, рано утром, чтобы на лесозаводе сразу стать под разгрузку, отчим не спал всю ночь, гремел около железных шкафов, где хранился бензин и промасленные цепи для бензомоторных пил, и затемно уходил на «казанке» проверять красные и зеленые посты. Домой возвращался только к обеду…
– …В полуразвалившийся дымник с земляным полом, куда подступала вода, угрожая все затопить, не так ли? – Межаков расхаживал по палате, заложив руки за спину. – По-моему, это что-то из Соловецкого Патерика? Мой дед, ныне покойный, царствие ему небесное, служил на Кемском приходе, Дионисий Межаков, не слышали? Царь мхов – мхов государь? Нет?
– Все-таки как же тебя зовут? Анастасией? Юлианией? Екатериной? А?
– Не скажу, – девочка хитро улыбнулась.
– Не скажешь?
– Не скажу, – и показала язык.
– Ну и пожалуйста, – Вера притворилась обиженной и загудела сложенными наподобие духовых орудий-сопелей губами, изображая буксир: «У-у-у-у». – А потом отчим заболел и его пришлось отправить на материк, на острове мы остались вдвоем с мамой. Каждое утро я должна была ездить на лесозавод за продуктами, а заодно и проверять бакены.
– Да, ужасный климат, – доктор развел руками.
– Потом простудилась, кажется, в марте. Со мной что-то происходило, я не могла понять, что именно: этот сатанинский жар и обжигающий холод вошли в меня, мне казалось, что я умираю и воскресаю одновременно, изнемогаю и одиночествую в одном лице. Однако вскоре все прошло, хотя воспоминание о пережитом – бред любовного очарования, неведомое доселе половодье, овладевающее низинами и прокисшими одичавшими огородами, медленная мертвая боль – изредка посещало и пугало меня. Спустя несколько лет, когда мы переехали в город, я узнала, что не смогу иметь детей…
– Да, к сожалению, – Межаков аккуратно сложил прошение и положил его в нагрудный карман.
Отворачивался к стене. Скреб затылок. Покашливал.
– Ты будешь моей дочкой Верой, Надеждой и Любовью! А я буду твоей мамой – Феофанией! Хорошо? – девочка села на кровати, сложив тонкие руки-веточки, когда ветер шумит и шумит в вышине, поверх одеяла.
Она нарушила эту тягостную паузу по неизреченному завету, дарованному ей тогда Богом в больничной церкви, когда придурковатые санитары забрались на второй этаж железного катафалка, отталкивали друг друга, претендуя на первенство, откинули войлочное покрывало и проговорили в изумлении: «Она жива! она жива! она смотрит на нас! она дышит нами!»
– А девочка-то светозарная, – пропел доктор со смирением и поклонился низко, и заплакал, и засопел.
– А девочка-то светозарная, – пропела Вера и встала перед Феофанией на колени. Колени заболели.
К полудню все было улажено, притом что много времени заняло последнее путешествие по тайникам и прощание со старинами: кафельными ли, подземными. Например, хождение в ванную комнату, что помещалась в подвале. Раньше, до эвакуации больницы, здесь проходили терапевтические омовения, для проведения которых употреблялось немало угля и дров с заднего зачумленного двора-отстойника, дабы изгонять, хотя бы на время, неистребимую каменную сырость затопленных казематов.
Прежде чем наполнить огромный фаянсовый сосуд кипятком, его уснащали тщательно простиранной в каустике марлей. В тусклом маленьком предбаннике, бетонный пол которого заточала деревянная струганая решетка, няньки помогали раздеваться и, аккуратно развесив в фанерных шкафах совершенно одинаковый клевер больничных пижам, вели детей в ванную, где к тому времени было изрядно натоплено и парно. Под потолком ярко горели электрические лампы, свет которых плыл в подземном тумане, и потому становилось весело! Даже как летом весело становилось. Дети галдели, трогали друг друга, щипались небольно, смеялись, ретиво залезали в теплую курящуюся горчицей воду. После чего из маленькой, расположенной напротив дверцы-люка появлялся Межаков, на нем была светлая, вкусно пахнущая еловым утюгом рубашка и легкие парусиновые штаны. В руках он держал ушастую плоскодонную миску, наполненную небольшими кусками мыла и пучками речных папоротников, перекрученных в маленькие мохнатые мочала.
– Итак, начнем! – провозглашал доктор. Ответом ему было бурное изъявление восторга и снопы брызг. Межаков ставил миску на деревянную скамью, закатывал рукава и задавал свой традиционный в подобных случаях вопрос:
– Кто первый?
Феофания всегда была последней, пряталась и таилась в стекленеющем городе мыльной пены до неба, надеясь, что о ней забудут, сама терла себе щеки старательно, не доверяла (не доверяла ведь!) чанам с холодной, льдистой водой на случай внезапного охлаждения, в смысле – преображения.
Любопытные няньки приоткрывали дверь из предбанника и, захлебнувшись в пару, пытались подглядывать за происходящим, показывали пальцами, оборачивали косынками рты и, в конце концов, переполненные впечатлениями, утомленные, притом что приходилось значительно пихаться, борясь за место у двери, разбредались по каморкам, удрученные своей непричастностью к детскому счастью, приговаривая: «А зато мы здоровенькие», «им весело, но нам прочней». Потом долго шли по коридорам и засыпали где попало: на полу, на подоконниках, на стульях.
Свет выключили, и он погас.
Капает вода из крана.
Паркет трещит – рассохся.
Трубы извиваются вкруг яслей и закутов.
Вера проснулась в коридоре на банкетке. Ноги затекли. Со стен на нее смотрели тусклые, потемневшие от времени портреты кисти Доу. И сам Доу – сухой, строгий старик в вельветовом жакете гулко кашлял где-то под лестницей.
Вере приснились ворота прозекторской, через которые происходил Великий Вход. Кирпичный свод с облупленной штукатуркой конца века поглощал людей, которые, сообразуясь с чинами, в великом волнении проходили и возвращались вспять, как бы символизируя неизреченный и предвечный характер чинопоследования – «узки врата очищения», в смысле ощущения невыносимой легкости и сладости.
Невыносимо узки врата.
Некоторые из участников события падали на землю и закрывали глаза руками.
– Как же тебе могут присниться ворота прозекторской, если ты их ни разу не видела? А? Так не бывает, – чья-то неведомая рука опустилась на плечо Веры.
– Конечно, так не бывает, – соглашалась Вера, не смея обернуться, – хотя мне страшно тебя слышать.
Вдруг один из Константинопольских архиереев, что совершал этот самый Великий Вход и служил на возвышении, именуемом Горним Местом, обернулся к хрипящей в изнеможении толпе и запел звонким детским голосом про то, как отворяй-ка, матушка, ворота да привечай гостей разлюбезных, что с бубнами и гуслями, гимнами и звездицами грядут!
Глас Первый – в крайней ажитации.
Глас Вторый – в крайней ажитации.
Глас Третий – в изрядной ажитации.
Глас Четвертый – в исступлении.
Глас Пятый и Шестый – неумолчно.
Глас Седьмый – «Выходила матушка, выносила книгу Евангелие, да копала она книгу во сыру землю, рыла злые кореньица».
Глас Осьмый – «Открывай ворота, видели звезду!»
– Сейчас, сейчас отопру, – отвечала матушка откуда-то из железной колодезной глубины, ударяя посохом в ржавое, привязанное проволокой к церковному потолку било, – сейчас, сейчас…
Паникадило – «паникандило».
Вера села на банкетку.
С больничного двора доносились удары. Кажется, ворочали разнообразный корявый горбыль, как неструганый зловещий хрящ.
– А мы вас потеряли, – Межаков улыбнулся, – а вы вот, оказывается, где задремали. У нас тут действительно погоды хоть относительно и сухие, но тяжелые, присутствует в воздухе некий гнет, однако не буду его называть мистическим или потусторонним. Вероятно, это просто с непривычки.
– Вероятно…
– Дорога, опять же, тяжелая, – засоглашался доктор.
– А что это там у вас во дворе? – Вера почувствовала тяжелый, негнущийся затылок, полный прибрежных валунов, рук еще не существовало, ноги уже пропускали жидкость, но не были, до поры, способны к движению.
– Да так, сторож балуется.
Феофания с любопытством заглядывала в распахнутую дверь регистратуры – тление недвижной осени пьянило. Конечно, и отрицать это было бы заблуждением, раньше детей ежедневно выводили гулять в парк, где в деревянных, наскоро сколоченных ящиках прятались мраморные боги, и скамейки лежали в беспорядке, как неотвратимый результат скоротечного, плохо организованного расстрела. Сухие листья шелестели жестяными обрезками. Так же и во внутреннем дворе лудильной мастерской Андрея Захаровича Серполетти, что на Литейном.
Однообразный маршрут, проложенный в этой местности, изнурял: сначала по прямой, словно выверенной с линейкой аллее до больничной церкви, затем направо до заколоченных дач сельхозтехникума и оттуда вдоль абсолютно заросшей «эрмитажной канавки» обратно.
«Но теперь все долженствует быть иначе, потому как вот именно этого „обратно“ и не существовало», – говорила себе девочка.
Это девочка себе говорит, сама с собой разговаривает чуть слышно.
Ничего не слышно.
Немота луной заглядывает в рот, из которого, как из канализационного люка зимой, валит пар.
Длинные острые тени вытягиваются вдоль домов, улиц, набережных, после наводнения заваленных мусором, этими пузырящимися, пахнущими целлулоидом, сгоревшими внутренностями кинопленки (при отсутствии звука, само собой, при отсутствии звука…). Мерцает черный, потухший, опустевший сад – при отсутствии лодочной станции, аттракционов, чайного дебаркадера, все улавливающих в свои ржавые объятия алебастровых хороводов… при наличии гудящей трансформаторной будки за окном.
Окно открыто.
Сумерки не решаются войти.
Чтение «Лавсаика» погружает в прострацию, что во многом усиливает головную боль.
Зрение меркнет, потому и предметов очертания неверны.
Из глубины парка доносится голос: «Алексей Николаевич, а Алексей Николаевич! Ау! Где вы? Алексей Николаевич, ну где же вы?»
Трансформаторная будка напоминает громоздкий кузов-реликварий запрестольный, что наконец разверзает свои изукрашенные йодом створки северных писем – «достойно есть», «новгородцы идут», «пленение колокола».
К окну подходит старик и заглядывает в него, потом снимает шапку, мнет ее, покашливает.
– Я – больничный сторож, – говорит, – сторож больничный, Сворогбог.
Сообщает. Он смотрит в темную цементную пустоту будки, что может даже и чревовещать руинами свечного царства, старыми, пожелтевшими от времени «за здравие» и «за упокой», как вариант, частицами мощей благоуханных.
– Я вот тут орудовал с инструментом на угольном дворе, – сторож переминается с ноги на ногу и опускает глаза. – Крест сочинял, а потом и гвозди набивал на перекладины, все как положено, чтобы птицы не гадили. Большой крест получился, на нем можно даже плавать по озеру в тихую погоду, ни за что не потонет. И потом вот еще что: мне тут говорят, грозя наказанием: «Ты бы лучше крышу починил, горе-мастер, протекает, да и потолок рухнул… опять же дрова неплохо бы заготовить, уголь-то ведь вышел». А зачем чинить, спрашивается, все равно не сегодня завтра больницу закроют. Вот сегодня последнюю девочку забрали. Я ведь как? На германском воевал, даже награды имеются, потом – ранение, два месяца лежал в полевом госпитале, все никак не могли вывезти, я уж думал, что ноги напрочь сгниют, мог только ползать, потом санитарный эшелон разбомбили, когда до Петрограда оставались сутки пути, так и лежал в котельной на станции Нейг… – Старик перестает кашлять, надевает шапку, поворачивается и уходит от окна. Через некоторое время он вновь появляется, волоча на спине огромный деревянный крест, перекладины которого густо усеяны гвоздями, чем напоминают щетки-власяницы. – Вот, хотел показать, – говорит сторож, потом прислоняет крест к трансформаторной будке и, достав из-за пояса топор, начинает неторопливо тесать им это деревянное циклопическое сооружение. Наступает полная неподвижная тишина, которая есть откровение, есть время невлаемое, недвижимое, есть безвременье, есть час последний предуготованный.
Сворогбог приговаривает неразборчиво, улыбается каким-то своим мыслям, с удовольствием трогает терпко пахнущее скользкое дерево креста, опять снимает шапку и вытирает ею лоб:
– А иногда топориком я и протезы подправляю, ноги-то растут, слава Богу, потихоньку, скоро опять сапоги надену, я их припас да и в шпалах схоронил до поры… Вот, – старик кланяется окну, и оно закрывается.
Окно закрыто.
Сумерки не решаются войти и стоят при Святых вратах кустодией.
Девочку провожали санитары и няньки. Они разместились амфитеатром на ступенях и, уподобившись молчаливым тайнозрителям, что способны лишь к созерцанию, но не более того, снимали с себя белые медицинские халаты и раздували их дыханием, изображая банно-прачечный день и сдачу шевелящегося белья в стирку. Веяло крахмалом.
Межаков тоже прощался. Он стоял у окна, ощущал ледяной глянец крашеных-перекрашеных рам, что никогда не открывали. Когда Вера и Феофания уже почти скрылись из виду, он неожиданно принялся что-то кричать и размахивать руками, но голос его, столь слабый, не известный никому, скудный, а ныне – так и вообще несуществующий, полностью терялся в грохоте стучавших молотков: веранду регистратуры вновь заколачивали на зиму, на войну, навсегда.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































