Текст книги "Порча"
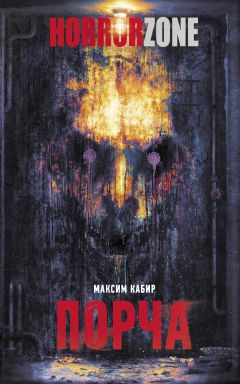
Автор книги: Максим Кабир
Жанр: Ужасы и Мистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Костров (5)

Дочь уснула. Свернулась калачиком, подперла кулаком щеку. Наушники выпали на подушку, из динамиков тихо играла музыка.
Костров выключил плеер, накрыл дочь стеганым одеялом. Она вздохнула во сне.
Неимоверно взрослая – двенадцать лет! – во сне она казалась ребенком. Переполняемый нежностью, Костров склонился и осторожно поцеловал Настю в висок. Дочь заворочалась, улыбнулась, не разлепляя век.
– Спокойной ночи, фуколка.
Он погасил в детской свет. Вспомнил, как впервые – в роддоме – поднял дочь на руки. Такую легкую, теплую и мелкую, но в комочке плоти, нетвердых косточек и квакающего плача заключалась величайшая радость, перелопатившая прежнюю жизнь.
– Спит? – Жена оторвалась от экрана.
– Как сурок.
И снова Костров залюбовался. Женой, устроившейся в кровати с ноутбуком. Монитор озарял сиянием ее лицо. Волосы по-домашнему собраны в пучок, очки отражают бегущий текст. В очках, – шутил Костров, – Люба ассоциировалась с героинями эротических фильмов вроде «Пикантных уроков» или «Учительницу на замену».
«Я чертовски везучий сукин сын», – заключил Костров.
Он присел рядом, погладил Любу по шелковистому бедру.
– Что читаешь?
– Пытаюсь кое-что нарыть. Про наш город. Марина на днях попросила собрать материалы по истории Горшина. У нее же родня отсюда. Ну и я решила освежить в памяти. Ты знал, что последний помещик рисовал картины?
– Что-то слышал. – Он прижался губами к колену жены. Ее кожа пахла кокосовым маслом. Люба взъерошила волосы мужа, посеребренные сединой, но густые, как и в тридцать.
– Марина меня озадачила, спросив про картины. Я никогда не задумывалась, куда они делись.
– Ну. Больше ста лет минуло. В Горшине пять раз менялась власть. А Стопфольд, судя по всему, не был Рембрандтом.
– Критики разгромили его в пух и прах.
– Талант не купить за деньги.
– В XIX веке жил богач, кажется в Москве. Любил петь оперные арии. Только вот ему медведь оттоптал уши. Он арендовал театры и платил людям, чтоб они аплодировали. Набивал залы голытьбой, пел, а потом купался в овациях и был счастлив.
– У богатых свои причуды.
– Грустно, что от художника не осталось ни одной картины. Пускай он и хреновенький художник. Было бы отличное пополнение для музея. Мама Кузнецовой принимала участие в сносе старого здания, так даже тогда – в шестидесятые – они доставали из подвала вещи Стопфольда. Понятно, что хлам, но хоть холстинка могла заваляться.
– Может, и завалялась в какой частной коллекции. – Костров помассировал икры жены.
– Гугл безмолвствует.
– А то бы я выделил миллион-другой из школьного бюджета.
– Я нашла любопытное упоминание в дневнике земского врача. Опубликован в двадцать седьмом в Париже. Автор посещал Горшин, гостил у Стопфольдов и… вот, послушай, – она скользнула пальцами по тачпаду: – «Г. С. презентовал новую картину. „Монах-отшельник“. Ужас ужасный. Вместо монаха – некое чудище, прожигающее буркалами публику. Дамы покинули гостиную – смотреть на полотно гадко и неловко. А Г. С. ждет похвал, оценки. Одно скажу: наконец ему удалось вызвать портретом бурную реакцию, но такой ли реакции жаждет творец? Сейчас думаю, что снова видел того мерзейшего монаха – годы спустя – в глазах революционных матросов, гогочущих, обыскивающих нас с супругой».
– То, что надо, – сказал Костров, – идеальная картина для нашего музея. А у Марины Фаликовны, я смотрю, много свободного времени. Загрузить, что ли, работой?
– Не тронь Марину. – Жена отложила ноутбук, потянулась. Под футболкой очертилась грудь. – И держи от нее подальше Каракуц. Совсем девочку извела.
– Вы сдружились.
– Да, она хорошая.
– Согласен. Класс ее любит, это главное.
Пальцы Кострова подцепили резинку сиреневых трусиков.
– И чего мы хотим? – нахмурилась Люба.
– Любовь Антоновна… я книжку потерял.
– Какую книжку?
– «Пятьдесят оттенков серого». Брал читать и потерял.
– Это же библиотечное имущество, Костров!
– Что же делать, Любовь Антоновна?
Люба раздумывала.
– Очки не снимай, – попросил Костров, ластясь.
– Так. За книгу я спрашиваю строго.
– Вы уж спросите… по всей строгости… – Костров перекатился на спину. Люба оседлала его, прильнула, шаловливо лизнула мочку. Поползла вниз.
– Это еще что? – охнула Люба, приспуская пижамные штаны мужа. – В школу с таким нельзя.
– Любочка… солнышко… – Костров нетерпеливо стиснул ее плечо.
Люба заработала бедрами. Глаза блестели за овальными стеклами очков.
– Да, – зрачки Любы закатились, – да, сильней…
– Тише, – Костров испугался, что они разбудят Настю.
Руки жены впились в его бока – грубее, чем обычно. Влажные шлепки участились. Казалось, не Люба скачет на нем – а ее толкают сзади.
За пеленой возбуждения проклюнулась мысль: что-то не так. И дело не в излишней грубости.
Изменились ощущения.
Глаза Кострова расширились.
Люба не замечала, царапая его торс.
Кто-то третий находился в постели.
Костров захлопал ртом.
Люба запрокинула голову – из-за ее растрепавшихся волос выплыло оскаленное похотливое лицо.
Нечестивый Лик.
Костров закричал.
Паша (5)

За окном накрапывал октябрьский дождь. Укутало сизой дымкой турникеты и стадион. Ветер мел по тротуару листву. Футбольное поле превратилось в болото.
Тем приятнее было смотреть на Марину Фаликовну. Темноволосую, утонченную. Такую летнюю на фоне осенней мороси. Паша записал в блокнот: «Героиня: брюнетка, волевая, июльская. Сравнения: как мед, как нагретый солнцем мрамор».
Марина Фаликовна, присев на край стола, декламировала:
Паша покосился на последнюю парту. Руд сложил пальцы сердечком и послал воздушный поцелуй. Паша продемонстрировал ему исподтишка средний палец.
Прошла неделя с тех пор, как они вломились в подвал. Эмоции успели притупиться. Всему происшедшему нашлось рациональное объяснение. Разве только чувства, вызванные рисунком, не поддавались логическому анализу. Смятение и страх, отвращение и тяга… Зажмуриваясь, Паша видел потеки на бетоне, складывающиеся в портрет. Слышал вкрадчивый шепот.
Он согласился с Рудом. Картинка – художество кого-то из учеников. Он знал: в подвале Руд испытал ту же иррациональную тревогу, то же омерзение, словно трогаешь дохлятину.
Они договорились молчать о своих приключениях. Соврали Курлыку, что отсрочили поход.
Негритяночка больше не появлялась во дворе. Возможно, уехала обратно в Псков. Паша был рад, что не познакомился с ней. Не нужны ему подруги, расхаживающие в чем мать родила по подвалам.
Баба Тамара, как обычно, дежурила на посту. Божий одуванчик, ни за что не скажешь, чем занимается в нерабочее время.
«Вот так со всеми взрослыми», – давно смекнул Паша.
– Александр Сергеевич, – говорила учительница, – был чуток к веяниям западной культуры. Как и Лермонтов, он вдохновлялся творчеством главного английского поэта – лорда Джорджа Байрона. Влияние байронизма особенно заметно в ранних произведениях Пушкина… Влад, тебе скучно?
Долговязый Влад Проводов отклеился от уха соседки.
– Скучновато, – сказал он развязно.
По классу прошел шепоток.
– То есть, – не изменилась в лице Марина Фаликовна, – Байрон писал поэзию и прозу, боксировал, объездил весь мир, влюблялся в красивейших дам своей эпохи, отправился воевать в Грецию и умер в тридцать шесть, а тебе скучно о нем слушать?
– Жили они интересно, – сказал зазнайка Проводов. – Но стишки их… мертвые стишки.
– Объясни нам, – попросила Марина Фаликовна.
Внимание аудитории подбодрило Проводова.
– Вы вот читали: брег… зыби… кто так сегодня говорит? Кому интересно, что Пушкин был на море и ему понравилось? Почему не писать про жизнь?
– А про море – это не про жизнь? – с благожелательной улыбкой спросила учительница.
– Вы поняли, о чем я. Поэзия – это кремовые розочки на торте.
Несколько парней загудели в знак солидарности.
Паша, в принципе, был далек от рифм, но хотелось поддержать Крамер. Она же молодая, все с чего-то начинают. Зачем урок срывать?
– Я боюсь, ребята, у вас превратное представление о поэзии.
– Какое сформировали, – возразил Проводов. – Мы что зубрили? «Белую березку за моим окном». Вызубрили, вышли из школы, а под березкой пьяный мужик валяется. Простите, в блевоте. Нас к этому поэзия не готовит. Она беззубая. Не про действительность.
– А ты побольше Есенина почитай, – сказала староста Бесик.
– Я читал. И что? Ну про кабак, ну про водку. Говоря вашим языком, эка невидаль.
– Значит, ни море, ни кабак, тебя не впечатляют, – подытожила Марина Фаликовна. Она прогулялась к окну, к холодной мороси. – Влад, а ты какую музыку слушаешь?
– Допустим, рэп.
– И чем тебе нравится рэп?
– Протестом. Текстами.
– Текстами? – зацепилась учительница. – А тексты – это не стихи? Оксимирон, Типси Тип – разве не современные поэты?
Эрудиция Крамер сработала; одноклассники закивали, переглядываясь.
– Это другое, – не сдавался Проводов.
– Но они выросли из Есенина, из Маяковского и Пушкина. Дай бог, из Байрона тоже. Но в чем-то ты абсолютно прав, Влад. Тебе не интересно про березку – и это вина наша, учителей. А поэзия – не просто про жизнь. Она и есть жизнь во всех проявлениях. О любой проблеме – от глобальной до самой личной – есть сильные строки.
Проводов промолчал, но с галерки выкрикнул троечник Лысин:
– Про разборки в черном квартале есть стихи? У Снуп Догга песня есть.
Паша перевел взгляд на Марину Фаликовну. Задумавшуюся и оттого ставшую еще симпатичнее.
«Чего я ее по имени-отчеству? Просто Марина…»
– Не совсем про квартал, – сказала учительница. – Был такой советский поэт, Юрий Домбровский. Мы его не проходим, а жаль. Многое узнали бы о людях. Домбровского четырежды арестовывали по ложным обвинениям. В тридцатых и сороковых. Отбывал срок в ГУЛАГе, в колымских лагерях. Есть у него такие стихи. – Она внимательно осмотрела класс, словно проверяла, можно ли доверять ученикам. Прочла на память:
Меня убить хотели эти суки,
Но я принес с рабочего двора
Два новых навостренных топора
По всем законам лагерной науки.
Мальчики, захмыкавшие на слове «суки», притихли.
Пришел, врубил и сел на дровосек.
Сижу, гляжу на них веселым волком.
«Ну что, прошу! Хоть прямо, хоть проселком».
«Домбровский, – говорят, – ты ж умный человек»…
Паше понравилось про веселого волка. И то, что автор вставил в строки свою фамилию, и то, что герой был высоким, безмолвным и худым, и смело сидел на лагерной завалинке, пока к нему подбиралась толпа зэков с финками. Когда Домбровский сошелся в бое с главным, Чеграшом, у слушателей вытянулись лица. Ни Проводов, ни Лысин не остались безразличными.
Марина читала о том, как Домбровский, размахивая двумя топорами, клал на лопатки орду, и у Паши мурашки побежали по коже. Он не догадывался, что так разрешено в поэзии. Не березка, а топоры и кровь.
В конце стихотворения герой выходил из лагеря, возвращался в мир тонких женщин и трактирных гениев, но не находил здесь себя. Строки «И думаю, как мне не повезло» анализировали вместе: «Ведь выжил! – не понимали ученики. – Значит, повезло!»
А Паша понял. Смерть от финки уголовника Чеграша была лучше прозябания, лучше молчаливого зла и грошового добра.
– У Домбровского есть роман, – сказала Марина, – «Обезьяна приходит за своим черепом» называется. Он о стране, в которой к власти пришли фашисты. Фашистская идеология проникает всюду, в том числе в науку. Ученых-антропологов вынуждают сотрудничать с системой, чтобы они писали лживые труды о неполноценных расах. Это не домашнее задание – но, если кто захочет, прочтите. Я в вашем возрасте читала, и многое для себя почерпнула.
– …Добровский? – пробормотала библиотекарь Кострова. – Ага, Юрий Осипович. «Обезьяна приходит за своим черепом». – Она посмотрела на Пашу. – Вы же не советский период проходите.
– Нет. Мне для себя.
– Похвально. Секундочку.
Кострова исчезла за стеллажами, а Паша подошел к музейному стенду. Весной, в качестве гида, он устраивал экскурсию для малышни: «Это ложка, изготовленная ремесленниками XIX века. Это – веретено, на него женщины навивали пряжу. В такой обуви ходили наши предки. А так выглядело старое здание нашей школы – особняк помещика Стопфольда».
Он посмотрел на застекленную фотографию в рамке. Дом и флигель с мезонином.
Стекло отразило Пашино лицо. И лицо того, кто стоял за его спиной. Страшную, явившуюся из подвала морду.
Паша резко обернулся, ожидая столкнуться с Зивером нос к носу. Но увидел лишь серебристые пылинки в воздухе.
Марина (7)

Ничто не предвещало беды.
Отгремел первый Маринин профессиональный праздник. Рабочий стол тонул в цветах. Костров и Каракуц поздравляли после уроков. Сплавив начальство, педагоги врубили музыку. Линтинская, учительница младших классов, откупорила шампанское. Плечистая Мачтакова, физра, накапала по стаканам коньяк. Танцевали: единственным мужчиной был Антон Павлович Прокопьев. Женоподобный учитель рисования по очереди вальсировал с коллегами, галантно целовал руки и театрально стрелял глазами.
Маринина мама поговаривала: «Много не смейся, а то смех весь истратишь, печалиться начнешь». Дедушка ее позицию критиковал: «Глупости, смех притягивает веселье».
Но девятого октября права оказалась мама.
На перемене прибежала биологичка Швец. «ЧП, твои оболтусы сперли голову!»
Не сразу дошло, о чем речь. Скелет – поддельный, конечно, – дежурил в кабинете биологии, охранял пыльные чучела белки и зайца-беляка (увы, не поддельные).
– Череп сперли! – возмущалась Швец. Отвела Марину полюбоваться обезглавленным беднягой.
На той неделе учащиеся вообще буянили. Лариса Сергеевна Самотина глотала в учительской валерьянку, жаловалась:
– Ну не нравится тебе Путин – я-то тут при чем? Я – математик! У нас тема – основное свойство первообразной. А он мне – про Болотную площадь! Урок сорвал…
Потом первоклашка закатил истерику, в девятом пропала дисциплинарная тетрадь.
Череп нашелся быстро – Марина провела воспитательную работу. По-человечески поговорила со своим классом.
– Я полагала, у меня седьмой класс, а не детсад. Вопрос «зачем?» мучает сильнее, чем вопрос «кто?». Малышей пугать? Ну давайте я вам сейчас прочитаю лекцию на тему «Неудачная шалость или злонамеренный поступок». «К чему приводит озорство». Простите, иллюстрационных плакатов нет…
Педагог Сухомлинский говорил, что в основе нравственной убежденности лежат чувства. А Марина чувствовала себя лицемерным дерьмом. Сама же в шестом классе пририсовала школьному скелету брови фломастером.
Череп вернули, и зря она грешила на Тухватуллина. Оказалось, в коллективе завелись будущие Спилберги: два отличника планировали снять короткометражку, вот и арендовали без спросу реквизит.
– Да вы прямо гордитесь ими, – бросила презрительно Каракуц.
– Не горжусь. Поступок глупый, ребяческий. Но хорошо, что они увлекаются: фильмами, музыкой.
– Они бандиты, Марина Фаликовна. Потенциальные преступники. А вы их выгораживаете.
«Бандиты, – бормотала про себя Марина, шагая под фонарями, имитировала интонации завуча. – Бандитское строение черепа»…
«Дура вы, – подумала она, слушая тираду Каракуц. – Они – мои дети. Даже Тухватуллин – мой ребенок. А вы про них… дура…»
Подруги приказали не вешать нос. Компанией из трех «К» – Крамер, Кострова, Кузнецова – отправились в Стекляшку, объелись пиццы. Уже возле общежития Марина обнаружила, что забыла на работе сумочку с ключами от квартиры.
«А вдруг тетя Тамара домой ушла? Под лавкой ночевать?»
Ругая завуча – словно та виновата в ее рассеянности, – Марина отряхнула зонтик, толкнула входную дверь. Открыто. Спасена.
В вестибюле не было ни души, и в боковых крыльях, и в темном закутке у актового зала. Раскат грома застал на ступеньках. Зарокотало, будто бы не в небе, а в недрах холма. Ливень хлестал по зданию.
Без детей школа выглядела жутковато.
В голову лезли странные мысли: о фальшивом скелете, стучащем фальшивыми зубами. О чучеле зайца, выпучившем черный стеклянный глаз. О ночных учениках в запертых комнатах.
Отдавали эхом шаги. Молнии вспыхивали снаружи, заполняя оконные рамы белым светом. Словно Марина шла не мимо окон, а мимо полотен, изображающих Страшный суд.
А ведь здесь, на этом уровне, некогда располагался второй этаж фамильного особняка. Галерея…
Она отперла свой кабинет. Сумка висела на спинке стула.
«Растеряха», – пожурила она себя.
Канонада грома звучала над Горшином.
Взгляд задержался на партах. Марина мысленно убрала их, превратила класс в дамскую опочивальню. Шелка на стенах, изящный туалетный столик с бутылочками парфюмов. Кровать с балдахином.
И прапрадед зовет из гостиной, звенит колокольчиком:
– Марина, ma chérie, пора ужинать, стол сервирован.
– Ах, одну минуточку…
Она улыбнулась. Голубая, мать ее, кровь.
Покинула кабинет, закрыв на ключ портреты классиков.
У перил, в двадцати метрах от нее, стоял мальчик. Крепящиеся к фасаду фонари освещали крыло, но возле лестницы окон не было. Крошечный силуэт сливался с темнотой. Первоклашка? Что он забыл в пустой школе?
– Малыш…
Она зашагала по коридору.
Молния озарила этаж, высветила землистое лицо мальчика.
Он улыбался. Марина инстинктивно отшатнулась.
Рот мальчика – если это был мальчик, а не сморщенный лилипут, – изогнулся подковой. Губы растянули щеки и поднялись до уголков черных косых глаз. Из щели под вздернутым носом торчали зубы…
Существо бросилось вниз. Ноги зашлепали по ступенькам.
«Трусишка! – подумала Марина, выдыхая, – это же маска!»
Она дошла до перил. В воздухе витал запах шоколада.
«Ну и почему ребенок в маске играет в школе вечером?»
Ужасная личина маячила перед глазами. Осень салютовала залпом из всех орудий.
Марина спустилась в вестибюль. На дежурном посту сидела вахтерша.
– Здравствуйте, тетя Тамара. Тут пробегал мальчишка.
– Вы ошибаетесь, – ответила пожилая женщина. – Я никого не видела.
– Вы только что вернулись?
– Я никуда не уходила.
«Ага, – хмыкнула Марина, – просто спрятались под стол, когда я поднималась наверх».
– Но мальчик минуту назад скатился по лестнице.
– Во что он был одет?
Марина затруднялась сказать. Помнила лишь улыбку до ушей.
– Эм… в страшную маску.
– Простите, не могу помочь.
Марина подошла к двери. В южном крыле было темно и пусто. В западном, в тупике, у туалетов, возвышалась тень. Сан Саныч тоже не спешил домой.
«Они разберутся», – сказала себе Марина.
Секунд десять смотрела на неподвижного Сан Саныча, а затем выскочила под дождь.
Тиль

У автовокзала паслись заляпанные грязью ЛАЗы. Пригородные автобусы курсировали по соседним деревням. «Мерседесы» катили в Москву. Было лишь два внутренних маршрута: круговой, для ленивых, от Стекляшки до рыбокомбината, и номер восемь, до кладбища, расположенного за чертой Горшина.
Тиль часто ездил на восьмерке, проведать могилку, посидеть у надгробия. Но сегодня он высадился раньше, возле леса, угрюмого, шумящего на ветру. Стемнело несколько часов назад. Грузовики, рыча, проносились мимо. Мокрый асфальт отражал свет фар. Казалось, сквозь лужи виден мир-перевертыш, где спешат кверху брюхом машины.
Тиль повертелся разочарованно. Обочина была пуста. Да и кого он рассчитывал найти в такую погоду?
Ветер, и пакостный дождь, и трескучий сосняк, и…
Тщедушная фигурка, карабкающаяся из низины. Девчонка, на ходу застегивающая ширинку.
Тиль перебежал дорогу. Знал, что может напугать своими габаритами, потому сбавил шаг, прикинулся дачником, возвращающимся домой пешком. Исподлобья изучал девчонку.
Молоденькая, в узких джинсах и дождевике. Замерзла, притоптывает каблучками. Из-под капюшона выбились огненно-рыжие волосы.
Оказалась не из пугливых, заговорила сама:
– Добрый вечер. Заблудились?
Тиль возвышался над рыженькой почти на полметра.
– Гуляю, – пробасил он.
– И я гуляю. Можно с вами? До остановки, а то тут лазят всякие.
– А я – не всякий?
– Нет! Вы – учитель. У моего брата труды вели.
– Так и есть. Идем.
Они перебежали дорогу. Тиль махнул встречному автобусу. В салоне – дремлющая бабка с накрытым тряпкой ведром. От ведра пахнет рекой. Автобус тронулся. Рыжая фривольно устроилась в третьем ряду. Тиль не сел рядом – выбрал место впереди.
– Передайте. – Между сидений сунулась миниатюрная рука с купюрой.
– Я за тебя заплатил.
– Ой, спасибо.
Девица зашуршала дождевиком. Помолчала, снова склонилась к Тилю:
– А вам ничего не надо?
«Надо, – подумал Тиль. – Чтобы мертвые восстали из могил и воссоединились с любимыми, как обещал Бог».
Именно обещал. Не словами, но Тиль почувствовал в подвале. Бог появился на стене, чтобы изменить порядок вещей. И он, Сан Саныч Тиль, должен помочь Богу.
– В каком смысле? – спросил он попутчицу.
Тиль смутно понимал, что поменялся и сам. Что не живет, как раньше, а мчит, подобно комете, и не умеет ни свернуть, ни сбавить скорость. А когда он начинал задумываться – например, про племянницу Тамары и про то, что они с ней сделали – мозг словно отключался. Боль накатывала. Вместо мыслей приходил образ женщины, снова и снова умирающей на больничной койке. Странно, что ни коллеги, ни ученики не замечали. Порой хотелось ножовкой распилить голову и выпустить наружу терзающий огонь.
Ледяные пальцы девчонки коснулись загривка. Он скривился.
– Вдруг вам нужно расслабиться.
Само собой, на трассе она не грибы собирала, и все равно учитель был шокирован. Подавив негодование, он ответил:
– Можно и расслабиться.
Они вышли на вокзале.
– К вам? – спросила рыжая.
– В школе сейчас никого нет.
– В школе у меня еще не было. – Она улыбнулась. Худая, с плохой кожей, с гнойником на губе, но глаза – голубые, красивые. – Идите вперед, чтоб нас вместе не видели. А то раструбят.
Сообразительная.
Запахнув пальто, Тиль шагал по проспекту.
Он изумлялся, как так произошло, что Господь выбрал именно его – из шести миллиардов землян, из семнадцати тысяч горшинцев – какого-то несчастного трудовика, чтобы разгрести мусор, скопившийся за два тысячелетия.
Впрочем, и апостолы, кажется, были из народа, не благородными мужами.
Бог знал: Тиль не подведет.
У холма он сделал звонок.
– Подходите? – спросила Тамара. – Подходите, подходите, свободно.
Зорким оком Тиль засек силуэт около кустов: Игнатьич.
Дождь омывал школьный фасад.
В субботу внучатая племянница Тамары родила первенца. Живот вырос быстро, за неделю. Как тут не уверовать в чудо? Тамара приняла роды. Черное, пахучее хлынуло из Лили. Существо, ангелок, мурлыкало на руках вахтерши. Улыбалось – мозг закипал от его улыбки. Так много зубов…
Тиль вошел в вестибюль. Через минуту подоспела рыжая.
– Давненько я здесь не была. Бобриха работает до сих пор? А Кузнецова?
Тиль односложно бурчал. Спустились по лестнице, миновали кабинет трудов. Тамара не заперла желтую дверь. Внизу горела лампа.
– Булками пахнет, – сказала рыжая.
– Кровати нет, – буркнул Тиль.
– Я на коленях сделаю, – не огорчилась девчонка, – сексом не занимаюсь, это для будущего мужа, – она коснулась своего паха, – в рот – и все. Пятихатка – нормально?
– Нормально. – Тиль снял пальто. Под ним была его старая спецовка. – Иди налево. Я подойду.
Он доставал из шкафа киянку, когда услышал изумленный всхлип.
«Увидела, – подумал, улыбнувшись. – Проняло».
Волосы Тиль убрал под душевую шапочку. Надел резиновые перчатки. Пошел к рыжему пятну, яркому на фоне серого бетона.
Девчонка мелко вздрагивала, словно сквозь тело пропускали ток. Электричеством был взгляд Бога.
– Что же это, – застонала она, протягивая к рисунку руки. Она плакала. – Черви и колтуны. Колтуны и черви.
Тиль ударил. Плоский боек раскроил затылок. Создалось ощущение, что он вколотил девчонку в пол, как гвоздь. Повторный удар вмял скальп в осколки костей и мозговое вещество. Девчонка упала. Тиль опустился рядом и орудовал молотком, пока чавканье не сменилось глухим стуком о цемент.
«Не беда, – подумал он, стирая со щек багровую росу, – ты тоже переродишься».
Подхватив легкое тело, Тиль усадил девчонку спиной к стене.
Рыжие завитки влипли в кашу, которым стал ее череп. Височная кость торчала закрылком. Правая глазница походила на арку, в ней лежало залитое юшкой глазное яблоко.
Разглядывая труп, Тиль не испытал ровным счетом ничего. Ни раскаяния, ни жалости, ни скорби. Но когда кровь и серые сгустки, презрев физические законы, поползли по бетону вверх, к трещине, когда тело завибрировало, отдавая себя в пищу стене, Тиль облегченно улыбнулся.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































