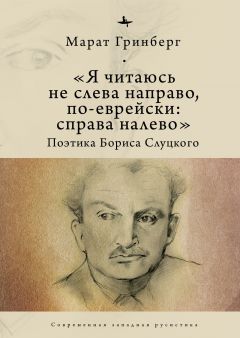
Автор книги: Марат Гринберг
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 29 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Какой свободой пользуется на деле поэт-апроприатор?
Роберт фон Холлберг. «Поэтическая власть»
На самом базовом и нутряном уровне Слуцкий подходит к послевоенному антисемитизму с личных позиций. Подобно многим другим, он был его жертвой. Публиковаться ему не давали, ему повезло найти работу учителя истории и диктора на радио, где он освещал разные темы[117]117
См., например, стихотворения «Как меня не приняли на работу» [Слуцкий 1991b, 2: 35] и «В январе» [Слуцкий 1991b, 1: 166].
[Закрыть]. Однако более существенно, что параллельно его настиг творческий кризис, коснувшийся самой сути его поэтики. Вопрос, который стоял перед ним неизменно, заключался в том, как сохранить собственное положение крупного русскоязычного поэта (крупного не в глазах власти, а в глазах потомков и традиции), продолжая творить в рамках своей переводной эстетики. В стихотворении «Я не могу доверить переводу…» Слуцкий пытается разрешить этот вопрос раз и навсегда, однако – возможно, почти вопреки собственной воле – натыкается на то, что вынужден отказаться от самой его постановки. Стихотворение это – яростно полемическое. Вот его текст:
Я не могу доверить переводу
Своих стихов жестокую свободу
И потому пройду огонь и воду,
Но стану ведом русскому народу.
Я инородец; я не иноверец.
Не старожил? Ну что же – новосел.
Я, как из веры переходят в ересь,
Отчаянно
в Россию перешел.
Я правду вместе с кривдою приемлю —
Да как их разделить и расщепить.
Соленой струйкой зарываюсь в землю,
Чтоб стать землей
И все же – солью быть
[Слуцкий 1991b, 1: 155].
Это – самое нерепрезентативное стихотворение во всем наследии Слуцкого. Если бы он сумел выполнить такую программу, перед нами был бы совсем другой поэт. В тексте воспроизводится самый узнаваемый троп русско-еврейской самоидентификации – вопрос обращения в другую веру. Слуцкий, советский и еврейский неофит, обыгрывает его. Он стремится к тому, чтобы его узнавали: «стану ведом». Использование церковнославянского глагола с его библейскими коннотациями крайне важно: сознавая тот факт, что в русской традиции любой крупный поэт – поэт национальный, Слуцкий едва ли не на эротическом уровне вожделеет признания со стороны русского народа. Однако еще принципиальнее то, что он сопоставляет перевод со сменой веры и, соответственно, изображает его в виде ереси.
Будучи декларацией веры, стихотворение пропитано обманчивой прямолинейностью и максимализмом, причем в итоге и то и другое терпят полный крах, обнажая свои логические изъяны. Христианство, крайне значимое в случае Мандельштама и Пастернака, здесь исключается не столько по причине советского мировоззрения поэта, сколько потому, что он намерен сохранить собственную «жестокую свободу» в этой новой вере. Это крайне типичное для Слуцкого понятие: оно вбирает в себя историографическое внимание к деталям, память и противостояние божественному. Свобода позволяет ему использовать в стихах еврейскую экзегезу. В итоге обращение Слуцкого в новую веру оказывается не тем, чем замышлялось: оно скрытым образом усиливает его переводческую поэтику, вместо того чтобы пошатнуть ее основы. Вновь, как и в «Неоконченных размышлениях», поэт выходит за строго заданные границы собственной идентичности, в которых пытается удержаться.
Подобным же образом приятие поэтом «правды вместе с кривдою» говорит не столько о согласии с советской системой, сколько о новом приложении библейского отсутствия определенности к собственным художественным задачам. Даже в самых его откровенно советских стихах содержатся намеки на своеособость его позиции. «Я не могу доверить переводу…» обрамляют два других произведения: «Я говорил от имени России…» и «Как меня принимали в партию» [Слуцкий 1991b, 1: 107, 95–96]. В первом Слуцкий вспоминает свой опыт фронтового офицера-политработника. В итоге он провозглашает, что предъявит этот опыт как справку, когда станет в качестве поэта говорить от имени России. Это тоже в определенном отношении формулировка трикстера: он будет говорить от имени России, поэтические и лингвистические ресурсы которой с полным правом использует, однако то, что он скажет, будет исключительно его собственным. Второе стихотворение – также рассказ об инициации. Партия, в которую вступает Слуцкий, – разумеется, КПСС. Однако в стихотворении нет ничего, что даже отдаленно напоминало бы об этом. Лирический герой оказывается в некоем первобытном лесу, перед комиссией, «всё знающей о добре и зле». Картина смутная, одухотворенно-потусторонняя, озаренная одновременно светом одинокой свечи и луны. В конце концов поэт дает клятву не трусить и не лгать. Единственная внятная часть этого стихотворения, которая возвращает нас в ХХ столетие, – упоминание немцев и положения на фронте. Слуцкий отнюдь не эстетизирует партийную мораль и даже не выступает в качестве трансплантатора. Он описывает, как его вводят в священный нравственный чертог, в котором ощутимы приметы разложения. На него тяжко давит обязательство никогда его не покидать. Опять же, чертог этот он называет Партией, чтобы связать его с войной и своей эпохой, однако вряд ли он имеет отношение к идеологии, как в ее чистой революционной форме, так и в железной сталинской. Отношение он имеет скорее к «слову, чести и совести», подкрепленным «жестокой свободой» поэта, а следовательно – к его еврейству и, полагаю, иудаизму, сколь бы экзегетически поэт ни подавал его хоть в положительном, хоть в отрицательном ключе. Так, совершенно не случайно это стихотворение, вошедшее в первый его сборник «Память», почти никогда больше не цитировалось и не перепечатывалось, что отметил Болдырев в разговоре с Гаспаровым [Гаспаров 2000: 248]. Сарнов совершенно прав: «…на самом деле состоял он [Слуцкий] совсем в другой партии…» [Сарнов 2001].
В «Я не могу доверить переводу…» весь спектр «правды и кривды» зашифрован в трех последних строках. Поэт зарывается в землю, тем самым свое обращение в иную веру (или, скорее, еретический обряд) фактически превращая в проявление подобострастия. Зачем Слуцкому понадобилось использовать клише «соль земли»? Описание поэтики Мандельштама, данное К. Ф. Тарановским и пересказанное Роненом, помогает ответить на этот вопрос. По мнению Тарановского, «для поэтики Мандельштама характерна строгая мотивированность всех элементов поэтического высказывания не только в плане выражения и в семантических явлениях, связанных с тыняновским понятием “тесноты стихового ряда”, но и в плане содержания на самых высших его уровнях» [Ронен 2002: 14–15]. Как и Мандельштам, Слуцкий – поэт мысли. Избитые выражения он использует совершенно сознательно, наполняя их при этом новым, особым смыслом. Мне представляется, что в данном случае словами «соль земли» Слуцкий описывает свою трансплантацию. Примечательно, что он не уточняет, что зарывается именно в русскую землю, хотя это было бы логично, учитывая, что он желал бы стать вéдомым русскому народу. Однако Слуцкий следует собственной метапоэтической логике. Земля действительно русская – территория русской поэзии, – но присутствие Слуцкого и его метода постепенно кристаллизуется в ней, через соль, в особый поэтический участок[118]118
В посвященной Слуцкому статье «Сорвавшийся в ересь: о трагедии Бориса Слуцкого» я выдвигаю тезис, что «соль» служит аллюзией на текст Эренбурга, в котором этим словом обозначена сущность еврейства. См. [Гринберг 2006: 90].
[Закрыть]. «Корней я сроду не пустил», – заявляет он в другом стихотворении, написанном параллельно с «Я не могу доверить переводу…», однако при этом свою «дубовую избу» он твердо ставит на землю [Слуцкий 1991b, 1: 154]. Тем самым позиция, которая могла бы выглядеть раболепной или подобострастной позицией мелкого поэта, превращается в совсем иное высказывание в рамках значительной пространственной поэтики[119]119
Типичный пример анализа «мелких» стратегий см. в [Deleuze, Guattari 1986].
[Закрыть].
Слуцкий признал ошибку, присутствующую в этом стихотворении, и, как я уже показал, жестоко заклеймил ее в «Уриэле Акосте». Однако, как следует из нашего анализа, представленное там отрицание перевода далеко не безоговорочно. Судя по всему, на самом-то деле поэт утверждает: «Я не могу доверить только переводу» – ритмически это возможно. Действительно, перевод следует воспринимать как концепцию, чрезвычайно близкую Слуцкому, как один из элементов его сложной системы. Глагол «доверить» свидетельствует о намерении поэта. В еврейской Библии нет понятия «вера»; речь там идет о доверии. Вместо типичного обращения в иную веру Слуцкий доверяет свою жестокую свободу собственному творческому универсуму, важнейшим элементом которого остается перевод.
ПроклятиеПоэтический мидраш 1947–1953 годов обнажает, как функционируют его взаимосвязанные элементы: полемический, экзегетический и метапоэтический. Частью этой системы является стихотворение «Про евреев», которое до сих пор остается самым цитируемым из так называемых еврейских текстов Слуцкого. Однако, за вычетом моих более ранних работ, исследователи до сих пор обходили его вниманием [Grinberg 2006a][120]120
См. [Grinberg 2006a: 162–170].
[Закрыть]. Это стихотворение принято считать примером язвительной сатиры на грани самоуничижения, однако оно требует совершенно нового истолкования[121]121
Быстрый поиск этого стихотворения в Google свидетельствует о том, что его широко используют самые разные современные русские антисемитские группы, которые видят в его содержании признание инсайдера (Слуцкого) в злоумышлениях евреев против России.
[Закрыть]. В свете его полемически-герменевтического склада оно выглядит программным. Вот как оно звучит:
Евреи хлеба не сеют,
Евреи в лавках торгуют,
Евреи раньше лысеют,
Евреи больше воруют.
Евреи – люди лихие,
Они солдаты плохие:
Иван воюет в окопе,
Абрам торгует в рабкопе.
Я все это слышал с детства,
Скоро совсем постарею,
Но все никуда не деться
От крика: «Евреи, евреи!»
Не торговавши ни разу,
Не воровавши ни разу,
Ношу в себе, как заразу,
Проклятую эту расу.
Пуля меня миновала,
Чтоб говорилось нелживо:
«Евреев не убивало!
Все воротились живы!»
[Слуцкий 1991b, 1: 165].
«Про евреев» – продуманно-стратегический текст. В нем Слуцкий использует целый ряд полемических техник: 1) вводит прямую речь, в данном случае – голос своего врага (первые две строфы – это дословное воспроизведение антисемитских заявлений, которые в послевоенном СССР звучали повсюду); 2) интонация однозначно личная, так что не остается никаких сомнений относительно личности лирического героя; 3) используя герменевтический прием, автор направляет проклятие, нацеленное на евреев, против самих антисемитов, победоносно возвещая в конце, что еврей все равно выживет. Это не пример самоуничижительной стратегии, классическое определение которой дал С. Гилман [Gilman 1986][122]122
Подробнее о самоуничижении см. в главе 6.
[Закрыть]. Слуцкий не тиражирует стереотипы, созданные злодеями, а формулирует свой, независимый ответ, уходящий корнями в иудаизм и свободный от банальностей. Пользуясь словами Дж. Батлер (сказанными по другому поводу), «это не апроприация доминантной культуры с целью подчиниться ее правилам, а апроприация, устанавливающая собственные правила доминирования» [Butler 1993: 57].
«Я все это слышал с детства», – подчеркивает Слуцкий, тем самым в одной строке развенчивая миф о филосемитской обстановке в довоенном СССР, который и сегодня звучит во многих воспоминаниях и в трудах историков[123]123
В «Записках о войне» Слуцкий говорит, с каким интересом евреи в освобожденной Венгрии расспрашивали его о еврейской жизни в СССР. Он и другие офицеры рассказывали прекрасные сказки об идеальной жизни советских евреев. Затем Слуцкий добавляет: «Однако настойчивое любопытство зарубежных евреев принесло свои результаты. Вскоре они знали детали… Рассказали им об этом, видимо, галицийские евреи, лишенные солидарности советских граждан» [Слуцкий 2005: 129].
[Закрыть]. Возможно, именно послевоенный антисемитизм стал толчком к написанию стихотворения, однако повод для него, по крайней мере у Слуцкого, существовал всегда. Слово «зараза» играет в стихотворении центральную роль. Зараза легко распространяется и поражает все, до чего дотянется. По мнению антисемитов, евреи – прóклятый народ. Слуцкий не возражает против этого определения, однако, радикально видоизменяя его смысл, решает носить это «проклятие» в себе, точно заразу, заражая других всеми проявлениями своего еврейства и впрыскивая в антисемитов его «яд». В итоге зараза представлена как источник жизни, спасший Слуцкого на фронте, и в ней воплощены все самые страшные кошмары антисемитов. Соответственно, проклятие становится благословением, напоминая слова Господа, обращенные к Аврааму: «И благословятся в тебе все племена земные» – но только те, что благоволят к Его избранному народу. Стихотворение представляет собой тонкую апроприацию истории Валака, царя моавитян, который требует, чтобы Валаам проклял израильтян, но вместо этого Валаам, не будучи в силах ослушаться Господа, благословляет их (Числ. 22: 2–24: 9). Слово «заражать» также использует любимый Слуцким Толстой в «Что такое искусство?» при описании природы искусства: оно заражает других собственными образами и настроением [Gustafson 2006: 369–391]. Если принять это во внимание, то все поэтическое наследие Слуцкого можно рассматривать как несущее в себе еврейскую заразу, которая заражает читателя своими множественными смыслами и проявлениями, противостоя антисемитской лжи и историографии. Безусловно, в стихотворении присутствует и подтекст холокоста, замаскированный под отсылку к войне в целом. Утверждая, что все евреи вернулись с фронта живыми, поэт пытается обмануть историю и вернуть к жизни уничтоженную еврейскую цивилизацию.
Совершенно очевидно, что в лирическом герое находит воплощение все еврейство[124]124
Параллельный анализ коллективного и личного в использовании Слуцким памяти в стихах о войне см. в [Хейно 2005].
[Закрыть]. Таким образом в стихотворении возникают историографическое и метафизическое измерения, превращая катаклизм и скорбь в триумф, а мессианское обещание воздаяния – в поэтическую реальность. Аналогичное сплетение коллективных, экзегетических и личных нитей мы видим и в двух других важнейших стихотворениях этого периода: «У Абрама, Исака и Якова…» и «А нам, евреям, повезло…».
Стихотворение «У Абрама, Исака и Якова…», написанное до начала послевоенных антисемитских кампаний, – уртекст этого периода. Будучи экзегетическим стихом в чистом виде, оно предвосхищает взрыв, помещая его в ревизионистскую библейскую рамку. В нем хладнокровно утверждается:
У Абрама, Исака и Якова
Сохранилось немногое от
Авраама,
Исаака,
Иакова —
Почитаемых всюду господ.
Уважают везде Авраама —
Прародителя и мудреца.
Обижают повсюду Абрама,
Как вредителя и подлеца.
Прославляют везде Исаака,
Возглашают со всех алтарей.
А с Исаком обходятся всяко
И пускают не дальше дверей.
С той поры, как боролся Иаков
С богом
и победил его бог,
Стал он Яковом.
Этот Яков
Под любым зодиаком убог
[Слуцкий 1991b, 1: 71].
Стихотворение Слуцкого построено на экзегетическом использовании имен[125]125
Лосев совершенно справедливо считает «Исаака и Авраама» Иосифа Бродского, где тоже присутствует игра с именами, прямым заимствованием из Слуцкого и данью ему [Лосев 2006: 64].
[Закрыть]. Имена и процесс наименования – одна из фундаментальных черт Книги Бытия, где они играют основополагающую роль в передаче основного смысла текста: договор между Богом и Авраамом связан с изменением имени патриарха с Аврама на Авраама в главе 17; имя Исаака также глубоко символично. Слуцкий обыгрывает имена патриархов: их канонические варианты из Писания на церковнославянском, священном языке православной традиции (Авраам, Исаак, Иаков) и их просторечные эквиваленты (Абрам, Исак, Яков). Поэтическая игра слов обнажает проблематику стихотворения: несоответствие между каноническим текстом, выхолощенным и поколебленным, и жизнью обычных людей, в данном случае – советских евреев. В итоге Слуцкий задается почти тем же вопросом, что и Бубер в «Наших современниках и еврейской Библии»: как читать Библию без «религиозных» и «научных постулатов», без «надуманных концепций» [Seidman 2006: 4–12]? Слуцкий в качестве решения предлагает гуманизировать библейский текст и провести резкий контраст между жизнью и историей, с одной стороны, и постулатами традиции – с другой. Осуществляет он это через тонкую импровизацию на тему тех литературных элементов, которые и придают Библии неопределенность, утратившуюся в силу канонизации текста.
Слуцкий проделывает то, что Фатеева метко называет – в интертекстуальном ключе – авторским «расщеплением» текстуального источника в противоположность его «углублению» [Фатеева 2007: 15]. Видоизменяя библейское содержание, Слуцкий «встряхивает» сложившийся текст, добавляя в него свежее значение, а не повторяет то, что принято считать интенцией этого текста. Слуцкий действует в духе классического мидраша, для которого характерно изменять, расширять и переписывать нарратив Писания через интерпретацию. Последние шесть строк стихотворения служат иллюстрацией к этому восстановлению библейской неопределенности. Слуцкий меняет – на противоположный – смысл эпизода из Книги Бытия, в котором Иаков сражается с неким божественным созданием (32: 24–30):
И остался Иаков один. И боролся Некто с ним до появления зари; / и, увидев, что не одолевает его, коснулся состава бедра его и повредил состав бедра у Иакова, когда он боролся с Ним. / И сказал ему: отпусти Меня, ибо взошла заря. Иаков сказал: не отпущу Тебя, пока не благословишь меня. / И сказал: как имя твое? Он сказал: Иаков. / И сказал: отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь. / Спросил и Иаков, говоря: скажи имя Твое. И Он сказал: на что ты спрашиваешь об имени Моем? И благословил его там. / И нарек Иаков имя месту тому: Пенуэл; ибо, говорил он, я видел Бога лицом к лицу, и сохранилась душа моя.
В том, как поэт изменяет смысл оригинала, переплетаются историческое и экзегетическое. У Слуцкого Бог одолевает Иакова и тот становится Яковом, то есть приобретает русский вариант имени патриарха, и этому Якову суждена убогая доля. Слуцкий пародирует Библию. Тем самым он, видимо, указывает, что в мире, в котором только что случился холокост, а русские евреи опять начинают подвергаться преследованиям, образ одержавшего победу патриарха необходимо кардинально переиначить. Да, Яков у Слуцкого тоже видел Бога, но для него, не столько мифологического, сколько исторического еврея, эта встреча навсегда связана со страданиями и, что даже еще важнее, с выживанием, укорененным в роли Иакова как трикстера.
Таков комментарий Слуцкого – в традиции раввинистической гомилетики: он берет на себя смелость переписать текст, дабы обновить его смысл для своего поколения. Успешной можно считать только ту поэтическую интерпретацию Библии, которая движется в обоих направлениях: с одной стороны, показывает спор поэта с Писанием и традицией, с другой – говорит с каноном на его собственном языке, открывая читателю всю сложность этого текста. Той же цели достигают и стихи Слуцкого: вместо того чтобы отказываться от библейского смысла текста, он сохраняет его через расщепление. Привлекая внимание к историческим бедам евреев, поэт выводит на первый план неопределенность Торы и наполняющий ее экзистенциальный ужас перед встречей с Божественным. Он одновременно и воссоздает для собственного стиха «свойства библейских нарративов – умолчания, эллипсы, проблематичность», и подтверждает то, чему Э. Ауэрбах дал классическое определение «постоянных интерпретативных изменений собственного содержания» в Библии, или то, что Ф. Макконнелл в своем прочтении Ауэрбаха называет «бесконечной автоинтерпретацией» Библии и ее «ревизионной динамикой» [McConnell 1986: 149].
В конечном итоге Слуцкий соглашается с библейской диалектикой: увечье Иакова дарует благословение, беды Якова тоже скрывают в себе благословение. Чтобы все это объяснить, Слуцкий пишет в самый разгар этой страшной «зимы» аксиоматическое стихотворение «А нам, евреям, повезло…»:
А нам, евреям, повезло.
Не прячась под фальшивым флагом,
На нас без маски лезло зло.
Оно не притворялось благом.
Еще не начинались споры
В торжественно-глухой стране.
А мы – припертые к стене —
В ней точку обрели опоры
[Слуцкий 1991b, 1: 164].
Это стихотворение, в котором дано одно из самых емких определений сталинской России («торжественно-глухая страна»), вписывает представление Слуцкого о коллективизме евреев в диалектику благословенного проклятия. Евреи уже не просто жертвы. В своих страданиях они обрели благословение, нравственную уверенность и единственную возможность выжить.
В данном случае правда торжествует над кривдой. Как и Адам с Евой в райском саду, евреи постигают разницу между добром и злом и обнаруживают в этом знании способность противостоять любым невзгодам. Как и поэт, они первыми отказываются от заблуждений по поводу того, что ждет впереди. Это стихотворение заставляет вспомнить строки американской поэтессы Мюриэль Рукейсер:
Быть евреем в двадцатом веке —
Значит быть получателем дара. Отказ,
Стремленье остаться незримым влечет
Гибель духа и каменное безумие.
Принятие – полная жизнь. Полнота агонии:
Сумерки в лабиринтах крови
Тех, кто противится, тщетно, противится. Бог
В роли заложника среди заложников
Рукейсер создает сильные образы в рамках эфемерного романтизированного пространства мифологизации еврея – так она контекстуализирует холокост. Слуцкий же пишет, стоя на твердом основании не только исторических деталей, но и иудаистской экзегезы. Проблема не в том, что еврей отказывается принимать свое ярмо, в результате чего Бог станет «заложником среди заложников», а в обнаженной здесь изначальной уязвимости Бога в этом ужасном столетии. В ключевом стихотворении данного периода, «Я строю на песке, а тот песок…», Слуцкий воскрешает Божественную силу, притом подавая поэта как исконного библейского пророка, ввергнутого в отчаяние.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































