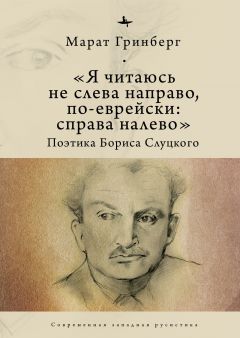
Автор книги: Марат Гринберг
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
Мидраш Слуцкого о золотом тельце вводит его систему в диалог с историей еврейского перевода и с ключевым посвященным ей текстом, статьей Бялика «Галаха и агада» (1917). В ней Бялик приводит цитаты из диспута талмудистов о том, какие «священные книги следует спасать [в субботу] от пожара… если они написаны в переводе на какой бы то ни было язык… Рабби Иоси говорит: “Не следует спасать их от пожара”». Бялик вступает в диспут и пишет: «Кто станет отрицать, что эта маленькая и сухая галаха дает нам… цельное образное представление об историческом и душевном отношении различных слоев еврейского народа к двум из наиболее важных своих ценностей – к языку и литературе? Не очевидно ли, что этот спор в Мишне и есть та “распря языков”, которая продолжается в среде еврейства с того времени вплоть до нынешнего дня?»[63]63
Бялик Х. Н. Галаха и агада. URL: jhistory.nfurman.com/traditions/halaha.htm (дата обращения: 13.09.2020).
[Закрыть] Откликаясь эхом на слова великого еврейского поэта, откликающегося, в свою очередь, на слова блаженных мудрецов древности, я задаю вопрос: будет ли спасен мидраш Слуцкого?
Далее Бялик приводит цитаты из разных раввинистических источников, посвященные «языковой проблеме», причем важнейшая из них – мнение, зафиксированное в хронике «Мегилат Таанит» и в талмудическом трактате Софрим (1: 7): «Тот день, когда Тора была переведена на греческий язык, был так же тяжел для Израиля, как и день содеяния золотого тельца, а Эрец Исраэль в течение трех дней был тогда покрыт мраком». Неведомо, учитывает ли Слуцкий эти толкования, когда обращается к эпизоду про золотого тельца. Ясно одно: используя Исх. 32 в качестве образца для перевода, он декларирует нестойкость и дерзновенность перевода и с русской, и с еврейской стороны. Свою оценку языка, причины «раздвоения народного сердца», Бялик заканчивает формулировкой того, как этот вопрос будет виден в его эпоху: «Мудрецы говорят: учение должно быть только на древнееврейском. Один говорит: на древнееврейском, или арамейском, или любом ином языке. Другой говорит: еврейские предметы – на древнееврейском, прочие – на любом ином языке. Рабби такой-то говорит: учение должно быть только на еврейском» [Bialik 2000a: 56–57]. Слуцкий же требует, чтобы его тоже читали «по-еврейски». Далее Бялик объясняет, что под «еврейским» следует понимать идиш, который он называет «еврейско-немецким» (в оригинале на иврите – «ивритайч»): в этот термин, если вспомнить Блума, изначально заложено понятие перевода. Тем самым этот термин символически указывает на язык Слуцкого, место встречи русской логоцентрики, идишкайта и гебраизмов. Чтобы ответить на поставленный выше вопрос, будет ли спасен мидраш Слуцкого, я вновь обращаюсь к Бялику, который утверждает: «Спасают самые разнообразные священные предметы, и пути спасения их разнообразны, однако внутреннее духовное содержание всегда одно: спасти драгоценное национальное достояние от гибели способом, соответствующим темпераменту и взглядам спасителя» [Bialik 2000a: 63]. Герменевтический перевод / толкование, в чистой форме представленные у различных рабби и у Бялика соответственно, «помечают одновременно и преемственность, и разрыв» [Seidman 2006: 31]. Ракурс и тональность подобного прочтения Слуцкого подчеркивают преемственность как признак его поэтики.
Соответственно, «Уриэль Акоста» – это Книга Исход Слуцкого, которая сглаживает провал его проекта и представленную в нем перестановку параметров библейской справедливости. Это стихотворение одновременно и поправка к «Слепцам», и их завершение, поскольку «Слепцы», где путь поэта и его народа изображен как полный ошибок, предлагают радикально новую формулировку этических и исторических тропов пророков. В этом стихотворении зрячие «мы» периодически обретают прозрение, то есть к ним возвращается способность видеть. Подобное озарение посещает поэта и в «Уриэле Акосте». Его ждет «большая», но не «громкая» слава. Комментируя процитированный выше стих из Исх. 33: 18, Альтер указывает: «Нам вряд ли удастся с точностью установить, что именно слово кавод – слава, честь, Божественное присутствие, а в буквальном смысле “весомость” – означало для древнееврейского воображения» [Alter 2008: 505]. В системе понятий Слуцкого «слава» действительно несет в себе как загадочность, так и тяжкие исторические бедствия. Однако в 19-м стихе той же главы Бог вместо этого открывает Моисею Свою «всеблагость» (тув), которая, по словам Альтера, есть «проявление Его нравственных свойств как Божества. Притом всеблагость Господа недоступна для человеческих предсказаний, расчетов и манипуляций: Бог обладает неотделимым правом даровать благодать и сострадание любому, кого Он изберет, например Моисею». В рамках своей герменевтики поэт открывает эту тув и тем самым делает для себя возможным процесс возврата. Представление о принадлежности к еврейству как об обеспечивающей выживание и обновление «благодати», которая принимает форму неизбежного бремени, восходит к «Слепцам».
В свете такого прочтения «Прозреваю в себе еврея» Слуцкого приобретает глубокий и многослойный смысл. Как в случае двух сообщающихся сосудов в физике, образы двух стихотворений бесконечно перетекают из одного в другое. Смысл постоянно блуждает между ними, но более уже не по ошибке и не из необходимости защищаться, а в силу целительного элемента, заложенного в авторскую поэтику.
И, наконец, герменевтические приемы Слуцкого можно проследить и на уровне языка. Как в «Слепцах», так и в «Уриэле Акосте» звукопись служит одним из организующих принципов стиха. Притом в «Уриэле Акосте», где русский – это перевод с библейского, фонетическая игра построена на прямом включении древнееврейского в фактуру русской речи. Следуя принципам Хлебникова, Слуцкий строит шесть первых строк вокруг повтора одних и тех же согласных в глаголах (-сзр-, -стр-, -прз-, прб-, -рзб– и т. д.), смысл которых видоизменяют приставки (со-, про-, ра-, за-). В этом нет ничего необычного: Слуцкий, как всегда, сполна использует все ресурсы русской речи. Примечательно то, что он прибегает к трехконсонантным «кластерам». Мне представляется, тем самым он «заимствует» из иврита морфологический прием, основанный на создании семантики слова через сочетание трехбуквенных корней со всевозможными морфологическими элементами глаголов, прилагательных и существительных[64]64
Моя теория заимствований основана на понятиях Фатеевой «заимствование приема» и «претекст» [Фатеева 2007: 146, 156].
[Закрыть]. В результате морфемы в стихе работают как библейские цитаты. Возвращаясь к терминологии Беньями-на, я бы сказал, что в переводах Слуцкого широко используется языковой «буквализм», с помощью которого в русском языке создаются слова-заимствования из иврита – тем самым автор заставляет русский язык «читаться справа налево», с «инаковостью» интерпретации.
Это в высшей степени еврейский перевод. Э. Гринстейн, библеист-теоретик, дает еврейскому переводу чрезвычайно точное название «иврито-буквальный», отмечая, что «не будет сильным упрощением назвать иврито-буквальный стиль перевода еврейским, в отличие от идиоматического евангелического христианского подхода». Такой еврейский перевод «ведет слушателя к источнику на иврите», где «конфигурация ивритских фраз, слов и даже букв» дает материал для экзегетического прочтения[65]65
Цит. по [Seidman 2006: 17].
[Закрыть]. Действительно, лирический герой Слуцкого, чей «иврито-буквальный» голос доведен в «Уриэле Акосте» до совершенства, – это в чистом виде герменевтическая фигура. «Переводчика как писца… невозможно понять без отсылки к переводчику как автору / толкователю», – пишет один ученый [Ellis 1989: 4]. В творчестве Слуцкого задействованы все три этих роли.
В стихотворении, написанном в последний год творческой деятельности, Слуцкий говорит:
Я знаю, что «дальше – молчанье»,
поэтому поговорим,
я знаю, что дальше безделье,
поэтому сделаем дело.
Грядут неминуемо варвары,
и я возвожу свой Рим,
и я расширяю пределы.
[Слуцкий 1991b, 3: 404].
В канун своего ухода из творчества Слуцкий цитирует Гамлета: «Дальнейшее – молчание». Однажды он уже отмечал, что для него сочинение стихов – это способ «выговориться» [Слуцкий 1989c], а теперь приглашает к «спокойной» последней беседе[66]66
В описании, о котором речь шла выше, Бродский, в частности, говорит: «Тон его – твердый, трагический и безразличный – так обычно выживший говорит, если вообще на это решается, о том, где выжил и когда».
[Закрыть]. Надежда его неколебима: он не только убежден в том, что возведет свой Рим – свою систему, но и, оставаясь верным территориальной образности, играющей столь важную роль в «Уриэле Акосте», утверждает, что одновременно расширяет собственные пределы. Да, пределы, по всей видимости, были расширены совершенно преднамеренно, однако пространство творчества осталось под строгой охраной. Вне всякого сомнения, посягнувшие на нее варвары – это смерть, осмысление которой стало основным занятием поэта после кончины жены, а также распад его эпохи по мере того, как оценка сталинизма и войны начала отступать на второй план в сознании либеральной советской интеллигенции. Притом утверждать, следуя убедительной логике И. И. Плехановой, что творческий закат Слуцкого был вызван разрывом между его экзистенциальной художественной «игрой» и внешним миром, значит не принимать в расчет внутренний и самодостаточный характер поэтики Слуцкого, обладающей, благодаря его познаниям в герменевтике, способностью к регенерации [Плеханова 2003]. Необходимо подчеркнуть: варвары по большей части нападали изнутри. Опоры, которые удерживали Слуцкого в рамках русской традиции, пошатнулись, сделав его одинокое существование в образе русскоязычного писца-поэта-переводчика невозможным. В «Переобучении одиночеству» он пытается снова встать во весь рост в пустоте безъязыкого вакуума. Эта полная мифологической мощи элегия завершает еврейско-герменевтический проект Слуцкого:
Я обучен одиночеству.
Я когда-то умел это делать,
знал эту работу:
встать пораньше, лечь попозже,
никому не мешая
и не радуясь
никому.
Долгий день в промежутке от утра и до вечера
провести, никому не мешая
и никому не радуясь.
Я забыл одиночество.
Точно так же, как, проучившись лет восемь игре на рояле
и дойдя до «Турецкого марша» Моцарта
в харьковской школе Бетховена,
я забыл весь этот промфинплан,
эту музыку,
Бетховена с Моцартом
и сейчас не исполню даже «чижик-пыжика»
одним пальчиком, —
точно так же я позабыл одиночество.
Точно так же, как, выучив некий древний язык
до свободного чтения текста,
забыл алфавит —
я забыл одиночество.
Надо все это вспомнить, восстановить, перевыучить.
Помню, как-то я встретился
с составителем словарей того древнего,
мною выученного и позабытого
языка[67]67
Скорее всего, речь идет о Ф. Л. Шапиро: его иврит-русский словарь, опубликованный в 1963 году, был в СССР единственным в своем роде. См. [Шапиро 1963].
[Закрыть].
Оказалось, я помню два слова: «небеса» и «яблоко».
Я бы вспомнил всё остальное —
всё, что под небесами и рядом с яблоками, —
нужды не было.
Подхожу к роялю и тычу пальцами в клавиши:
о-ди-но-че-ство!
Выбиваю мотив одиночества.
У меня есть нужда
вспомнить, восстановить, реставрировать,
вновь освоить,
перечувствовать до конца
одиночество.
[Слуцкий 1991b, 3: 390–391].
Стихотворение довершает образ лирического героя Слуцкого, обнажая биографический компонент (смерть Т. Дашковской в 1977 году)[68]68
Сразу после смерти жены Слуцкий написал цикл душераздирающих стихотворений, Ройтман называет это «Таниным циклом». См. [Ройтман 2003: 183–197].
[Закрыть], герменевтический (чтение Книги Бытия) и экзистенциальный (осмысление развязки). Будучи размышлением об иврите («древнем языке»), оно включает в себя «иврито-буквальный» перевод через воспроизведение библейского ивритского синтаксиса. Строки стихотворения, поочередно и короткие и длинные, повествовательная интонация, «эмфатические» повторы, семантические и синтаксические параллели и преобладание глаголов искусно воспроизводят основы библейского стиля. Слуцкий воссоздает библейскую интонацию, не прибегая к велеречивым архаизмам. Его гибкий размер – преимущественно дактиль – и гетероморфная ритмическая структура естественным образом приближаются к «свободному ритму» библейской версификации[69]69
Термин предложил Б. Харшав. См. в [Alter 1985: 19].
[Закрыть]. Его лексикон сведен к минимуму: скупой, прозаический, однако вбирающий в себя почти барочные аллитерации; здесь же – биографические подробности. И то и другое достигает библейских глубин.
Что касается биографических отсылок, то описание одиночества в первых строках стихотворения воскрешает в памяти воспоминания поэта о том, как он после войны начал писать стихи [Слуцкий 2005: 177–186]. Покинув уютный родительский дом в Харькове, он перебрался в Москву, где, сперва полный надежд, а потом – в совершенной безысходности, стал в одиночестве сочинять стихи, отрешаясь от окружающей суеты, одновременно и от поклонников, и от злопыхателей. Постоянного места жительства у него не было, в итоге он неизбежным образом близко познакомился с одиночеством. Кроме того, он получил самый, по его мнению, важный для поэта урок: вычеркивать ненужные строки. «Переобучение одиночеству» – дань этому уроку. Воспоминание об уроках музыки также крайне важно в специфическом контексте подхода Слуцкого к написанию стихов. В стихотворении, озаглавленном «Музшкола имени Бетховена в Харькове» (опубликовано в 1964 году), он вспоминает, какие мучения претерпел, обучаясь игре на фортепиано.
Завершается стихотворение так:
…что музыка моя – совсем другая.
А рядом, мне совсем не помогая,
скрипели скрипки и хирел хорал.
Так я мужал в музшколе той вечерней,
одолевал упорства рубежи,
сопротивляясь музыке учебной
и повинуясь музыке души
[Слуцкий 1991b, 2: 21–22].
Рисуя автопортрет в юности, Слуцкий вычеркивает из сердца чужую музыку и выводит формулу своей поэтики: «знать, как делать» стихи, – то же, что «знать, как делать» одиночество, если вспомнить статью Маяковского «Как делать стихи». Именно в эту решающую минуту в стихотворении возникает еврейский элемент, наполняя понятие одиночества, прежде туманное и связанное с личной трагедией, экзегетическим смыслом.
Слуцкий, пишущий элегию, – поэт травмы. Ее симптом, его амнезия, облекает его лирическое бытие и его характерную для мидраша выразительность в саван забвения. Процесс терапии он начинает с возврата в точку происхождения своего слова, каковую, что не удивительно, находит в Книге Бытия. Слова «небеса» и «яблоко» поэт употребляет герменевтически. Небеса (шамаим) – это, разумеется, отсылка к мифу о сотворении мира из Книги Бытия, по которой многие поколения еврейских мальчиков учились в восточноевропейских хедерах чтению на священном языке. Яблоко заставляет вспомнить плод с древа познания (пери), что служит комментарием к последующим главам первой книги Торы. Тем самым идишкайт и древняя святость вновь сливаются воедино в фигуре читателя Слуцкого, связывая внутреннюю текстуальную память его системы с исторической, лежащей за пределами текста. Тыча пальцами в клавиатуру пианино, поэт пытается нащупать мелодию одиночества, которого мучительно взыскует. Само слово «одиночество» включает в себя всю 41 строку текста, поскольку Слуцкий, с одной стороны, по примеру Маяковского изолирует слово, дабы высвободить его потенциал и смысл [Эткинд 1997: 269], а с другой – возвышает его, как в Библии, чтобы конкретизировать и подчеркнуть его значимость [Alter 1985: 19]. Именно поэтому в 35-й строке одноударное слово «одиночество» поделено на слоги и в итоге превращено в пятиударную стопу, метрически равную самым длинным пятистопным строкам стихотворения (12, 34, 30-я). В итоге мелодией одиночества становится само стихотворение, каковое, вопреки всему, посредством сложной просодии, которая не уступает просодии Маяковского и Цветаевой, воссоздает внутренний строй библейской поэтики с ее на первый взгляд упрощенной мелодикой[70]70
Гаспаров отмечает: «Если из Цветаевой вычесть гиперболизм и страсть, а оставить четкость формул и опору на созвучие слов, то это будет поэтика Слуцкого». Цит. по [Гринберг 2008: 83].
[Закрыть].
Вобрав в свой исток в процессе «воспоминания, восстановления, реставрации» уединенность позиции, художественную и экзистенциальную единичность (в этих словах тот же корень, что и в «одиночестве»), странствие поэта замыкается в круг, когда ОдиноЧество находит естественный отклик в переОбуЧении. В то же время травма Слуцкого была летальной и не поддавалась полному излечению; завершить процесс восстановления было невозможно, – соответственно, «Переобучение одиночеству» прозвучало как не достигшая цели исцеляющая элегия (воспользуемся термином А. Л. Кроун, который она применяет к «Северным элегиям» и «Поэме без героя» Ахматовой [Crone, Day 2004]). Если в случае Вяч. Иванова, нашего прототипического поэта позиции, «отношения между символами организованы так, что биографическое время только усиливало устойчивость постройки, плотнее прижимая друг к другу составляющие ее кирпичи» [Аверинцев 1996: 187], то биографическое время Слуцкого «разбазарило свой мир», не оставив камня на камне. Теория интертекстуальности Р. Лахман, в которой литература представлена как «акт памяти», во многом дополняет мое понимание душевных невзгод позднего Слуцкого. Исследовательница подчеркивает:
Пространство памяти вписано в любой текст так же, как и любой текст вписывает себя в пространство памяти. Память текста – это его интертекстуальность… Интертекстуальность демонстрирует процесс, с помощью которого всякая культура постоянно переписывает и заново транскрибирует саму себя, причем под “культурой” здесь понимается книжная культура, семиотическая культура, непрестанно переосмысляющая себя через знаки. Писательство – это одновременно акт и памяти, и новой интерпретации (книжной) культуры» [Lachman 1997: 15–16].
Для Слуцкого актуализация интертекстуальности происходит через перевод, который позволяет герменевтически нарушить и продлить память. Его система была устойчивой, пока два отдельных и разнонаправленных морских течения, еврейская и русская культуры, сливались в океане его перевода. Действительно, у него долгое время «нужды не было» изучать иврит, поскольку даже на русском все его стихи были «выдуманы» по-еврейски. Мог ли он, сломленный человек, теперь заново выучить иврит, который – это видно из его неопубликованных биографических фрагментов – изучал в детстве?[71]71
РГАЛИ. Ф. 3101. Л. 37. С. 182. Болдырев подтверждает знание Слуцким иврита в [Слуцкий 1991b, 1: 8].
[Закрыть] Притом необходимое ему переобучение одиночеству как признак особого места иудаизма в мире, текстуальные и исторические еврейские тропы «всего, что под небесами и рядом с яблоками», также оказались бессмысленными, поскольку русская часть его поэтического пространства уходила из-под ног, не поддаваясь усилиям переводчика. Простой факт, который Слуцкий открыл самостоятельно, заключался в том, что он не может больше существовать в качестве поэта, пишущего в рамках русского языка и традиции.
Перевод в безъязыковом вакууме – невозможность, отмечающая мертвую зону культурного и текстуального пространства Слуцкого. Распад его позиции не соответствует (воспользуемся формулой Роскиса) «сюжетной линии бунта-утраты-возвращения, которая проходит через жизнь очень многих» еврейских писателей-модернистов [Roskies 1995: 9] или стратегии построения идентичности русского / еврейского писателя через самоопределение в качестве «ревизиониста, сочувствующего, само-ненавистника», о чем говорит Э. Нахимовски[72]72
Цит. по [Shrayer 2007: 512].
[Закрыть]. «Сюжетность» [Seidman 2006: 3] «переобучения» у Слуцкого риторически напоминает «диалектику внешнего и внутреннего», о которой французско-еврейский мыслитель-экзистенциалист А. Неер рассуждает в связи с «потерянным» евреем, каковой на пороге возвращения «лишает» свое слово всего, «что оно собрало во внешнем мире, хотя он уверен, что больше не сможет найти это внутри» [Neher 1990: 100]. Слуцкий, разумеется, был убежден, что сумеет найти внутри себя целый мир, однако переводческая диалектика «снаружи и внутри» распалась, приговорив поэта к молчанию. Как будет показано в этой книге, итоговый автопортрет Слуцкого – читателя, продолжающего читать после написания своей последней строки, – служит финалом его оборванной мидрашевой поэтики. Трикстер отыскал лазейку, но бросил художника. Смертный человек, безутешный вдовец провел следующие девять лет в муках бездеятельности.
Часть первая
Историография
1
Урсюита 1940–1941 годов: «Стихи о евреях и татарах»
1Утверждение Теодора Адорно, впоследствии им опровергнутое, о том, что писать стихи после Освенцима – варварство, успело превратиться в клише, при этом остался вопрос: позволительно ли создавать стихи в качестве отклика на катастрофу, накануне ее, в самый разгар? Даже самый поверхностный очерк истории литературы дает на этот вопрос положительный ответ. В гетто сочиняли стихи на идише (прежде всего речь идет об Авроме Суцкевере), а в Освенциме – на польском (Тадеуш Боровский); в 1943 году Ицхак Каценельсон на том же идише создал во французском лагере Виттель «Песнь об убиенном еврейском народе». В Нью-Йорке Яков Глатштейн, один из самых видных модернистов, писавших на идише, уже в 1939 году говорил об уничтожении европейского еврейства, а Перец Маркиш в Москве – в 1940-м. Ури Цви Гринберг предсказывал масштабы катастрофы в написанной на иврите поэме «Башня трупов», опубликованной в 1937 году в Палестине. Чеслав Милош создал свои «Кампо-де-Фьори» и «Бедный христианин смотрит на гетто» в 1943-м. Есть подобные стихи и на немецком, и на венгерском. Чтобы откликнуться на катастрофу в самом ее разгаре, поэт должен ощущать себя частью традиции, которую он может сознательно воспроизводить и которой может по мере надобности бросать вызов.
Хорошим примером служит «Кол нидре» Суцкевера. Как я попытаюсь показать, именно по этой причине на русском в годы войны было создано очень мало стихов о холокосте, а до войны – и вовсе ни одного, по крайней мере до оккупации Германией советской территории. Эренбург и Сельвинский написали ряд стихотворений про уничтожение евреев во время войны, но лишь два поэта, Слуцкий и Сатуновский, откликнулись на него в преддверии.
Цикл Слуцкого «Стихи о евреях и татарах» создавался на протяжении года, с декабря 1940-го по ноябрь 1941-го. Читателю, привыкшему видеть в Слуцком образцового советского гражданина, появление этой темы в его стихах может показаться неожиданностью и даже недоразумением. Однако если рассматривать поэтику Слуцкого как могущественный иудейский стихотворный документ, то не только его столь ранняя реакция на холокост, но и ее глубина, самобытность и необратимость представляются совершенно естественными. Стихотворения из данного цикла обнажают истоки уникального русскоязычного проекта Слуцкого, где чувствуются и влияние еврейской литературной памяти, и его положение в рамках русской поэтической традиции. В этих стихах он выработал основные элементы своего художественного мировоззрения, сосредоточенного на понятиях перевода, иронического рационализма, герменевтической полемики и мессианских сомнений.
Был ли Слуцкий знаком с какими-то из написанных в тот период стихотворений на идише, в которых развивалась тема надвигающейся катастрофы? Возможно. Те, кто знал его в тот период, не обращаются к этой теме в своих воспоминаниях. Другие евреи из его окружения – Давид Самойлов и Павел Коган – хотя и сознавали собственную принадлежность к еврейству, но происхождением сильно отличались от Слуцкого, а кроме того, насколько мы можем судить, мировоззренчески стояли на позиции привычного ассимиляционизма. В военном дневнике Самойлова, стилистически напоминающем дневник Бабеля за 1921 год, гибель еврейства, которую он наблюдал в освобожденной Польше, почти не упоминается; в стихах он ее замалчивает полностью. Коган, погибший на фронте, также не обращался к этой теме, по крайней мере в сохранившихся стихах. Вопрос, впрочем, не в том, читал ли Слуцкий стихи на идише, а в том, насколько искусно он вплетал тему холокоста в свой авторский образ и творческую программу.
Цикл «Стихи о евреях и татарах» состоит из трех стихотворений: «Рассказ эмигранта», «Добрая, святая, белорукая…» и «Незаконченные размышления». Все три посвящены Виктории Левитиной, тогдашней возлюбленной Слуцкого, которая опубликовала их, вместе с воспоминаниями о поэте, в 1993 году в малоизвестном израильском русскоязычном журнале, ныне не существующем; в 2010-м они были перепечатаны в «Дружбе народов» [Левитина 2010]. Если учитывать, кому эти стихи адресованы, видно, что в стихах лирическая и глубоко личная, даже эротическая нота сплетается с исторической и программной. В итоге у Слуцкого получается многослойное построение, которому Левитина дала удачное название «трехчастная еврейская сюита».









































