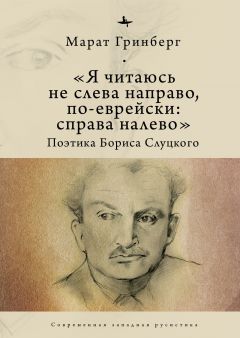
Автор книги: Марат Гринберг
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
«Незаконченные размышления» – первое стихотворение Слуцкого о катастрофе, написанное после начала войны. Это последнее стихотворение цикла, и в нем обрисованы опасности, заложенные в понятие перевода, выполненного в чисто историческом ключе. Стихотворение написано в октябре-ноябре 1941 года, в период расстрелов в Бабьем Яре, на которые Эренбург откликнулся в стихах в 1944-м, но еще до уничтожения еврейских жителей родного города Слуцкого, Харькова (они погибли в декабре 1941-го – январе 1942-го в Дробицком Яре). О расправах в родном городе Слуцкий, скорее всего, узнал в 1943-м – в письме с фронта он пишет брату, эвакуированному из города: «В Харькове 16 000 евреев уничтожены в бараках станкозавода» [Слуцкий 2004: 166]. В первый год войны Слуцкий служил следователем дивизионной прокуратуры, пока не получил серьезное ранение. «Незаконченные размышления» – самая длинная часть трилогии; они, в свою очередь, состоят из двух частей. Первая во многом напоминает поэтический слог зрелого Слуцкого, откровенно разговорный и сугубо прозаический (все это будет характерно для его послевоенных стихов). Она служит примером того, что сам Слуцкий впоследствии называл своими балладами, «взрыв, сконцентрированный в объеме 40 +/– 10 строк… скомканные, сжатые трагедии» [Слуцкий 2005: 191–192].
В первых 44 строках стихотворения описан вагон, набитый солдатами и офицерами, направляющимися на фронт. Стих выстроен в стиле Маяковского, и ритмически и визуально: строки напечатаны лесенкой. Аллюзии при этом современны. Слуцкий отсылает к тогдашним статьям Эренбурга, который призывал советских граждан не испытывать ничего, кроме ненависти, к фашистским агрессорам:
Чего нам нужно для нашей души?
Нам нужно злости для нашей души,
Столетней,
Стоялой
Злости.
Название цикла «Стихи о евреях и татарах» также находит себе объяснение в этой первой части. Рядовой-татарин начинает петь в поезде о трагедии своего народа, который когда-то правил Русью, а потом потерпел от нее суровое поражение. К нему присоединяются другие, и вскоре «с парадоксальной грустью / русский народ поет про народ, / когда-то царивший над Русью». Поэт приводит цитату из этой песни, а потом воспроизводит изложенную в ней хронику событий из истории Российской империи:
Здесь был Татарстан. Здесь погиб
Татарстан.
Измена его подкосила.
Донской порубал.
Изрубил Иоанн.
Екатерина казнила.
В заметках о войне, созданных сразу после ее окончания, Слуцкий пишет, что миф о советском интернационализме и дружбе между советскими народами впервые подвергся серьезному испытанию на фронте. Он делает вывод о его полной несостоятельности. Сталин апеллировал к российской имперской истории и воинской славе, это подстегивало русскую ксенофобию. Слуцкий иронически отмечает: «Странно электризовать татарскую республику воспоминаниями о Донском и Мамае. Военное смешение языков привело прежде всего к тому, что народы “от молдаванина до финна” – перезнакомились» [Слуцкий 2005: 118–119]. В стихотворении показана более щемящая ситуация, но и она свидетельствует о тех же пятнах на русской и советской истории, о которых Слуцкий решался говорить вслух уже в 1941 году.
Во второй части стихотворения Слуцкий возвращается к разговору о евреях, обнажая «татарскую» горесть в центре своего существа и превращая татарский напев в еврейский нигун. Приводим ее полностью:
Еврейские старцы в подвал собрались,
Чтоб там над лежанкой глиняной
Случайно
Меня
Наректи
«Борис»
Татарского мстителя именем.
И так я родился. Я рос и подрос,
А завтра из смрада вагона
Я выйду на волю и стану в рост:
Приму по реке оборону.
Тоскуют солдаты о смерти своей,
А лошади требуют корму.
Убьют меня – скажут —
чудак
был еврей!
А струшу – скажут – норма!
Я снова услышу погромный вой
О том, кем Россия продана.
О мать моя мачеха! Я сын твой родной!
Мне негде без Родины, Родина!
Первые семь строк – это сцена иудейского рождества: обряд присвоения имени, связанный с обрезанием, каковое в данном случае проводится тайно. Строки эти заставляют вспомнить стихотворение Багрицкого «Происхождение», с которым Слуцкий, безусловно, был знаком (а возможно, даже служат прямой отсылкой к нему): «Над колыбелью ржавые евреи / Косых бород скрестили лезвия» [Багрицкий 2000: 88][77]77
Другие сопоставления Слуцкого и Багрицкого см. в главе 6.
[Закрыть]. Слуцкий, однако, полностью изменяет самоуничижительный, по крайней мере внешне, тон экспрессионистского стиха Багрицкого. Левитина довольно наивно отмечает, что в 1919 году (это год рождения Слуцкого) его, скорее всего, назвали не Борисом, а Борухом. Безусловно, в переводческом контексте Слуцкого русский Борис скрывает в себе Боруха из идиша и Баруха из иврита. Однако важно осознать, что воспоминание Слуцкого представляет собой конструкцию, которая описывает прежде всего не эпизод биографии, а рождение поэта, обогащая его имя дерзким символическим смыслом. Так, имя поэта отнюдь не случайность; как и Мандельштам, он будет возвращаться к своему имени на протяжении всей творческой жизни. С одной стороны, имя Борис, славянское по происхождению, обозначает воина, благословенного в битве; этот элемент предвосхищает воинскую жизнь Слуцкого (еврейское Барух тоже означает «благословенный»). С другой стороны, оно ассоциируется с неким татарским мстителем и тем самым превращается в интертекстуальный шифр. «Татарский мститель» – это Борис Годунов, сыгравший немаловажную роль и в русской истории, и в русской литературе[78]78
Эта связь явно многое значила для Слуцкого. В стихотворении «Отчество и отечество» он пишет: «Действительно, со Слуцкими князьями / делю фамилию. А Годунов – / мой тезка…» [Slutsky 1999: 186].
[Закрыть]. Род Годуновых действительно был татарского происхождения. Но что еще важнее, в пушкинском «Борисе Годунове» князь Шуйский говорит о нем: «Вчерашний раб, татарин, зять Малюты, / Зять палача и сам в душе палач» [Пушкин 1959–1962, 4: 207]. Годунов, фигура глубоко неоднозначная как в народном, так и в пушкинском понимании, прекрасно подходит для целей Слуцкого. В научной литературе мстителем обычно называют Лжедмитрия, Слуцкий же называет мстителем Годунова и, соответственно, себя, тем самым связывая свою нелегкую долю с долей солдата-татарина, оплакивающего участь собственного народа в первой части стихотворения. Отношения поэта с Россией предстают не только амбивалентными и, возможно, обреченными (опять необходимо вспомнить о связи с Годуновым), они еще и наполнены тем же ощущением мстительности и гнева, что и татарская песня[79]79
Как отмечает Г. Мурав, «месть» (некоме) – одна из ключевых тем в советской поэзии о холокосте. Стихотворение Слуцкого написано в этом корпусе одним из первых и, соответственно, по сути, предвосхищает троп. См. [Murav 2008].
[Закрыть]. Ведь во втором стихотворении цикла именно руки Богоматери того и гляди окрасятся кровью после уничтожения евреев. Поэт направляет свой гнев и на немцев, и на русских, поскольку его судьба и творческое призвание неразрывно связаны с призванием и судьбой его «татар» – евреев. В результате условия перевода обретают соответствующее историческое значение. Пример тому – реконструкция Слуцким его происхождения («так я родился»), каковое он вынужден скрывать, чтобы стать теперь защитником своей страны. Кукулин отмечает, что в самых лучших и смелых образцах советской военной поэзии смерть показана в новом – безжалостном и суровом – свете; однако такие стихи по большей части были написаны уже после войны[80]80
Сюда, разумеется, входят послевоенные произведения самого Слуцкого, а также Александра Межирова, Самойлова и неопубликованные стихи Наума Коржавина. Что касается Семена Гудзенко, он много писал и во время войны, равно как и Сатуновский, и Иосиф Деген.
[Закрыть]. Слуцкий начал уже в 1941-м, беспристрастно отметив: «Тоскуют солдаты о смерти своей». Эта строка резко контрастирует с одной из ведущих тем официальной советской военной поэзии: солдаты тоскуют по родине и уверены, что уцелеют. Строки 14–16 связывают это размышление о смерти с еврейством поэта. Он обречен в любом случае: если его убьют, то заклеймят «чудаком» за то, что он положил жизнь во имя страны, никогда не отличавшейся благосклонностью к его народу; если попытается выжить, то послужит подтверждением расхожего домысла, что евреи – трусы. Как будет показано в главе 4, в послевоенных стихах Слуцкий наполнит эти обвинения целительным для евреев смыслом.
В последней строфе возникает провидческая тональность. В первой ее строке особенно важно будущее время в «Я снова услышу погромный вой»: поэт предвидит волну антисемитизма, которая захлестнет страну (так и произошло); в «Записках о войне» он первым отметил и описал от первого лица антисемитские настроения в Красной армии во время войны. «Снова», равно как и отсылка к лозунгу черносотенцев о том, что евреи продали Россию, показывает: поэт остается в рамках еврейского диалектического отклика на историю, который он пересматривает в отношении холокоста, но оставляет в прежнем виде по отношению к массовой советской юдофобии.
Последние две строки стихотворения на первый взгляд банальны. В конце концов, очень многие стихи еврейской тематики, написанные по-русски в последние три десятилетия прошлого века, изображают отношения между Россией и евреями как отношение матери к неродным детям[81]81
Еще в XIX веке Н. С. Лесков использовал эту парадигму в докладе о положении евреев в России; он благожелательно рассуждал: «Пусть сегодня отнесется Россия к ним как мать, а не как мачеха, и они сегодня же готовы забыть всё, что претерпели в своем тяжелом прошлом, и будут ей добрыми сынами». URL: az.lib.ru/l/leskow_n_s/text_0142.shtml (дата обращения: 13.09.2020).
[Закрыть]. Кроме того, существует более ранняя традиция определять таким же способом связь между русским поэтом еврейского происхождения и евреями. Стихотворение Эренбурга «Евреи, с вами жить не в силах…» (1914) служит типичным примером. Данный контекст и глубоко оригинальное восприятие еврейства Слуцким крайне важны для понимания сути стихотворения. Удивительно, что молодой поэт, родившийся и выросший в Советской стране и назначенный выносить приговоры во фронтовых трибуналах, называет свою родину «мачехой» со всеми коннотациями бездушия и жестокости, которые несет в себе это слово[82]82
Как известно, основным советским лозунгом, возникшим в самом начале войны, был «Родина-мать зовет!»; самым известным его воплощением стал плакат И. М. Тоидзе, созданный в конце июня 1941 года.
[Закрыть]. Так далеко в военных стихах не заходил даже Сатуновский. Кульчицкий, который, по большому счету, ввел Слуцкого в поэзию и которого Слуцкий всегда считал своим учителем, в 1941-м, за два года до гибели на фронте под Сталинградом, пишет в незавершенной поэме «Самое такое (Поэма о России)»: «Я очень сильно / люблю Россию»[83]83
Нужно иметь в виду особый акцент на русском в отличие от советского, который Сталин делал во время войны с целью усилить патриотизм недовольного населения.
[Закрыть]. Слуцкий, безусловно, разделял его чувства, однако его творческое мировоззрение было ненадежным обоюдоострым мечом еврейского и русского, историческим и логоцентрическим, полемическим и символическим. В отличие от других военных в железнодорожном вагоне, поэт внутренне разделён: Россия – его двуглавая мать / мачеха, а он фаталистическим образом ее родной сын. Соответственно, его горестный вопль в конце, столь необычный для его поэзии, – «Мне негде без Родины, Родина!» – это обращенное к подлинной Родине признание, что он не в состоянии выжить без другой родной земли, своего еврейского очага, того, который в «Уриэле Акосте» он назовет «безродьем родным».
Важно помнить, что словами «безродье родное» Слуцкий обозначает собственную поэтическую территорию. Исходя из этого, я полагаю: именно благодаря пространственной организации своей поэтики, внутри которой множество источников сплетаются в единое экзегетическое целое, он смог преодолеть кризис, с такой силой прозвучавший в «Незаконченных размышлениях». То, что могло бы стать еще одной нормативной русско-еврейской парадигмой, упирающейся в неразрешимость или отвержение еврейства, оборачивается рождением художественной системы. Отождествление с Годуновым, которым Слуцкий обозначает не только свою инаковость, но и связь с Пушкиным и русской историей, не уводит его в политику и эстетику малой литературы, а обеспечивает ему место важного голоса в русской литературе[84]84
Как недавно отметил Л. Ф. Кацис, Гинзбург одной из первых признала силу еврейской традиции в русской литературе: адаптируясь к основному дискурсу, эта традиция проявляет себя через диалекты и пр. Кацис утверждает, что надлежит «счесть еврейский элемент в русском языке и в литературе русских евреев на русском языке элементом не “чужеродным”, а системообразующим», естественным для поэтики соответствующих писателей. Именно так нужно рассматривать и еврейский элемент у Слуцкого. См. [Кацис 2009].
[Закрыть]. Тому, как такое положение было достигнуто, сохранено и автоканонизировано поэтом, и посвящена эта книга.
2
Поэт-историк: добавление трансплантации
Все это Древней Греции уже гораздо древней и в духе Древнего Рима векам подает примеры.
Борис Слуцкий. «Советская старина»
Но люблю свою отдельность, Единичность или розность.
Борис Слуцкий. «Разговаривать неохота…»
В одном из последних своих стихотворений Слуцкий подводит итоги:
Ломоть истории, доставшийся
На нашу долю, – черств и черен.
Зато нам историография
Досталась вся
[Слуцкий 1991b, 3: 119].
На первый взгляд речь в этих строках идет об одержимости его поколения историей, однако закодировано в них другое – его собственный историографический проект: он формулирует суть эпохи, освещенной «черным солнцем» извращенной святости и реалий войны[85]85
См. «Нам черное солнце светило…» [Слуцкий 1991b, 1: 413].
[Закрыть]. Историография Слуцкого – это функция от его пространственного мышления, прослеживающегося на всех уровнях его творчества. Учитывая, что у всякого русского поэта возникают свои отношения с временем и вопросы к нему (Пушкин, например, считал себя следующим Карамзиным[86]86
См., например: Bethea D. Pushkin as Historical Thinker [Bethea 2005: 266–282].
[Закрыть]), особенно в ХХ веке с его катаклизмами, страсть Слуцкого к истории не выглядит аномальной, однако она совершенно самобытна. Цель этой главы двояка: дать обзор историографии Слуцкого в ее интертекстуальных, политических и метафизических проявлениях и показать, как библейское и экзегетическое мировоззрение влияет на те стихи, где отсутствует явное еврейское содержание.
Из проанализированных ниже примеров видно, что «еврейская поэзия» – глубокая, многоаспектная категория, которую не следует сводить только к тематике или лингвистике. Важнейший момент этой главы – введение третьего понятия, имеющего ключевое значение для трактовки творчества поэта: трансплантация; вместе с переводом и герменевтикой оно описывает такие свойства поэтики Слуцкого, как апроприация и интерпретация.
Представляя американскому читателю стихи Бродского, М. Стрэнд отмечает:
Сознание [Бродского] или, точнее, сознание его стихов почти всегда заключено в контекст той или иной исторической ситуации… Именно взаимоотношения с историей заставляют Бродского занимать не только личную позицию и выступать в своих стихах в качестве представителя многих, именно они придают его поэзии внешний характер[87]87
Te Ah cademy of American Poets Audiotape Archive recording.
[Закрыть].
Бродский в данном случае, как в нашем понимании, так и в понимании Стрэнда, служит метонимией для всей русской поэтической традиции или, по меньшей мере, для последнего, самого важного ее этапа, завершением которого стало творчество Бродского. История «безусловно существует» и для Бродского, и для других крупных русских поэтов ХХ века. Здесь уместно будет привести краткий и поневоле схематичный перечень основных художественных парадигм, которые неизбежно вспоминаются в связи с поэзией Слуцкого. Блок стремился отразить всю совокупность своей эпохи через эволюцию собственной лирической позиции и распад парадигмы «отец / сын» в «Возмездии». Пастернак известен хрестоматийным представлением о поэте как заложнике вечности «у времени в плену», а Мандельштам – циклом о веке. Ахматова признаёт, что век болен, но пытается излечить его своей «целительной элегией», в которой увековечена память о петербургской культуре, попавшей под топор истории. Цветаева воспринимает ход времени как бремя и говорит ему решительное «нет», а Маяковский пытается превозмочь Хроноса, взыскуя эсхатологии во плоти. Наконец, Бродский признаёт полную пустоту времени, но надеется ее преодолеть непреходящими средствами языка. В этой схеме Слуцкий – разом «здешний и пришлый», используя меткое определение, данное Р. Густафсоном Толстому [Gustafson 2006].
Слуцкий не разделяет свойственного высокому модернизму презрения к времени и проявляет пристальное внимание к историческому процессу, а не к «истории с большой буквы» (Д. Кьяссон, см. ниже); отсюда историографичность его поэтических конструктов. Действительно, для него время исторично по самой сути, оно размечено сменой эпох. Каждая из них заслуживает отдельного рассмотрения, однако он решает сосредоточиться на своей. «Я историю излагаю», – подчеркнуто объявляет он. Это важнейшее свойство сближает его, с одной стороны, с архаичным, по крайней мере для русской традиции, Г. Р. Державиным, а с другой стороны – с самобытным модернистом Кавафисом. Измерение времени у Слуцкого отмечено спокойствием, приятием его скоротечности – по тональности это похоже на последнее, незавершенное стихотворение Державина «Река времен…». Притом он, как и Кавафис, – «поэт-историк»; последнее подразумевает, по словам Кьяссона, «что любые человеческие поступки, в том числе и собственные, он рассматривает в свете зафиксированного времени» [Chiasson 2009: 70–75][88]88
Комментарии Стрэнда, посвященные Бродскому, бросают свет не столько на ученика, сколько на наставника: «Он запечатлевает повороты [истории], ее мнимые продолжения с трезвомыслием, иронией и фатализмом, в которых столько же нюансировки, сколько и упрямства». Я опять же соглашусь с Фаликовым в том, что Бродский, используя имя Кавафиса, на деле говорит о Слуцком, своем недостижимом идеале.
[Закрыть].
При этом если Кавафис (почти в духе Хлебникова, за вычетом языковой акробатики) объединяет эпохи – прошлое для него «никогда не проходит», – то Слуцкий придает своей эпохе форму библейского сгустка. Владимир Соловьев очень точно описывает его поэтический метод: «Нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу, ждет он, когда современность превратится в историю, ибо воспринимает не движение, а сгустки, не процесс, а результат» [Соловьев 2007: 377]. Leitwort этого результата – «давным-давно», причем его хронология неочевидна: «В месяцы я укладываю года, / вечности я в мгновенья настойчиво вталкиваю…» [Слуцкий 1991b, 3: 403]. Именно «давным-давно» позволяет Слуцкому отформовать катаклизмы своей эпохи – террор 1930-х, войну, холокост и послевоенные сталинские гонения на евреев – в новые священные архетипы[89]89
См., например, стихотворение «То лето, когда убивали…» [Слуцкий 1991b, 1: 423].
[Закрыть].
Новое понятие, трансплантация, поможет нам постичь суть историографии поэта. Оно позаимствовано из классического труда Лихачева, посвященного развитию древнерусской литературы, и там объясняется так:
Памятники пересаживаются, трансплантируются на новую почву и здесь продолжают самостоятельную жизнь в новых условиях и иногда в новых формах, подобно тому как пересаженное растение начинает жить и расти в новой обстановке [Лихачев 1973: 22].
Лихачев добавляет, что разница между оригинальными и переводными произведениями в древнерусской литературе крайне размыта, поскольку «переводчики и писцы по большей части были соавторами и соредакторами текста», который «переводили» [Лихачев 1973: 23]. Безусловно, эти переводчики и писцы находились совсем не в тех обстоятельствах, что Слуцкий: им было попросту неведомо представление об авторе – творце текста, как и создателям Библии. Однако упомянутое различие только подчеркивает сконструированность поэтики Слуцкого и нарочитость его обращения к еврейской Библии.
Трансплантация встроена в его пространственный поэтический проект, поскольку именно с помощью этого приема он соединяет собственные библеизмы и русские литературные истоки, тоже сформированные трансплантацией Библии и Византии. В конечном итоге трансплантация его представляет собой нравственно искреннюю попытку осмыслить свою историческую эпоху и оставить от нее какой-то след. Говоря словами самого Слуцкого: «Эпоха закончилась. Надо ее описать. / Ну, пусть не эпоха – период, этап, / но надо его описать, от забвенья спасать, / не то он забудется» [Слуцкий 1991b, 2: 199]. Описать значит осмыслить значение; Слуцкий делает это в политическом, интертекстуальном и неизменно метафизическом ключе.
ПолитическоеПроект Слуцкого имеет политическую направленность. В центре его – фигура Сталина как божества и победителя в единоборстве с библейским Творцом. Слуцкий вскрывает суть сталинизма. Как блестяще выразился Дж. Брент (можно подумать, что он читал Слуцкого),
жестокость Сталина не имела ничего общего с его собственной совестью; он действовал против Бога… Сталин был более, чем человеком. Или менее. В некоем важном смысле Сталин просто не имел собственной воли. И он тоже был нечеловеком» [Brent 2008: 247].
В стихотворении «При Адаме…» речь идет именно об этой аберрации:
Не при Сталине – при Адаме
Это все началось и пошло,
Хоть потом разрасталось с годами,
Переписываясь набело.
Что валить коренное, как корни,
На сердитого на старика,
Если возрасты все покорны
Злу и все покорны века.
Не был он чародеем и магом
И не сам изобрел произвол —
С нарастающим ровно размахом
По тропинке истоптанной шел
[Слуцкий 1991a: 82].
В контексте экзегетического инструментария Слуцкого отсылка к Адаму является обнажением приема. Здесь его Сталин служит воплощением извечного произвола, которое ближе к «банальности зла» Х. Арендт, чем к демиургу, видящемуся в «Боге». Он не «чудовищная аномалия» и не босс мафии, каким его считает Р. Конквест [Shentalinsky 1990: 15], но естественная часть исторической онтологии человечества, которую Слуцкий в набросках к воспоминаниям называет «рок» (в значении одновременно и участи, и проклятия), а также «необходимости» – в значении неизбежности [Слуцкий 2005: 186]. Последняя строка первой строфы метапоэтична, поскольку слова «переписываясь набело» характеризуют не только круг зла в истории, но и трансплантацию библейских архетипов и шрифтов поэтом на советскую почву. Его «беловик» представлений о древней жестокости чище и аккуратнее: исторический ужас в нем неизбежным образом эстетизирован – и тем самым сконструирована поэтическая историография его замысла.
Стихотворение «Ножи» служит комментарием к этой сущностной проблеме. В нем люди жаждут пустить в ход ножи, чтобы раз и навсегда истребить тех, кто им не нравится:
Уже надоело мерить
Всем по семь раз
И всё хотелось отрезать
Хотя бы один раз.
Раз! Но чтоб по живому
И чтобы – твердой рукой.
К решению ножевому
Склонялся род людской.
И вспомнили: даже в Библии
Средь прочих иных идей
И резали, и били, и
Уничтожали людей.
И без большого усилия
Учености столпы
Нарекли насилие
Повитухой судьбы.
Как только обоснование,
Формулировку нашли —
Вырезали до основания,
Дотла сожгли
[Слуцкий 1990b: 30].
Формулировка в третьей строфе намеренно безлична и приближена к библейской стилистике: «И вспомнили». Она опять же метапоэтична, поскольку в число тех, кто описан третьим лицом множественного числа, равно как и в число «учености столпов», включен и поэт, который нарекает сталинскую жестокость «повитухой судьбы»; в целом этот историографический и трансплантационный прием отражает в себе непрерывность уничтожения. В своей прозе Слуцкий, в укор самому себе и с долей горькой иронии, называет подобную склонность к обобщениям «свободой», при которой тоталитарная сила становится «чем-то приемлемым и даже приятным» [Слуцкий 2005: 186].
Поэт не ищет простого выхода из положения – в форме покаяния или ухода с исторической сцены. Скорее, как видно из следующего стихотворения, он строит собственный поэтический авторитет на том, чтобы бросить прямой вызов проклятию своей эпохи:
Я очень мал, в то время как Гомер
Велик и мощен свыше всяких мер.
Вершок в сравненьи с греческой верстою,
Я в чем-то важном все же больше стою.
Я выше. Я на Cталине стою
И потому богов не воспою.
Я больше, потому что позже жил
И од своим тиранам не сложил.
Что может Зевс, на то плевать быкам,
Подпиленным рогам, исхлестанным бокам
[Слуцкий 2005: 496].
Слуцкий охраняет свою эпоху, исторические пертурбации которой затмевают гомеровские мифы, при всем величии последних. Это стихотворение высвечивает антиэпическое направление его мысли. Эпос, равно как и его преемница, ода, полон намеренного презрения к истории; он уходит за временны饚е рамки с целью создания мистического прошлого, доисторического по самой сути. Слуцкий утверждает монументальность своего времени, но самого себя ставит над ним и над его тираном, извращенным воплощением этой монументальности. Он, в сущности, как бы говорит из будущего: свидетельство тому – прошедшее время, которое он использует в седьмой и восьмой строках. Он «стоит на Сталине» не потому, что попирает его (это исторически и онтологически невозможно), а потому, что решился его осмыслить[90]90
Парамонов также отмечает серьезность оценки Сталина, данной Слуцким; я добавил бы, что это, возможно, единственная действительно серьезная оценка Сталина во всей русской поэзии.
[Закрыть]. Отмежевавшись от оды, он подтверждает свою верность краткой лирической форме и вместе с тем, как мне представляется, отсылает читателя к одам Сталину Мандельштама и Пастернака, отображающим всю изощренность их поэтик.
Последняя строфа звучит одновременно игриво и загадочно. Поэт утверждает, что Зевс Гомера не способен состязаться с божествами его эпохи. Соответственно, Библия, а не греческий эпос или трагедия, должна служить прототипом для экспериментов ХХ века. В конечном итоге героям Гомера нет дела до игр и интриг на божественном Олимпе; они знают, что богов можно перехитрить. Человеческие жизни и страдания – «исхлестанные бока» – приобретают значимость только тогда, когда святость, подлинная или узурпированная, занимает свое место в истории. В трагедии все роли расписаны с самого начала, все исходы предопределены. Неопределенность, текстуальная и метафизическая черта Библии, – одна из основ мышления Слуцкого. Внутри нравственных и онтологических рамок он дает значительную волю историческим и божественным игрокам, равно как и развитию их сюжетов. В стихотворении, созданном в последние годы творческой деятельности, он описывает свою поэзию, противопоставляя «бытие» (церковнославянское слово, служащее названием одной из книг Ветхого Завета) «быту» – повседневной стороне жизни, которую презирали как романтики, так и модернисты Цветаева и Маяковский. В трактовке Слуцкого оба слоя – высокий экзистенциальный и низкий повседневный – необходимые ингредиенты поэтического рецепта, однако поглощает поэта именно быт, содержащий в себе голую, неприукрашенную картину человеческой участи[91]91
См. «С бытием было проще…» [Слуцкий 1991b, 3: 184].
[Закрыть]. Так, божественное у Слуцкого – это не традиционное бытие в вечности и не рок, а тот самый, презренный быт, исторические мелочи, которыми «исхлестаны» человеческие «бока»[92]92
См. «Бог и биология!» [Слуцкий 1990b: 241].
[Закрыть]. В процессе трансплантации Слуцкий ловко превращает «бытие» из русскоязычной Библии в «быт», тем самым включая в русскую поэзию еврейскую Библию с ее упором на историческую повседневность.
В том, как Слуцкий препарирует и разлагает на части свою эпоху, вскрывая причины живучести сталинизма в российской истории, особое значение приобретает понятие терпения. Стихотворение «Современные размышления», которое И. З. Серман метко назвал «антиодой» [Серман 2003], проясняет масштабы этого феномена. «Современные размышления» – характерная для Слуцкого нарративная баллада, где историческое событие изображено «изнутри» – в нем воспроизводятся мысли поэта в день похорон Сталина:
…А думал я другое,
Что вот он был – и нет его,
Гиганта и героя.
На брошенный, оставленный
Москва похожа дом.
Как будем жить без Сталина?
Я посмотрел кругом:
Москва была не грустная,
Москва была пустая.
Нельзя грустить без устали.
Все до смерти устали.
Все спали, только дворники
Неистово мели,
Как будто рвали корни и
Скребли из-под земли,
Как будто выдирали из перезябшей почвы
Его приказов окрик, его декретов почерк:
Следы трехдневной смерти
И старые следы —
Тридцатилетней власти
Величья и беды.
Я шел все дальше, дальше,
И предо мной предстали
Его дворцы, заводы —
Все, что воздвигнул Сталин:
Высотных зданий башни,
Квадраты площадей…
Социализм был выстроен.
Поселим в нем людей
[Слуцкий 1991b, 1: 167].
Тональность стихотворения – библейская, построенная на параллелизмах, и при этом в высшей степени элегическая, заставляющая вспомнить как «На смерть князя Мещерского» Державина, так и «После моей смерти» Бялика. Сталин у Слуцкого воплощен в двух словах: в высоком «величье», которое вбирает в себя извращенную святость, и более разговорной «беде», которая обрушилась на страну. Опять же, власть Сталина изображена как безличная; она, подобно некой кафкианской реальности, состоит из приказов и декретов, а также из земли. Следуя библейской традиции, она физически ощутима (почерк, крики). Но изумительнее всего в этом стихотворении – кода, последняя строфа всего из двух строк, которая, подобно заключительным пассажам Екклезиаста, словно бы добавлена позднее.
Критик Б. М. Сарнов вспоминает, как Слуцкий прочитал ему это стихотворение в 1956 году, вскоре после ХХ съезда КПСС и развенчания Н. С. Хрущевым «культа личности». Сарнов пишет:
Отдав должное смелости его главной мысли (заключавшейся в том, что сталинский социализм – бесчеловечен, поселить в нем людей нам только предстоит), я сказал, что в основе своей стихотворение все-таки фальшиво. Что я, как Станиславский, не верю ему, что он действительно в тот день думал и чувствовал все, о чем тут рассказывает. И вообще, полно врать, никакой социализм у нас не выстроен… [Сарнов 2004a: 668–669].
В ответ Слуцкий прочитал еще несколько стихотворений о Сталине, они Сарнову тоже не понравились. В итоге поэт произнес: «Все дело в том, что вам не нравится двадцатый век. Вам не нравятся его вожди, вам не нравятся его поэты…» Сарнов – вдумчивый читатель поэзии, особенно Слуцкого, однако его реакция на это стихотворение, какой бы интересной ни казалась она в ретроспекции, демонстрирует, насколько поверхностно можно судить о произведении, если изъять его из контекста поэтики автора. Сарнов хочет, чтобы Слуцкий клеймил Сталина, но поэт очень серьезно относится к своей связи с ХХ веком и реконструирует процесс, с помощью которого «современность» (используем опять термин Соловьева) превращается в «сгустки» истории[93]93
Слуцкий не проводит различия между хорошим Лениным и плохим Сталиным, извратившим ви饚дение первого. В стихотворении «Павел-продолжатель» говорится: «Все было сказано уже давно, / и среди сказанного было много лишнего. / Кроме того, по должности дано / ему было добавить много личного» [Слуцкий 1991b, 3: 293]. Сталин (Павел) действительно добавил к Ленину Христа, однако суть – особенно в свете онтологического взгляда Слуцкого на природу Сталина – заключается в том, что «все» существовало априори.
[Закрыть].
Действительно, Слуцкий показывает бесчеловечность сталинизма, однако важнее то, что две последних строки своей краткостью превращают эпоху сталинизма в космос, самодостаточный в историческом пространстве и канонизированный. Безусловно, Слуцкий не хочет сказать, что был выстроен подлинный социализм, скорее речь о том, что вот-вот начнется новая эпоха с новыми лозунгами и символами, равно как и новыми горестями, – и она тоже будет испытывать терпение народа. Однако для Слуцкого этот процесс не исключает, а подчеркивает факт проникновения уже отжившей эпохи в идущую ей на смену, с последствиями, уникальными для российского / советского случая.
О терпении Слуцкий говорит в типично русском духе. В стихотворении «Терпение» Сталин провозглашает такой тост:
Трус хвалил героев не за честь,
А за то, что в них терпенье есть.
«Вытерпели вы меня», – сказал
Вождь народу. И благодарил.
Это молча слушал пьяных зал.
Ничего не говорил.
Только прокричал: «Ура!»
Вот каковская была пора
[Слуцкий 1991b, 1: 412].
Слуцкий употребляет очень выразительный глагол: «вытерпел». Это типично русское понятие, через призму которого поэт осмысляет и тирана, коего теперь изображает не изнутри его времени, где тот пребывает как божество, а изнутри его собственной трусливой психологии, и народ, одновременно представляющий собой безгласную пьяную толпу и долготерпеливых героев[94]94
См. также стихотворение «От нашего любимого…» [Слуцкий 1991b, 3: 102].
[Закрыть]. Поэтический подход Слуцкого к сталинизму основывается на том, что, говоря словами одного историка, «гений тоталитаризма заключается в умении низвести если не всех, то почти всех до роли пособников»[95]95
Kenez Р.To the Editor // Slavic Review. 2009. Vol. 68. No. 1. Р. 219.
[Закрыть]. Даже Евгений Слуцкого в его стихотворении – комментарии к «Медному всаднику» Пушкина пьет пиво со своим венценосным преследователем; они оба оправдывают и поддерживают и культ, и его персонализацию, тем самым намекая читателю, что корни сталинизма носят одновременно монархический, народный и литературный характер: «маленький человек», один из первых примеров которого – пушкинский Евгений, отнюдь не невинная жертва [Слуцкий 1991b, 2: 472–473][96]96
Макфэдьен в схожем ключе говорит о «Боге» Слуцкого: «Здесь невозможно не услышать не то фаталистическую, не то обвиняющую ноту: население поддерживает власть» [MacFadyen 2000: 67].
[Закрыть]. Для Слуцкого «все существует в бесконечной цепи контекстов», как сказал Стрэнд о Бродском. С одной стороны, он размечает и разграничивает отдельные периоды в рамках общего советского контекста, а с другой – вскрывает их постоянное присутствие в русском духе: и в истории, и в будущем.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































