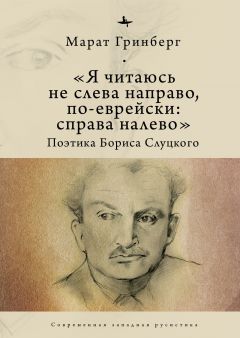
Автор книги: Марат Гринберг
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 29 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Вне зависимости от того, осмысляет ли Слуцкий фигуру деспота с религиозных позиций или обличает его как простого червя, игрушку исторических сил, он в обоих случаях ставит себя в положение, с этической точки зрения уязвимое. Любая попытка серьезно осмыслить нечто тягостное чаще всего воспринимается как попытка объяснить и тем самым оправдать. Слуцкий принимает этот вызов без страха и в своей прозе пишет: «С годами понимал его поступки все меньше… Но старался понять, объяснить, оправдать. Точного, единственного слова для определения отношения к Сталину я, как видите, не нашел. Все это относится к концу сороковых годов. С начала пятидесятых годов я стал все труднее, все меньше, все неохотнее сначала оправдывать его поступки, потом объяснять и наконец перестал их понимать»[97]97
[Слуцкий 2005: 186]. См. также [Слуцкий 1991b, 1: 414]. См. в этой связи также стихотворение «Мой хозяин», в котором Макфэдьен проницательно обнаруживает библейскую канву [MacFadyen 2000: 64–65].
[Закрыть]. Парадокс этого признания разрешается в том, какую оценку дает Слуцкий Ахматовой. Он довольно дерзко включает свою историографию сталинизма и российской истории в анналы русской поэтики через диалог с Ахматовой, в котором подвергает сомнению ее первенство как автора мемориально-ламентационных стихов в русской поэзии ХХ века. Будучи поэтическим наследником Ахматовой – Слуцкий глубоко ее уважал и многим обязан ее поэтике минимализма, – он рассматривает ее фигуру в рамках вопроса об авторитете, центрального, на мой взгляд, для всей его историографии. В стихотворении Слуцкого об Ахматовой, «Я с той старухой хладновежлив был…», она предстает капризной и авторитарной властительницей – это предвосхищает нестандартный взгляд А. К. Жолковского на то, какой образ самой себя культивировала Ахматова [Жолковский 1997]. Вот текст стихотворения:
Республиканец с молодых зубов,
не принимал я это королевствование:
осанку, ореол и шествование, —
весь мир господ и, стало быть, рабов.
В ее каморке оседала лесть,
как пепел после долгого пожара.
С каким значеньем руку мне пожала.
И я уразумел: тесть любит лесть.
Вселенная, которую с трудом
вернул я в хаос: с муками и болью,
здесь сызнова была сырьем, рудой
для пьедестала. И того не более.
А может быть, я в чем-то и неправ:
в эпоху понижения значения
людей
она вручила назначение
самой себе
и выбрала из прав
важнейшие,
те, что сама хотела,
какая челядь как бы не тряслась,
какая чернь при этом не свистела,
не гневалась какая власть.
Я путь не принимал, но это был
путь. При почти всеобщем бездорожьи
он был оплачен многого дороже.
И я ценил холодный грустный пыл
[Слуцкий 1991b, 2: 370].
«Вселенная» в третьей строфе – это отсылка к эпохе Слуцкого, которую он осмелился «вернуть» в хаос. В стихах Слуцкого хаос всегда противопоставлен миру, космосу, возобновляемости времени[98]98
См. [Слуцкий 1991b, 2: 410].
[Закрыть]; он служит обозначением смерти и непознаваемости вечности; он – неизменный соперник и спутник истории.
В рамках этой концепции Слуцкий задействует и пушкинские, и библейские парадигмы. В некоторых псалмах, особенно в 104-м, а равно и в Книге Иова, безупречный порядок творения, описанный в Книге Бытия, дополняется тем, что хаос (изображенный как воды) или Левиафан показаны в качестве сил, с которыми Бог вступает в единоборство – и одерживает победу. Это не мирный тоху ва-боху, а угроза, заложенная в Божественный замысел и природу, – впоследствии именно так эти загадочные слова из Бытия будут трактоваться гностицизмом и лурианской каббалой. Хаос никогда не отступает и проявляется в неповиновении многих народов, прежде всего – избранного, Богу и в почитании лжебогов. Подобным же образом в пушкинском «Медном всаднике» хаос – наводнение, которое обуревает Неву и грозит уничтожением выверенному космосу Петербурга, но главное то, что хаос – исконная черта и самого Петра, и творения этого демиурга, в чем убеждается несчастный Евгений[99]99
Подробнее о направлениях интерпретации «Медного всадника» см. в [Виролайнен 1999].
[Закрыть]. Как известно, из пушкинского текста выросла устойчивая традиция[100]100
О ее истории см., например, [Тименчик 1985].
[Закрыть]. Так, Иннокентий Анненский, предшественник акмеистов, видит воплощение хаоса в змее, не раздавленной каменным монархом («Петербург») [Анненский 1997: 188], а Парнок у Мандельштама является жертвой этого хаоса («Египетская марка») [Мандельштам 2009–2011, 2: 270]. Он воплощен в грабителях, которые отнимают шинель у Акакия Акакиевича. Хаос – определяющая черта наиболее самовоспроизводящегося нарратива в русской литературе, петербургского мифа, чей центральный целительный элемент – поэзия Ахматовой. В этом контексте хаос Слуцкого несет в себе признаки тирании и выступает проявлением зла, которое затопило его эпоху и вкралось в его стихи. Дабы оценить масштабы и изменчивость силы хаоса, лирический голос Слуцкого намеренно делается приглушенным, отмеченным нравственной серьезностью писца. Ахматова, напротив, с презрением относится к хаотической ярости авторитета, не проявляет к ней никакого почтения и втаптывает ее в пыль, предлагая взамен собственный авторитет, исполненный «скорбной страсти» царскосельской музы, превратившейся в страдающую святую России. Слуцкий воздает должное пути Ахматовой по советскому бездорожью, пути своеобычному и тяжкому, однако настойчиво идет собственным путем, ухабистым, но полным исторических и метафизических прозрений: такова избранная им творческая позиция трансплантации библейского космоса в «истоптанную тропинку» извращенной святости и зла[101]101
Фаликов отмечает, что «слепая сила природы, изображенная Пушкиным в его петербургской повести», характерна и для Слуцкого [Фаликов 2000].
[Закрыть].
Парадигмы Слуцкого и Ахматовой можно соотнести с двойственностью пушкинского противостояния имперской власти. Согласно одному из бытующих мнений, Пушкин подает себя как альтернативу власти царя: гражданской, нравственной и даже религиозной; впрочем, согласно другой, более консервативной трактовке, он в итоге довольствуется тем, чтобы творить в тени трона. В советском контексте эта двойственность проявляется еще более замысловато[102]102
Самобытное приложение отношений Пушкина с Николаем к советской ситуации, связанной с композитором Дмитрием Шостаковичем, см. в [Волков 2006].
[Закрыть]. Слуцкий, опять же, разрешает ее через интертекстуальную полемику с Ахматовой, в основном – с ее образом безмолвствующего русского народа. Стихотворение «На экране – безмолвные лики…» – ключевой пример интертекста. Там, в частности, сказано:
Я себя не ценю за многое,
А за это ценю и чту:
Не жалел высокого слога я,
Чтоб озвучить ту немоту,
Чтобы рявкнули лики безмолвные,
Чтоб великий немой заорал,
Чтоб за каждой душевной молнией
Раздавался громов хорал.
И безмолвный еще с Годунова,
Молчаливый советский народ
Говорит иногда мое слово,
Применяет мой оборот
[Слуцкий 1991b, 1: 483].
Советский народ Слуцкого хранит молчание веками: оно уходит и во времена Годунова, и во времена, когда Пушкин запечатлел тогдашний кризис в своей парадигматической фразе «народ безмолвствует». Тем самым «советское» превращается в метонимическое обозначение всей русской истории, а советская немота – в разновидность общего русского безмолвия. Историография Слуцкого переиначивает историографию Ахматовой. В «Реквиеме» она вбирает все страдания Руси в свое скорбящее «я», бесстрашно стирая при этом собственную индивидуальную память. Слуцкий тоже дает немому советскому народу право голоса. Но здесь есть одно важное различие. Для Ахматовой Ленинград, скрывающий в себе величие Петербурга, – это «ненужный привесок» к сталинским тюрьмам. Тем самым она делит российскую историю на две неравные части: русскую и советскую, необратимо отсекая советский эксперимент от его русских корней. Для нее вечная печальная Россия противопоставлена безымянному безликому мучителю. Палачи в «Реквиеме», пользуясь определением Д. Голдхагена, не являются ни добровольными, ни недобровольными пособниками [Goldhagen 1997]. Попытки Ахматовой переосмыслить петербургский миф и трансформировать присущие ему мрачность и хаос в типично русскую невзгоду – об этом блестяще пишет Кроун [Crone, Day 2004] – полностью противоположны попыткам Слуцкого одновременно и понять сущность хаоса, и сдержать его[103]103
Макфэдьен пишет по поводу этого стихотворения: «Что именно, помимо и превыше позитивизма, прославляет этот высокий штиль [Слуцкого], не прояснено». Я добавил бы, что он «прославляет» не позитивизм, а историографический проект более общего толка, содержание которого можно вывести лишь из комплексно рассмотренной поэтики Слуцкого [MacFadyen 2000: 59].
[Закрыть].
«Путь» Ахматовой досконально изучен и провозглашен образцом русской культурной памяти; «путь» Слуцкого необходимо признать не менее значимым и, как мне представляется, более проницательным[104]104
Возникает ощущение, что Ахматова сознательно соперничала с «путем» Слуцкого. В его набросках к мемуарам говорится: «Ахматова сказала мне о стихотворении “Бог”: “Я не знаю дома, где бы не было этого”. А она все время думала про славу, свою и чужую, и понимала в ней толк. Она хотела сказать мне приятное: слишком много приятного говорил ей я. Но кроме того, она ревновала. И мне было сладко на душе» [Слуцкий 2005: 182].
[Закрыть]. Прекрасный анализ сталинизма, выполненный Брентом, как бы подчеркивает глубину проникновения Слуцкого в суть своей эпохи. Брент пишет:
Сталин… никогда не был тем, кем был. Он однажды сказал сыну Василию: “Ты не Сталин, и я не Сталин”. Сталин – это власть, уникальная власть, проистекающая из устройства советского государства… завораживающая… страсть, вбирающая в себя всё – жертву и палача – и полностью отметающая собственную индивидуальность и уникальность. Это тот центр молчания, описать который пытались Бабель и многие другие. Это – всё уносящий ветер [Brent 2008: 313–314].
Имя Слуцкого должно стоять среди первых, если не самым первым, в списке тех, кто «даровал голос» тому безмолвию и описал тот ветер:
Только ветер, в город прорвавшийся,
Этот наглый ветер,
Зарвавшийся,
Выдыхаясь и задыхаясь
Вдоль асфальтового шоссе,
Представительствует хаос
В бетонированном космосе
[Слуцкий 1991b, 2: 414].
Брент добавляет: «Надличностную природу власти Сталина… непросто забыть или развенчать», поскольку она проникла во все поры страны и ее истории. В стихотворении «Трагедии, представленной в провинции…» мысль эта отчетливо выражена в последней строфе:
Провинция, периферия, тыл,
Который как замерз, так не оттаял,
Где до сих пор еще не умер Сталин.
Нет, умер! Но доселе не остыл
[Слуцкий 1991b, 1: 286].
Поэт прекрасно понимает, что этот труп, уже превратившийся в историческую реликвию, долго не остынет в стране длящегося терпеливого безмолвия[105]105
Слуцкий явно многое предвидел в этом стихотворении. По словам Вайскопфа, «сегодняшняя массовая ностальгия по Сталину по-прежнему опирается на мощнейший фольклорно-мифологический пласт. Мартовские шествия, посвященные годовщине его смерти, дышат смутной верой в неминуемое возвращение вождя, сопряженное с тем же пробуждением самой земли… в самом начале весны» [Вайскопф 2001: 371].
[Закрыть]. И это станет «последним словом о Сталине», которое он сможет подыскать.
Чем можно оправдать такое ви饚дение? Пустота, которую оставил за собой отступающий хаос, почти физически ощутима:
Всем лозунгам я верил до конца
И молчаливо следовал за ними,
Как шли в огонь во Сына, во Отца,
Во голубя Святого Духа имя.
И если в прах рассыпалась скала,
И бездна разверзается, немая,
И ежели ошибочка была —
Вину и на себя я принимаю.
Понятия безмолвия и немоты, выраженные в биографическом, историческом и метафизическом ключе, – центральные и для этого короткого стихотворения. Разговорное «ошибочка», по моему мнению, носит метапоэтический характер, это отсылка к недочетам в обобщающих построениях поэта, проанализированным выше. Мне представляется, что Слуцкий исправляет упомянутую «ошибочку», превращая своего лирического героя в писца и пророка-провозвестника, а также создавая спиральную концепцию истории, на которой и держится жизнь.
Слуцкий с опаской относится к мантии пророка; в этом смысле он резко порывает и с классической, и с модернистской традицией русской поэзии. Его мировоззрение – трансплантация приземленного по своей сути Пятикнижия, а не более поздних пророческих книг с их зачаточными (хотя и достаточно сильными) мессианскими порывами. В стихотворении «Как мог» Слуцкий подает себя в образе писца, презрительно отзываясь о традиционной роли поэта, пьющего вдохновение из Кастальского ключа (возле которого находятся Дельфийский оракул и святилище Аполлона). Тем самым Слуцкий отказывается от звания пророка, предпочитая ему смиренную роль прогнозиста. Если пророк возвещает лишь волю небес, то прогнозисту не чуждо ничто земное. В то же время судьба у них общая, поскольку «прогнозист времен радиоактивных / Подписывается так: Иеремия» (см. анализ стихотворения «Слепцы» во введении).
Прогнозирование в духе Иеремии заложено в фигуру поэта-писца, что сполна сформулировано в стихотворении, где слово это вынесено в название. Оно стоит того, чтобы быть процитированным полностью:
Писарь в штабе мирового духа —
сочинитель боговых приказов.
Бог подписывает, но идеи
вырабатывает писарь.
А фамилию его не нужно
узнавать: она секретна.
Хватит с вас, что вам известно
тысяча одно названье бога.
Принято считать, что писарь пишет
то, что бог диктует.
Впрочем, всем давно известно:
бог не вышел на работу.
День не вышел, год не вышел.
С девятьсот семнадцатого года
он не выходил ни разу.
Не пора ли рассекретить имя
писаря, того, кто вправду пишет, —
тысяча второе имя бога,
нет, его единственное имя?
Может быть, добрее станет писарь,
если будет знать, что отвечает
он и что прошла пора секретов?
Рассекретим писаря! Объявим!
Огласим его, опубликуем,
обнародуем и тем заставим
оглянуться на рассудок
и с историком считаться.
Пусть на свет на божий он выходит,
невеликий, может быть, плюгавый,
в нарукавниках и с авторучкой,
в писарских надраенных штиблетах,
с писарской искательной улыбкой.
Пусть он, знающий всему на свете цену,
слышит крики: «Писаря на сцену!»
[Слуцкий 1991b, 3: 78].
В этом стихотворении Слуцкий взывает к читателю с просьбой не просмотреть его герменевтические приемы: здесь они на виду, однако завуалированы театральностью текста и якобы политическими аллюзиями. В соответствии с принципами литературной и мифологической трансплантации писарь Слуцкого – не просто летописец, фиксирующий ход событий, или вместилище слова Господнего в библейско-пророческом смысле, но сочинитель, а также соратник Бога. Его труды сопоставимы с трудами историка. Его жалкий внешний вид, облачение в духе мелкого советского чиновника заставляют вспомнить образ прогнозиста, а заискивающая улыбка заставляет вспомнить гоголевского Башмачкина, выдерживающего сокрушительные удары петербургской пустоты и пустоши, а также ироническую позу трикстера, в которую встает поэт. Здесь Бог не появлялся на сцене с 1917 года, с момента большевистской революции. Поэт / писарь заполняет этот вакуум, создавая священное писание своей эпохи безбожия и извращенной святости.
Однако самой неразрешимой остается для Слуцкого проблема отсутствия Бога. Его толкование Бога – библейское; божество – это «сила» и «право» («Разговоры о боге»), это Бог, «этику твердой рукой стиснувший» («Бог и биология!») и втащивший ее в пределы времени[106]106
Анализ стихотворения см. в главе 8.
[Закрыть]. В то же время Бог этот уязвим; Он может быть побежден и низвергнут. Более того, Он, пишет Слуцкий в одном из последних своих стихотворений, покинул зал еще до того, как в истории началось голосование по всем важным вопросам[107]107
«Бог есть» в [Слуцкий 1997].
[Закрыть]. «Мир» в поэзии Слуцкого «нравственно велик» (опять процитируем слова Стрэнда о Бродском), а сам Слуцкий, что будет видно из дальнейшего анализа, прекрасно осознаёт разницу между добром и злом, равно как и то, что два этих понятия давно перемешались[108]108
См. «Удар» в [Слуцкий 1990b: 210].
[Закрыть]. Соответственно, Божий суд спорен. Даже если поэт / писарь / прогнозист раскроет новое имя Бога, неведомое и в буддистской сахасранаме с ее тысячей священных имен, теперь наконец возможно обнародовать самое истинное имя Бога: Его устранение из «коллектива» человечества, которое летит в бездну из-за осознания такого устранения («Бог был терпелив, а коллектив…») [Слуцкий 1991b, 2: 459]. Чтобы все это стало переведенным на уровень языка, советское «коллектив» и высокое «бездна» соседствуют – типичным для Слуцкого образом – в этом метафизическом стихотворении[109]109
Бродский показал, что в своих стихах Слуцкий с внешней легкостью смешивает советский новояз с церковнославянским, диалектизмами и заимствованиями из литературы. Его крайне вызывающие сравнения процесса написания стихов со службой в органах («Начинается длинная, как мировая война…») или вдохновения – со строительством социализма («Погоня»), а стиха – с политруком («Как делают стихи») носят иронический характер, однако еще важнее то, что они служат признаками трансплантации, поскольку превращают советский язык, особенно самый кондовый и официозный, в составную часть авторского священного писания. См. [Slutsky 1999: 243–245]; Слуцкий Б. Погоня. URL: www.ruthenia.ru/60s/sluckij/pogona/htm (в настоящее время ссылка недоступна).
[Закрыть].
Возвращаясь к вопросу о различиях между эпосом и апроприацией Библии Слуцким через экзегезу и трансплантацию, уместно вспомнить слова Альтера из исследования о том, как апроприативная модернистская поэтика превращается в игру: «В еврейской Библии существует… имплицитная концепция истории, которую не разделяет гомеровский эпос»; согласно этой концепции, «в Библии нарратив в целом структурирован как последовательность повторяющихся паттернов» [Alter 2000: 176]. Слуцкий использует тот же принцип в более широком смысле, воплощая его в образе спирали. В одном из последних его стихотворений этому дано определение:
И поскольку я верю в спираль,
нa каком-то витке повторится
время то, когда в рифме и в ритме
был я слово, и честь, и мораль
[Слуцкий 1991b, 3: 454].
Поэзия Слуцкого представляет собой единый космос, в котором метапоэтика перетекает в историографию и обратно. Как и древнееврейское слово, позиция его глубоко нравственна и одновременно, по моему убеждению, многоголоса и неопределенна. Эта спираль – не ницшеанское вечное возвращение. В ней есть отзвук Екклезиаста, однако она ближе к представлению об освященном времени из Пятикнижия и раввинистической традиции, согласно которому моменты встречи истории и святости, такие как Исход из Египта, не носят разовый характер, но постоянно воспроизводятся через ритуальное повторение. А. И. Хешель называет это еврейской «архитектурой времени». Он разъясняет ее в своем классическом произведении «Суббота» в следующих словах: «Нас учат, что творение – не событие, некогда случившееся раз и навсегда. Сотворение мира есть постоянный процесс… Время – это постоянное обновление, синоним непрекращающегося творения» [Heschel 1994: 100]. Вместе с тем Слуцкий сознает завершенность каждой исторической эпохи, воплощенную в оставленных ею руинах, будь то руины холокоста или ГУЛАГа, или просто в самом ходе времени. Вопреки всему, спираль его говорит о постоянном реконструировании времени посредством стиха, через ритуальные записи поэта, который изображает исторический прогресс или разрушение застывшим, и любое возрождение / воскрешение остается незавершенным. В последней строке поэту полагалось бы сказать «совесть, и честь, и мораль», дав отсылку к советскому лозунгу «Партия – ум, честь и совесть нашей эпохи». Однако в стихотворении дерзко и полемично используется Евангелие от Иоанна (Христос как Слово), и тем самым этот иудейский поэт – а не Христос и не Партия, хотя и Тот и другая принадлежали победоносным религиям его эры, – предстает искупительной буквой и духом поруганной эпохи.
Слово поэта в результате завивается спиралью вокруг жизни. Способность к выживанию, которая, по мнению Слуцкого, является врожденной экзистенциальной еврейской чертой (что будет показано в главе 6), служит антителом хаосу. Наиболее метко это выражено в трех строках стихотворения «Вождь был как дождь…»:
…и умер вождь, а мы,
А мы остались.
Ему досталась смерть, нам – жизнь
[Слуцкий 1990b: 173].
Стихотворения Слуцкого о смерти – среди самых душераздирающих во всей русской поэзии по причине их приземленности и библейского отсутствия абстракций. При этом в строках, завершающих его каноническое произведение «Голос друга», изложен весь принцип его поэтики. Стихотворение написано в разгар сталинских послевоенных гонений на евреев, в атмосфере полной безнадежности, и представляет собой песню мертвых, которые в конце возвещают: «Давайте выпьем, мертвые, / Во здравие живых!» [Слуцкий 1991b, 1: 114]. В непосредственном контексте этого стихотворения поэт присоединяет свой голос к голосам мертвых (в более поздних изданиях он добавит, что написано оно от лица Кульчицкого, погибшего на фронте), однако суть и логика его поэтики говорят о том, что он навсегда останется на стороне живых в эпоху постоянного творения[110]110
См. в связи с этим стихотворение «Все-таки между тем…» [Слуцкий 1991b, 3: 258].
[Закрыть].
Болдырев проницательно пишет в предисловии к последней осуществленной им посмертной публикации стихотворений Слуцкого: «Может быть, как никто из русских писателей второй половины XX века, Слуцкий постиг и выразил “образ и давление времени” (У. Шекспир). Это постижение выражено им в огромном многосмысленном, многофигурном, многоаспектном историческом витраже, рисующем историю советского общества и советского человека за полвека, созданном лирическими и балладными стихотворениями» [Слуцкий 1994b]. Я считаю, что этот витраж представляет собой разветвленную герменевтическую трансплантацию. Критик Л. И. Лазарев вспоминает, что Слуцкий любил назначать поэтам воинские звания: тот – генерал, этот – майор и пр. [Лазарев 2005]. В одном стихотворении он пишет об этом так, параллельно давая глубокий комментарий к своему мышлению и корням, библейским, русским (Пушкин) и военным (фронтовой поэт):
Я начинал сначала,
я действовал с иероглифами…
В самом деле,
что такое
хорошая рифма?
<…>
И что такое поэзия,
пусть даже не хорошая,
а просто – поэзия?
Какие знаки различия
носит Медный Всадник?
[Слуцкий 1991b, 3: 449–450].
Иероглифы, о которых здесь идет речь, – это «клинопись» идиша в «Я освобождал Украину…» (проанализировано в главе 4) и «некий древний язык» из «Переобучения одиночеству». Перефразируем вопрос из стихотворения и дадим на него ответ – это уместно в конце данной главы: за «письменным столом», который в другом стихотворении Слуцкий называет своим «веком», поэт носит знаки различия писца и прогнозиста, осмеливающегося подписываться именем Иеремия[111]111
См. «Двадцатый век» [Слуцкий 1991b, 2: 128]; «Обе стороны письменного стола» [Слуцкий 1991b, 2: 475].
[Закрыть].
3
Благословенное проклятие: мидраш 1947–1954 годов
Я вставал с утра пораньше – в шесть.
Шел к газетной будке поскорее,
Чтобы фельетоны про евреев
Медленно и вдумчиво прочесть.
Разве нас пургою остановишь?
Что бураны и метели все,
Если трижды имя Рабинович
На одной сияет полосе?
Борис Слуцкий. «Домик погоды»
Ведь судьба – толковая летчица —
Всех нас вырулила из января.
Борис Слуцкий. «В январе»
Первые строки стихотворения «Случай», написанного Слуцким в начале 1970-х, звучат так: «Этот случай спланирован в крупных штабах и продуман – / в последствиях и масштабах, / и поэтому дело твое – табак. / Уходи, пока цел» [Слуцкий 1991b, 2: 516]. Перед нами – авторское воспоминание: «случай» – это послевоенные антисемитские кампании, устроенные Сталиным[112]112
Самый масштабный научный анализ этих кампаний см. в [Костырченко 2003].
[Закрыть]. В более раннем стихотворении, «Какие споры в эту зиму шли…», поэт заключает: «На старенькой оси скрипя, сопя, / земля обдумывала самое себя» [Слуцкий 1991b, 2: 257]. Слуцкий постоянно проводит ассоциации между этими кампаниями и зимой 1953 года, то есть «делом врачей»; она становится зимой его тревоги[113]113
См. стихотворение «В ту зиму» [Слуцкий 1994a: 3].
[Закрыть]. Как видно из приведенной выше цитаты, события он рассматривает скорее в метафизическом, чем просто в политическом ключе или в непосредственной связи с антисемитизмом. По сути своей они библейски-архетипичны, что совершенно неудивительно. Подобно тому как предчувствие гибели в «Стихах о евреях и татарах» задает основные направления творческого мышления Слуцкого, последние зверства Сталина заставляют его задействовать экзегетические инструменты во всей полноте.
Во введении уже было сказано, что творчество Слуцкого отвергает и переворачивает многие привычные парадигмы. Одна из них описывает реакцию евреев его поколения на послевоенные события: перед войной они совсем не интересовались «национальным» вопросом и совершенно не осознавали существования антисемитизма, поэтому взрыв антиеврейских настроений застал их врасплох. Мне представляется, что отклик Слуцкого был совершенно иным[114]114
Отклик Слуцкого принято считать полностью совпадающим с этой парадигмой. См., например, [Горелик, Елисеев 2009].
[Закрыть]. В подкрепление этого мнения в данной главе будет поставлен следующий вопрос: как попавшие под удар писатели отвечали на обвинения со стороны государства? Кампания против космополитизма (1947–1949 годы) была полностью сфабрикованной акцией, целью которой являлась очистка партии и ее административных рядов, а равно и кругов советской интеллигенции, от евреев. Можно рассматривать ее в качестве следствия глубоко укоренившегося, едва ли не врожденного антисемитизма Сталина, как это подает А. И. Ваксберг [Ваксберг 2003], или в качестве оправданной, по меньшей мере в его собственном представлении, прагматической попытки не дать Америке и Западу обрести мировую гегемонию – такую трактовку дает историк Г. В. Костырченко [Костырченко 2003], однако риторика этой кампании и преднамеренно, и случайно строилась на понятиях, которые задают параметры русско-еврейской идентичности эпохи модерности. После того как жертвы были заклеймены, названы «безродными космополитами» и лакеями Запада, у советских евреев возникла необходимость обосновать собственный вариант космополитизма, который Ронен, основываясь на своих воспоминаниях о том времени, именует «патриотическим космополитизмом» [Ронен 2004]. Он пишет:
Слова «космополитом, патриотом» я читал слитно, будто они были через черточку, «космополитом-патриотом», вроде того, как Шкловский советовал читать название книги Тынянова: «Архаисты-новаторы». Сейчас это мое инфантильное чтение кажется мне исполненным глубокого исторического и личного смысла, а тогда я просто не понимал, что значит «космополит», но скоро понял.
В свете подобной новаторской, явственно оксюморонной и тем не менее глубокой формулировки еврейский космополит-патриот – это человек, который, будучи влюблен в западную культуру, неизменно сочетает «тоску по мировой культуре» (используя выражение Мандельштама) с преданностью стране своего жительства и ее языку, будь то Венгрия, как в случае отца Ронена, или Россия. В таком виде космополитизм разительно отличается от раннесоветского представления о всеобщем интернационализме рабочего класса. Например, Пастернак, будучи, безусловно, космополитом-патриотом, так формулирует в письме к двоюродной сестре свою задачу при написании «Доктора Живаго»: «Я в нем свожу счеты с еврейством, со всеми видами национализма (и в интернационализме)…»[115]115
Цит. по: Иванова Н. Борис Пастернак: времена жизни. М.: Время, 2007. С. 213.
[Закрыть] Для него христианское и русское противостоят обоим изводам иудаизма, национализму и интернационализму – вне зависимости от трактовки последнего. И, наконец, данное Ю. Л. Слёзкиным определение «веры в Пушкина», в которую массово обращались евреи в конце 1920-х и в 1930-х годах, – это своего рода аналог определения Ронена [Slezkine 2004: 127].
Ряд стихотворений, написанных в качестве отклика на послевоенный взрыв народного и государственного антисемитизма, также коррелируют с моделью «космополита-патриота», хотя их мало и они сильно разнесены во времени. Знаменитый отрывок из поэмы Маргариты Алигер «Твоя Победа» – типичный пример, – как справедливо отмечает Шраер, «почти политкорректен в его советской подаче еврейского вопроса» [Shrayer 2007: 562][116]116
Очень ироничный портрет этой поэтессы Слуцкий дает в стихотворении «Мариэтта и Маргарита…» [Слуцкий 1991b, 2: 165–166].
[Закрыть]. В нем автор вспоминает славный довоенный СССР, гордится своей принадлежностью к русской культуре, а в строках, которые распространялись тайно, удивляется росту антисемитизма, одновременно превознося в классическом космополитическом духе вклад евреев, от Г. Гейне до Чарли Чаплина, в мировую культуру [Донат 1973: 411–413]. Неудивительно, что Алигер тоже пострадала в ходе кампании против космополитизма (другой пример – недавно обнаруженная поэма Самойлова «Соломончик Портной»; она будет проанализирована в главе 10). Общая картина, которая возникает из существующих исследований того периода, особенно русскоязычных, почти полностью вписывается в парадигму «космополита-патриота», в ней вновь и вновь звучит знакомое утверждение: обращение к еврейству всегда было следствием внешнего давления. Ваксберг говорит об этом напрямую:
Именно сталинский и послесталинский антисемитизм возродил в Советском Союзе еврейское национальное самосознание, для которого не было никаких иных социально-исторических и социально-психологических причин. Лидия Корнеевна Чуковская справедливо считала, что «искусственное пробуждение… национальных чувств вбили в (русское) еврейство сапогом». Евреи почувствовали себя чужими в стране, где они родились и жили, где похоронены их близкие и далекие предки [Ваксберг 2003: 468].
Ваксберг, по-видимому, не принимает во внимание того, что эти самые предки рассматривали эту землю как чужую по самому ее иудейскому определению. Однако в рамках данного исследования представляется, что слишком рано начисто отвергать подобный преобладающий взгляд на советско-еврейскую идентичность. Кроме того, совершенно ясно, что модель «космополита-патриота» была не единственной. В таком контексте случай Слуцкого выступает важным подтверждением того, что отношения между литературой и культурными мифами более общего характера никогда не бывают однозначными, по крайней мере если речь идет о серьезной поэзии. Художественное ви́дение вбирает в себя культурные веяния в своем собственном ключе, переосмысляя их, вплетая в готовую ткань стилистических, интертекстуальных, метапоэтических и мифологических связей. Соответственно, основной тезис этой главы звучит так: противоборство Слуцкого с исторической «зимой» развивается в двух направлениях – метапоэтическом и экзегетическом. Два направления сливаются воедино, порождая фигуру поэта-интерпретатора, который превращает личный и творческий кризис в шифр из мидраша. С помощью последнего он трансформирует историческое проклятие в целительное благословение и поверяет современное и коллективное – патриархальным, а лирическое – Моисеевым. Наряду со «Слепцами», где брошен вызов пророческим устоям, проанализированные ниже четыре стихотворения этого периода подтверждают, что Слуцкий оперировал еврейской Библией во всей ее полноте.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































