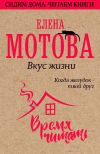Текст книги "Хрустальный желудок ангела"

Автор книги: Марина Москвина
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 17 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
Он сидел на каменном парапете под головой коня маршала Жукова перед Историческим музеем, блаженно покуривая трубку. Издали мне показалось, что пар идет из лошадиных ноздрей. Даур ждал – не озираясь, не пытаясь отыскать тебя в толпе. Он спокойно глядел вдаль, и случайным прохожим, снующим вокруг него – прямо в центре Москвы, – видна была фата-моргана Даура: море, горы, сухумские розы, стеклянная кафешка на песчаном берегу.
Даур – при деньгах, это уже чудо! Вечный бессребреник, он говорил:
– Мне не нужны деньги. Только на кофе и на цветок женщине.
(А на вопрос таксиста «Сколько вы заплатите?» отвечал: «Вы ахнете, сколько я заплачу».) Мы зашли в табачную лавку, и он купил дорогого голландского табаку старинной марки «Клам». На улице купил мне банан. Я говорю:
– Зачем ты тратишься?
– За кого ты меня принимаешь? – возмутился он. – Я что, не могу купить любимой женщине… банан?!
Сам он поминутно доставал из кармана фляжку с коньяком, как знак боевой мощи, и делал освежающий глоток. Потом зашел в кондитерскую и вынес оттуда роскошный торт.
– Марин, – сказал он, – выходи за меня замуж! Ты только не думай!
Как медоносная пчела, несущая нектар в улей, я привела его к моим студентам в Институт современного искусства, чтобы они увидели настоящего писателя.
Разговор шел о том, как написать портрет.
Даур был краток:
– Портрет надо писать так: берешь человека, заключаешь его в рамочку и внимательно рассматриваешь…
Прощаясь у метро «Смоленская», он произнес небольшой спич:
– Твоя педагогическая деятельность в порядке, твой творческий пусть усыпан лепестками роз, ты красавица, у тебя есть один недостаток – это я.
Второй и последний раз мои студенты увидели его на выставке «Урал – Гималаи». Даура всегда манили к себе Гималаи, он страшно завидовал мне, что я с уральскими художниками слетала в Непал и Тибет. На стенах висели огромные фотографии гималайских пейзажей. Скользящий солнечный свет, петляющие тропинки, буддийские храмы, колдуны, левитирующие монахи, дороги в бесконечность… Кто-то снимал только тени, отбрасываемые тибетскими строениями.
Капитан-художник Александр Пономарев сконструировал гигантский аквариум, в котором время от времени вздымалась и бежала вдоль самого большого зала Малого Манежа настоящая водяная волна. И вдохновенно рассказывал, что обратил внимание в Тибете на постоянный ветерок, днем и ночью колышущий занавески, ветки деревьев, листья, одежды…
– Где ваши записные книжки? – я спрашиваю у своих ребят. – Смотрите: Даур Зантария – великий писатель, достал свой дневник и что-то записывает. Что ты записал, Даур, читай!
Даур – торжественно:
– «Лхаса – столица Тибета. Марина – великая путешественница».
…Летом 2001 года Даур Зантария умер от инфаркта в крошечной квартирке около метро «Сокол». Нар позвонил ранним утром – в семь? шесть утра? И сказал.
От метро я долго шла вглубь дворов – там такие рытвины и лужи, как будто разбомблено ракетами, говорил Нар, большой знаток этого дела («Когда бомбят – так страшно, что хочется зарыться в землю!»).
Это был форменный край света, за последним пристанищем Даура простирался только необитаемый хвост Земли. Третий этаж, дверь не заперта. Вещи кувырком, но их так мало, не о чем и говорить. На столе рассыпаны фотографии – здесь он на море, тут с друзьями в кафе на набережной, там в Таджикистане у жены Тажигуль – Даур незадолго женился, и на недельку она поехала навестить родню. В ванне сушилась выстиранная майка, две зубные щетки в стакане склонились одна к другой.
Мы зажгли свечу. Свеча у Саски была новогодняя – в виде Деда Мороза.
На кухонном столе – кружка Даура с его недопитым чаем и дневник, раскрытый на той весенней странице:
«Лхаса – столица Тибета…»
Свитер я забрала. Вечер был прохладный, я накинула его на плечи, и меня обдало волной Даурова тепла. В этом свитере он, почти как мсье Крачковски, проехал по горячим точкам бывшего Советского Союза, но только не ДО того, как там просвистит первая пуля, а в разгар. И встретился там с людьми, чьи имена не сходили с газетных полос и с кем мало кто захотел бы встретиться на узкой дорожке. В солидном журнале выходили его спокойные философские рассказы об этих рискованных поездках. Он пил, курил, общался с весьма сомнительными личностями, но от свитера пахло только молоком, хлебом и дымком костра.
…Поэт Игорь Сид устроил Дауру выступление на Петровке в Литературном музее.
Даур волновался, курил. И три большие черные птицы с алыми клювами у него на груди выглядывали из болотной травы и камышей. В небольшом зале собрались родные люди: Пётр Алешковский, Петина жена Тамара Эйдельман, теща Пети Элеонора Александровна, критик и прозаик Лёня Бахнов, моя подруга Светка, мы с Наром, старинный дружок Даура художник Адгур, несколько молодых людей, очень интеллигентных, и отлично была представлена абхазская диаспора, видимо, спонсировавшая этот вечер, – смуглые импозантные люди в модных костюмах, они заняли целый ряд справа от Даура.
Сам Даур сидел за старинным столиком из красного дерева, перед ним лежали рукописи; в очках, с благородной сединой, в этом, как я уже говорила, безумном свитере.
Это было его первое литературное выступление в Москве. Даур читал размеренно, чинно, чуть интонационно форсируя самые смешные и колоритные места. Читал отрывки из «Золотого колеса», рассказы, прочел несколько блистательных эссе или притч – особенно мне запомнился сюжет о Мелитоне Канта-рия, в свое время водрузившем знамя над Рейхстагом, какой он в мирное время стал свадебный генерал, как его именем весело, но церемонно прикрывали земляки свои мелкие мошенничества. В этих коротких и выверенных вещах вставала за карнавалом живая, величественная и смешная человеческая судьба, что так удавалось Дауру.
Когда он закончил, все вскочили, бросились его поздравлять, а он молча, издалека сделал знак Тажи-гуль, чтобы она уже вела публику к накрытым столам. И мне было так приятно, что, какой наш Даур ни есть красноречивый, он все-таки отыскал женщину, с которой можно разговаривать без слов.
Ну, его поздравляли, радовались, хлопали по плечу, и все до одного спрашивали:
– Откуда у тебя такой свитер? Ты в нем совсем уже Гарсиа Маркес.
Он отсылал всех ко мне. Люди жали мне руки. Поздравляли с таким обалденным свитером. А одна сумасшедшая женщина стала просить меня показать ей мою творческую лабораторию.
Я считаю, что это был мой звездный час. Правда-правда, счастливый был день, ничего не скажешь.
– Поблагодари земляков, – на ухо шепнул Даур.
– А что сказать?
– Скажи: «В Абхазии есть две драгоценности – гора Эрцаху и Даур Зантария. Но Эрцаху вечна, а Даур – нет. Поэтому давайте его все любить и беречь!»
Прощание вышло эпическим, будто из старинных восточных сказаний, хотя происходило в легком серебристом ангаре, напоминавшем внутреннее пространство инопланетного космического корабля. Гроб стоял на возвышении, будто парил над полом; чтобы в него заглянуть, нужно было подняться по ступеням, где расположились женщины, прибывшие из Абхазии сестры-плакальщицы.
Московские друзья Даура выстроились у противоположной стенки, не смея приблизиться, ибо оплакивание носило этнографически сакральный характер, благо никто не посыпал главу пеплом, не бил кулаками в грудь. Но крики отчаяния то и дело прерывали безответный разговор с ушедшим туда, где господствует правда, включавший факты житья-бытья, сложности внутрисемейных отношений, восхваление заслуг и одновременно сомнения в избранном им пути.
Из уважения к собравшимся плакали в основном на русском, обрамляя плоды индивидуального творчества строками древнего канона:
– О, мой красивый брат, где твоя красота?
– Брат мой, тебя уважали, брат мой…
– Но зачем ты надел этот костюм, ведь ты не любил ходить в костюме…
– Папе привет передай…
Вдруг проскользнуло:
– А я-то тебя всегда стыдилась…
Но традиционные формулы брали свое, особенно когда плакальщицы переходили на абхазский, в их скорбной песне слышалось:
– Куда же теперь деть нам твои доспехи с одеждой твоей, о, брат мой!
– Как только раздастся цокот копыт, гляжу на ворота и жду, что ты въедешь во двор, сестра твоя…
– Оставив сестру в темноте, куда ты уходишь? Брат мой…
И наконец:
– По тебе сегодня весь день, о брат мой, плачут Земля и Небо!
Хоронить его увезли в Сухум – он как раз туда собирался и даже заранее купил билет на самолет.
Пришла мне пора провожать Даура.
У митрополита Макария прочитала, что каждый день из сорока – страшно важный для покинувшего этот мир человека, ибо дым земных очагов восходит прямо к райским крышам.
На Пасху Даур звонил мне и говорил:
– Мариночка! Христос воскрес! Если твои не такие законченные йоги, поздравь их от меня.
Однако душой Даур был убежденный суфийский дервиш. Его настольная книга – Жизнь и Поэзия Джалал ад-дина Руми, и он ее постоянно цитировал:
…Потом приходит смерть, подобно заре,
и ты просыпаешься,
смеясь над тем,
что считал своей скорбью…
– Путей много, – он говорил мне, – но Бог один, и, возможно, на зайце суфизма я доскачу до твоего слона индуизма и буддизма.
– Все, что не приближает меня к суфизму, то отвлекает меня! – говорил Даур. – Если бы мне предложили на выбор слона Будды или ишака Иисуса, я выбрал бы верблюда.
С суфийской традицией я была полностью незнакома. «Тибетская книга мертвых» лежала у меня на столе, я проштудировала ее от корки до корки, но это был грозный и страшный путь, и я не решалась двинуться по нему.
Адгур предложил заказать службу в храме: Даур – крещеный. То, что он такой суфий, это его сознательный выбор. А по рождению он христианин. Но мы не знаем его имени при крещении…
Я отвечала:
– ОНИ и так поймут, о ком идет речь…
– Да, – соглашался Адгур, – он там не останется незамеченным.
Я выставила на шкаф большую фотографию Даура, зажгла свечи, благовония, поставила две имевшиеся у меня иконы: Девы Марии и Сергия Радонежского (Даур в паспорте с отрочества записан как Сергей: председатель сельсовета любил Есенина и всех мальчиков своевольно и официально переименовывал в Сережи!), открыла запыленный «Молитвослов».
– Со святыми упокой, Христе, душу раба Твоего Даура, – попросила я, – идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь бесконечная…
– Ты что, – спросила моя мама, – хочешь устроить Даура в рай?
– Да, – говорю.
– Дело это для нас совершенно неизведанное, – с сомнением сказала моя мама. – К тому же ты некрещеная, поэтому твои молитвы…
Но я не стала дослушивать. Тридцать девять дней каждый вечер я обращалась к Богородице и Сергию Радонежскому, изредка сбиваясь и взывая к Буддам и Бодхисатвам четырех сторон света, наделенным великим состраданием, обладающим мудростью понимания, любовью и силой покровительства невообразимых размеров, с просьбой защитить Даура на тех путях, которыми он движется.
– Господи! – говорила я. – Даур Зантария – яркая краска в Твоей палитре. С ним пришло на Землю много любви, всели его во дворы Твои, презирая прегрешения, вольные и невольные, Человеколюбче!..
А самому Дауру я говорила:
– Смотри, узнай меня, когда мы опять с тобой встретимся, договорились?
– Ну, я же узнал тебя – в Переделкине, – он отвечал.
На сороковой день, когда в его родном Тамыше собрались на поминки более пятисот человек (говорят, на похоронах было полторы тысячи!), во дворе жгли костры и в огромных казанах варили мамалыгу, – все друзья приехали туда, пришла многочисленная родня, Абхазия горевала о Дауре… В тот день в Москве я сняла его фотографию со шкафа и поехала в храм на Ваганьково.
– Ты – талмудистка и начетчица! – сказала моя мама. – Сели бы лучше, выпили по рюмочке…
Но этот важный день я решила доверить профессионалам.
В метро на переходе у индусов купила косынку, черных, конечно, не было, да я и не хотела черную, но выбрала самую незатейливую: по изумрудному полю – крупные желтые подсолнухи. Вошла в церковь – смотрю, хрупкий молодой человек стоит у алтаря в длинном черном одеянии.
– Как вас зовут?
– Дмитрий.
– Послушайте, Дмитрий, – говорю я, – мне нужна ваша помощь.
И рассказала ему про Даура.
Это был серьезный священник Ваганьковской церкви Вознесения – отец Димитрий. Ничего лишнего он не стал спрашивать – ни имя во Христе Даура, ни крестилась ли я в водах Иордана, только спросил, когда узнал, что Даур – писатель:
– Наверное, очень трудно быть писателем?
– Ну, – ответила я, – не труднее, чем священником.
– Пойду облачусь, – сказал он.
Смотрю – идет мой отец Димитрий – во всем золотом, с кадилом – из Царских врат. Мы с ним так пели, так молились, так он старательно просил о Дауре, как будто знал его ближе, чем Петя Алешковский. На наше райское пение в церковь начал заглядывать народ – толпа прихожан собралась у входа, а мы самозабвенно поем, осеняя себя крестом, – я вся в подсолнухах – первый раз, я уверена, отец Димитрий возносил молитвы в такой безумной компании, в общем, Даур, мне кажется, был доволен.
Нет лучше, когда дух твой, утратив тело, обретает плоть в виде корабля или книги. Писатель у небесной канцелярии в этом смысле на особом счету. Ему дается шанс переступить через физическое исчезновение и двинуться дальше полным ходом. Но надо ж издать его книжку! Заякорить плод высоких дум на Земле, как похищенный огонь у Гефеста, сокрытый в полом стебле тростника!
И все-таки – что я возомнила о себе, когда приблизилась к скорбящим сестрам и сказала:
– Дорогие! Оставьте мне все дневники, файлы, дискеты, повести, рассказы, оставьте мне стихи его, эссе, колонки и подвалы, записки, письма, беглые заметки, афоризмы, два полностью законченных романа и один неоконченный (хотелось добавить: «Я закончу…», но воздержалась).
Разумеется, никто мне ничего не собирался оставлять. Какой-то пигалице. Что она хочет от этих странных исписанных листков брата? Только что нажиться… Поэтому рукописи Даура его родня сообща решила увезти в Абхазию.
Нар был ужасно огорчен, но женщина в роду абхазов – это солнце, хранительница очага, она скромна и женственна, а в случае нужды неустрашима. Если проезжий на коне увидит идущую женщину, он должен спешиться и уступить свою лошадь ей. Ибо нет мужчины, который бы не родился от женщины, – гласит абхазская мудрость.
– Чем дольше пролежит, тем лучше созреет и тем ценнее будет! – мне отвечали сестры и племянницы со свойственной аграрному народу мудростью. – С годами ценность только возрастет!
– Не возрастет. И не созреет, – за мной, словно Архангел Иегудиил, который в столпе огненном охранял израильтян, когда те двинулись из Египта, нарисовался Леонид Бахнов. Чернобородый, смуглый, темноглазый, своим неожиданным вмешательством он спутал им все карты. Тем более Бахнов заведовал отделом прозы журнала «Дружба народов», это придавало весу нашей с ним коалиции.
(– Шли мы как-то с Дауром, – рассказывает Бахнов. – Заворачиваем с Тверской на улицу Герцена. Я – коренной москвич. И Даур – яркое лицо кавказской национальности, ни кола ни двора, ни определенного места работы, ни московской прописки. Нас останавливает милиция.
– Ваши документы? – обращается милиционер… ко мне.
– Он со мной, – говорит Даур.
И мы спокойно двинули дальше…)
Дело оставалось за «немногим» – собрать творческое наследие Даура – в разных местах и у разных людей. Желая облегчить себе задачу, я имела неосторожность обратиться за помощью к Тажигуль и мгновенно понесла урон. Она поехала к Адгуру и забрала у него большой дневник в кожаном переплете, куда записывал Даур свои философские размышления, остроумные наблюдения, какие-то фрагменты и сюжеты – своим особым сочным величавым языком, полным неожиданных сравнений, пышных наворотов, это были абсолютные жемчужины, много раз он мне читал оттуда зарисовки, стихи, байки о жизни, смерти – это ж мой любимый жанр.
Я замечтала посвятить в грядущей книге целый раздел его «опавшим листьям». Каково же было мое разочарование, когда Тажигуль строгим голосом объявила, что дневник Даура она никогда не отдаст и никому не покажет. Это после того, как я еле умолила ее забрать хоть что-то у кого-нибудь и встретиться со мной в метро! Она отказывалась внять гласу рассудка, только твердила:
– Он сам сказал: «Тажигуль, дневник я пишу для себя, а не для печати»!
Не в силах убедить правообладательницу, что писательский дневник – нескончаемая книга, тренажер, инструментарий, но с ним надо умеючи обращаться, я попросила ее заглянуть, вдруг ей покажется возможным поместить в книгу… ну, скажем, описание природы, заметки об искусстве, размышления о войне…
– Он не велел, и я не загляну! – сказала она как отрезала – и увезла дневник Даура к себе в далекие Фанские горы или пустыню Кара-Кум.
Зато сугубо личные заметки на дискетах, где друг мой поверял органайзеру сердечные тайны, приплыли именно ко мне. Порой я упрекала Даура, что у него не очень-то получаются в романе любовные сцены. Мол, ему следует учиться, учиться и учиться у Генри Миллера.
– А что я могу сделать, если я такой целомудренный?! – восклицал Даур. – И у меня было совсем немного женщин – всего человек шестьсот!..
Открыть эти файлы по техническим причинам удалось только Лёне Тишкову. И я возблагодарила небеса, что нас с Дауром связывала исключительно крепкая мужская дружба.
Постепенно с ужасным скрипом и некоторым скандалом что-то стало докатываться до меня. Более того, ко всеобщей радости, я обнаружила бесследно исчезнувшую беседу Татьяны Бек и Даура «Огонь в очаге». Оба собеседника понятия не имели, где она и стоит ли ее вытаскивать на свет божий. «У нас с Дауром, – говорила Таня, – сложились весьма причудливые отношения – мы постоянно ссорились».
– Ежели в одной натуре дар и дурь не расколоть – это значит: о Дауре позаботился Господь, – писала Татьяна Бек в девяносто шестом году. – Да, я любила чужестранца, прекрасного как дикий брег, меня тянуло петь и драться и ртом ловить летящий снег… Его щека как правило была небрита. Он был мне ближе брата. Быта не замечал… – в девяносто седьмом.
В июле 2001-го в Кельне написаны такие строки:
Мой упрямый, мучительный, самоубийственный друг,
На чужбине огрета загробною вестью как плетью…
Вижу: ты, уходя, по чистилищу делаешь круг
И смеешься в лицо благочестию и долголетью…
Целый год он был всюду и везде, я встречала его у нас в Коломенском и ощущала поблизости, шагая по Тверскому бульвару, иногда мы виделись во сне, он молча выступал из темноты, как будто в свете свечи. Вдруг из какой-то книжки вылетел и полетел, как лист осенний, номер его телефона. Таня Бек рассказывала, что на полях ее стихотворения, посвященного Дауру, в сборнике «Узор из трещин», появилась свежая надпись – его рукой простым карандашом: и вот я здесь…
Мне хотелось построить книгу, похожую на дом, которого он лишился и куда ему предстоит вернуться, когда его жизненный путь сомкнется в золотое колесо. Когда глядела, как люди волнуются, вспоминая Даура, смеются или впадают в ярость, изливают обиды или затаивают новые, во мне зашевелилась пьеса об ушедшем человеке, чьи отношения с живущими продолжают развиваться, хотя его давно нет на Земле.
– Как нет Даура? – удивлялся Валентин Иванович Ежов, автор фильмов «Баллада о солдате», «Белое солнце пустыни», «Крылья» и еще пары десятков знаменитых кинолент. – А мы с ним договорились встретиться! Послушай, два единственных абхаза, которые учились на сценаристов в Москве, они оба учились у меня. Мы шли с Дауром по Гагре, он остановил такси и сказал водителю: «Друг! Знаешь ли ты, что в мировой кинематографии есть два абхаза. И они оба учатся у этого человека. Так что на территории Абхазии он должен ездить на такси бесплатно, иначе мы опозорены!..»
Потом мне прилетел конверт с тетрадным листком в клеточку от Евгения Рейна: «Даур Зантария, – написал он, – один из самых одаренных людей, встреченных мною в жизни… Еще до того, как я прочел его стихи и прозу, в Абхазии попал я в дом Даура на застолье. Поздним вечером на берегу моря он читал мне свои стихи. Я сразу понял – передо мной поэт…» Листок добыла и послала Татьяна Бек.
Плечом к плечу мы собирали нашу книгу, она все что-то добывала, посылала (…Я была вам хорошим товарищем, вы, надеюсь заметили это…). Пока не воскликнула: «Ой, я уже … все это вам посылать!»
Битов говорил глухим голосом, медленно, будто каждое слово высекал на граните, я записывала его на диктофон: «Даур Зантария был слишком талантлив. Его первая крупная вещь была не только талантлива, но гениальна, настолько в ней выражен новый жанр – органичный сплав эпоса и хроники, фольклора и летописи…»
Фазиль Искандер даже слышать о Дауре не захотел. А ведь когда-то они были друзьями. Нар отдал мне фотографии. Битов и Фазиль у них дома, все живы, хохочут, Лариса обняла Саску, Даур наливает шампанское.
– Старик, даже если знал, что его казнят, – объяснял мне художник Адгур, – но фраза уже созрела, не мог отказаться.
У Беллы Ахмадулиной на стенке распятие, а рядом – распластанная шкура белого медведя. «Это не я – его…» – сказала Белла. «Кого из них?» – спросил Даур со всеми вытекающими последствиями.
Поздравляя с юбилеем своего крестного отца – Резо Габриадзе (вторым крестным был Андрей Битов), – Даур заявил:
– Не верю, что тебе шестьдесят, Реваз, от армии, наверно, косишь?
Мне он сообщал доверительно:
– Все время хочется позвонить Фазилю. Спросить: Фазиль, как ты? Живешь на чужбине, горе мыкаешь. В чем тебе помочь?
Видимо, не удержался.
Был теплый сентябрь 2001 года, я ехала к Дине Рубиной в Спасоналивковский переулок – несколько счастливейших моих лет Дина служила в московском еврейском агентстве «Сохнут», и нескончаемой вереницей к ней шли разные прожектеры, представляли свои проекты, просили субсидии.
Вечером к ней обещал заглянуть Александр Бисеров, директор екатеринбургского издательства «У-Фактория». У них только вышел мой роман «Гений безответной любви», о котором Игорь Губерман прямо с порога отозвался благодушно: «Прочел ваш роман. Вы знаете, героиня такая идиотка, складывается впечатление, что эта черта в полной мере присуща самому автору».
Бабье лето, 11 сентября, благодать. Дина всего наготовила, стол накрыт, ждем гостей. Включили телевизор на кухне, а там – одни и те же кадры, мне показалось, из фильма ужасов – два самолета один за другим врезаются в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, и с пламенем, клубами черного дыма, пронзают их насквозь… Это повторяется и повторяется – как в страшном сне. А мы, окаменев, стоим и смотрим, не веря собственным глазам.
Но Дина приготовила ужин, садимся за стол, муж Дины художник Борис Карафелов, Александр Бисеров, Губерман с женой, мы с Лёней.
– Сегодня, – произнесла Дина, – погибло несколько тысяч людей. Это большая трагедия. Но был и еще один человек, который ушел совсем недавно в расцвете сил: Даур Зантария, абхаз. Его роман о том, как зарождается война, должен стать книгой – и она ищет своего издателя.
Я сразу вытащила фотографию Даура, всем показала, чтобы можно было воочию убедиться, какой это человечище, с сигаретой, в моем свитере с птицами.
– Мне кажется, – сказал Губерман, – что он был очень земной человек.
– Земной и небесный, – сказала я, – как Иерусалим.
(«А мое желание обнять тебя – оно земное или небесное?» – спрашивал Даур.)
– То самое «Золотое колесо», которое я читал в «Знамени»?! – воскликнул Александр Викторович. – Да я с удовольствием его издам!
Так наше «Золотое колесо» перекатилось с Дининой груди на грудь Бисерова и уже там вольготно расположилось, поскольку Александр Викторович отвез его в Екатеринбург, и началась счастливая эпопея подготовки рукописи к изданию, сопровождаемая кровопролитными сражениями и ужасающей нервотрепкой.
Пружиной невзгод, как всегда, послужила любовь. Редактор Евгений Зашихин с пафосным электронным адресом «сократ собака сократ», абсолютно нерабочим, из-за чего мы с ним общались обыкновенными письмецами в конвертах, – влюбился в прозу Даура и вознамерился издать полное собрание его сочинений в одной необъятной книге. Причем не в контексте московской тусовки, – писал он, – когда достоинства PR-акции сводятся в известной степени к принадлежности к некоему кругу посвященных, а имидж героя реконструируется, как производное от круга его общения, и происходит перекрестное опыление! Пусть публика сама въедет в этажи прозы Зантария, безотносительно к тому, кто вязал свитер автору книги…
Оставим в стороне тон письма и его начало:
Уважаемая Марина Львовна! – писал мне Евгений Степанович ровным убористым почерком на кальке авторучкой «Parker», одной из моделей которой еще Эйзенхауэр подписывал капитуляцию Германии в 1945 году, а генерал Макартур – капитуляцию Японии, – спасибо, письмо ваше получил. Представьте, едва только сел за ответ, погода тотчас же испортилась: пошел дождь со снегом etc. – как, видимо, климатическая реакция на ваши комплименты моему письму по части бумаги и качествам чернил…
Оставим, оставим, не в этом суть. С одной стороны, идея Зашихина предполагала издательскую отвагу, поскольку Даур был совсем незнаком российской публике, с другой – безрассудство, по этой же причине.
Он яростно рушил мой замысел и структуру, выстраивал книгу по своему разумению и горько сожалел, что имеет дело не с самим Дауром («Эх, был бы жив Даур, мы бы с ним сели, выпили и все решили. А эта Москвина – с ней одно мученье…»).
Даур и впрямь на редкость был сговорчивым автором, внимал советам и рекомендациям, бестрепетной рукою сокращал куски в романе, которые не нравились Татьяне Бек…
– Я тут гость, – говорил он. – Гость, который впервые пришел в чужой дом, он каким старается быть? Он старается быть веселым, остроумным, покладистым и рассказывает о своем крае самые замечательные вещи. И это всегда будет роднить всех нерусских писателей, пишущих по-русски вне зависимости от уровня, будь то Гоголь или я…
Единственный раз он буквально уперся рогом, когда в «Дружбе народов» готовили к публикации «Кремневый скол» и Даур написал, что один там пещерный житель заслушался, как вдали, запрокинув головы, поют динозавры.
– То ли это слово? – усомнилась редактор. – Разве они поют?
– Поют, поют, – артачился Даур. – Еще как поют!
В остальном он готов был идти навстречу. Достаточно вспомнить, что всех незнакомых женщин на улице, продавщиц в ларьке и вообще любых теток, независимо от вида и возраста, он звал просто «доченька». Исключение Даур сделал только раз на моих глазах для совершенно реликтовой, дико агрессивной матерщинницы, которая обложила его на улице по полной программе.
Ее он назвал «матушка».
Что делать, если издатель яростно требует выпустить полное собрание сочинений, втиснув в один том романы, повести, рассказы, гирлянду очерков, эссе… – радоваться или упираться?
– Смотря какую ставить цель, – глубокомысленно заметила моя мать Люся. – Чтобы в твоей книге было ВСЁ – и ее бы никто не читал? Или не всё, но читали бы все?
Вопрос был исчерпан.
Рукопись книги, продуманную до мелочей, – корпус текстов Даура, наши слова любви, буквицы, концовки, шмуцы, оригиналы рисунков Тишкова – я повезла в дорожной сумке на Казанский вокзал проводнице фирменного поезда «Урал» и постояла на перроне, пока темно-красный поезд с желтой полосой и занавесками с гроздьями рябины тронулся в путь, пока исчезли вдали огни концевого вагона.
Прав был Даур: все наши дела подхватывает ветер и уносит, так сказать, в великое пространство… Близилась осенняя книжная ярмарка на ВВЦ, и мы на нее успевали. В день открытия нам улыбнулась фортуна: в «Экслибрисе» – книжном приложении к «Независимой газете» – вышла в свет вновь обретенная беседа Тани Бек и Даура «Огонь в очаге»!
Все, кто умел читать, читали «Экслибрис», любое упоминание, оброненное на его страницах во время ярмарки, влекло за собой успешные продажи, а тут – целая полоса с портретом Зантария в центре – и броский подзаголовок: вышел долгожданный «Колхидский странник»… Налетай!
Как о великом сюрпризе я сообщила об этом Татьяне Бек. Больше, чем этой публикации, мы радовались только самой книге. Коробки с первыми ласточками прибыли на московскую ярмарку прямо из екатеринбургской типографии «Уральский рабочий», и Леонид Тишков, поспешив на презентацию, уже звонил с донесением, что встретил мужика, на ходу читавшего «Колхидского странника».
– А это нам знакомый человек? – спросила я осторожно.
– Абсолютно нет, – ответил Лёня.
Зал был полон. Я обнимала и целовала всех без разбору и благодарила причастных за публикацию «Огня в очаге». Клянусь, у меня и в мыслях не было, что здесь может что-то кому-то причитаться! Тут бы не грех и приплатить, только бы все так славно сложилось и на целый подлунный мир прогремела Танина с Дауром рукопись, можно сказать, найденная в Сарагосе.
Черт меня дернул ненароком обнаружить, что автору беседы полагалось небольшое денежное вознаграждение. Я, разумеется, не стала заморачиваться, но Таня – справедливая душа, абсолютно щедрая и бескорыстная, возмутилась не на шутку.
– Как? – удивилась она, и в ее голосе зазвучали металлические нотки. – Редактор забрала себе чужие деньги?
Я попыталась оправдать коллегу – та лила воду на нашу мельницу, оперативно, профессионально, с помпой и с исчерпывающей преамбулой (моей). Может, у нее было несчастливое детство, но она человек, и ничто человеческое ей не чуждо. Вы поэт, говорила я Тане, вам достаточно взглянуть и понять, что творится в душе у редактора. Почему бы не поговорить с ней, раз вам так хочется узнать, есть ли у нее совесть.
– Вы и поговорите, – сердито отвечала Таня. – Раз вы все это затеяли, надо отвечать на вызов, который бросает вам жизнь, а не сваливать все на другого и ждать, когда он кинется на амбразуру.
Тут же представила: я подкарауливаю редакторшу и, выйдя из кустов на узенькой дорожке, интересуюсь, будто невзначай, как получилось, что гонорар оказался у нее, и было ли это случайностью или вообще у нее так заведено… А сама думаю: Боже сохрани задавать такие вопросы, и к чему мне прищучивать журналиста, который привлек к нашей книге столь пристальное внимание читателей?
– Вы, правы, как всегда, – я стала уговаривать Таню. – Но где нам взять еще один «Экслибрис», чтоб мы и прославили Даура, и получили причитающийся вам гонорар? Да еще в день открытия ярмарки? Поймите, так сложилось исторически, что вы такая положительная, а это, между прочим, не каждому дано. Пусть недоразумение с «Экслибрисом» будет самое ужасное в нашей жизни, и давайте не придавать значения подобным мелочам!
Всем известно, какой я незадачливый миротворец и что мне лучше молчать, чем говорить вообще, не ввязываясь ни в какие передряги… Если я решила, что Татьяна успокоится, услышав мои ласковые увещевания, это была иллюзия. Ее гнев только пуще разгорелся. И вот уже наш газетный публикатор стоит у меня на пороге, зареванный, ее со скандалом увольняют и все такое прочее.