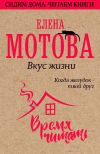Текст книги "Хрустальный желудок ангела"

Автор книги: Марина Москвина
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 17 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
– Давайте зреть в корень, – звоню я Татьяне. – Бедняга остается без работы из-за дела, которое гроша медного не стоит, и эта женщина до старости будет считать, что именно мы с вами виноваты, что ей нечем кормить малолетних детей и нетрудоспособных родителей.
– И правильно, – отвечала Таня. – Поскольку такие люди, как эта журналистка, не достойны носить свое гордое звание, и, если ее уволят за шельмовство, она многое поймет в этой жизни.
– Кстати, вы тоже хороши! – добавила она. – Без разрешения отдали мою беседу в печать! А если в этом органе я, предположим, не хотела бы печататься, вдруг он… черносотенный и у меня с ним категорически не совпадают воззрения?
– В таком случае прошу у вас прощения, – сказала я, потихоньку заводясь.
– Вас я прощаю, – произнесла она царственно. – А ее – нет.
– «Вы великодушны, как богиня…»
– «Я не люблю иронии твоей…»
– Мне принесли деньги из «Экслибриса», – говорю. – Я хочу их вам передать.
– Мне не нужны эти деньги.
– И что прикажете с ними делать? – спрашиваю, уже окончательно не понимая, на каком я свете.
– Отдать их сыну Даура…
Нар к тому времени уехал в Абхазию, исчезнув за линией горизонта.
А в доме художницы Лии Орловой в Москве, где довольно долго жил Даур, время от времени обретался Володя-спелеолог, который тщательно исследовал подземный мир Абхазии, вдоль и поперек уже исследованный легендарным Гиви Смыром, открывшим Новоафонскую пещеру.
Добрая душа, Лия давала приют усталым путникам, странствующим трубадурам, монахам и миннезингерам.
Даур жаловался:
– Лия подселила ко мне монашенку, при ней смотреть телевизор – все равно что прелюбодействовать…
Лия Орлова ему – уходя:
– Абхазский сепаратист, закрой за мной дверь!
– Иди-иди, – отвечал он, – клерикалка, мракобеска, обскурантистка…
Словом, моложавый и смышленый Володя взял наши деньги и пообещал передать Нару, но просто понятия не имел, как это осуществить, поскольку вообще не вылезал из подземелья. А Нар жил в наземном городе Сухуме, что делало их встречу невозможной, как встречу парохода с паровозом.
Что же предпринимает Господь, чтобы эта встреча состоялась? Он устраивает так, что в один прекрасный день Володя выбирается на свет божий из какой-то бездонной дыры, жмурится на солнце, кругом высятся Кавказские горы, а в небе парит орел. Вдруг видит – по тропинке идет не кто иной, как сам Нар Зантария!
– Саска! – окликнул его наш Володя, не веря глазам и вытаскивая из внутреннего кармана комбинезона конверт, истрепанный житейскими бурями. – Татьяна Александровна Бек просила тебе передать вот эту сумму денег.
– Да? – обрадовался Нар. – Большое спасибо!
После чего Володя уполз обратно, а Саска, весело насвистывая, зашагал дальше, сунув деньги в карман.
Таня была удовлетворена, мир восстановлен, а моложавый Володя впоследствии совершил еще одну замечательную вещь – своими подземными ходами пробрался на родину героя в Тамыш и сфотографировал маму Даура: она смотрит горестным взглядом в объектив и большими крестьянскими руками прижимает к себе нашу книгу «Колхидский странник».
К ярмарке была напечатана первая тысяча книг, и на этой тысяче дело заглохло. При том что в выходных данных черным по белому прописано: тираж 15 000. Какая-то мистика, ей-богу. За двадцать лет я так и не поняла, что случилось.
Книги передавались из рук в руки, исчезали и появлялись в неожиданных местах, попадали к неожиданным людям, жили своей жизнью (книгу нужно нюхать, каждую страницу целовать… а читать умеют все, – говорил Даур.)
Мне это напоминало судьбы драгоценных масок японского театра Кабуки, любая из них имела свою детективную историю. Из поколения в поколение владельцы передавали ее по наследству, маски таинственно похищались, по всей стране объявляли розыск и баснословное вознаграждение, маска погибала, воскресала, казалась невосполнимой утратой и снова всходила на небосводе театральной жизни.
«Колхидского странника» дарили друг другу, зачитывали в библиотеке, втридорога продавали, обменивали и отдавали за так. Наш с Лёней приятель рассказывал, что приобрел ее в Париже на Блошином рынке.
Кто-то не выпускал из своей библиотеки: отчалив, она уже не приплывала в гавань, ибо колхидский странник не возвращается.
Но истинный фурор книга произвела в Сухуме.
Даур Зантария по прозвищу Старик, богема и завсегдатай сухумского Парнаса «Амра», – был провозглашен великим поэтом и даже пророком, которого славили его именитые московские собратья по перу.
Даже Пётр Алешковский, тогда уже финалист премии «Русский Букер» (волнуюсь за Петю, – говорил Даур, – теща его на порог не пустит, если он не получит «Букера», в ракушке будет ночевать!), а ныне таки букеровский лауреат, взяв в руки «Колхидского странника», вздохнул:
– Да-а, надо умереть, чтобы тебе выпустили такую книгу.
Однако не каждый, кто держит в руках калам, сможет написать кетаб!
В послевоенном Сухуме такая солидная книга открывала потаенные двери, в очередь на издание выстроились «Кремневый скол», «Невермор» и неоконченный «Феохарис», эссе про Нансена с Амундсеном и другие жемчужины Даура – полное собрание сочинений в нескольких томах… Несокрушимый воин света Циза Гумба добилась разрешения создать писательский музей Даура.
Первым туда полетел свитер с черноголовыми птицами в зеленой траве (как жаль, что я тебе не смогу дать Букеровскую премию за свитер!) Следом светлый парижский плащ Лёни Тишкова с ананасами на шелковой подкладке, который давно нравился Дауру: в нем он мечтал прогуляться по улицам Баден-Бадена.
– Проверь, – просила я Тишкова перед отправкой в музей плаща, с которым он не без сожаления расставался, – не завалялись ли в карманах записки от твоих любовниц? Теперь в этом плаще могут быть записки только от ЕГО любовниц.
– Вот ты и напиши, – Лёня отвечал. – Напиши и положи. Тогда всё будет аутентично.
В роли печатной машинки я подумывала отправить в Абхазию пишущий агрегат Дины Рубиной, полученный ею в наследство от драматурга В. Токарева. До всяких там кино на этой машинке Владимир Николаевич настучал инсценировки «Щит и меч» и «Семнадцать мгновений весны». «Да и я на ней много чего нащелкала», – с грустью говорила Дина, уезжая в Израиль и обменивая этот свой увесистый черный, потертый, матерчатый чемодан с вычурной надписью «DIPLOMAT», перепоясанный ремнем от брюк ее мужа, на мою новенькую «TREVELLER DE LUX», ибо столь драгоценный антиквариат ни за что бы не выпустили из России.
Но Лёня счел Динину машинку слишком древней, конец девятнадцатого века. Дауру же куда более подобает середина двадцатого. Поэтому мы отправили в Сухум любимую печатную машинку моей мамы «Эрику», к тому времени Люси уже не было на свете.
Экспонаты подхватывал Сид, поэт, океанолог и ловец саламандр. Если он вам понадобился, вы всегда могли обнаружить его на Мадагаскаре или в Сухуме, где Сид регулярно проводил научные литературоведческо-культурологические Зантариевские чтения…
Всё так далеко зашло: меня в Сухум звали, ждали – и очень этим смущали. Никак я не ожидала такой всенародной любви. По случаю открытия музея, периодических юбилеев Даура, выхода его полного собрания сочинений я посылала видеоролики, где с большого экрана обращалась к участникам конференций, а заодно ко всему абхазскому народу, с возвышенными речами, а то и песней.
Лёня ставил камеру, включал мотор и…
– Друзья! – начинала я. – Само существование музея Даура на Земле – торжество величайшей справедливости и благодарности за то, что среди нас жил этот талантливый, самобытный, яркий человек. «Просто ты не знаешь абхазских мужчин, – говорил он мне. – У нас там все такие, независимо от социального положения…»
На самом деле он так формулировал: «В Абхазии любой крестьянин гораздо красноречивее любого московского интеллектуала». И добавлял: «Мариночка, ты очаровательно косноязычна!»
– …Теперь даже не верится, – продолжала я, – что с ним просто можно было гулять по улицам, слушать его рассказы, восхищаться мудростью и витиеватыми выражениями. Я ходила за ним, как Эккерман за Иоганном Вольфгангом Гёте, записывая его изречения. После знакомства фактически с иностранцем, Дауром Зантария, мой русский словарный запас увеличился в десять раз! А он звонил мне и говорил: «Это Москвина? Как жаль, что моя фамилия не Сухумов!»
Лёня снимал меня крупным планом с большой головой, записывая послания жителям Изумрудного города от Великого и Ужасного Волшебника Гудвина, пока этого авантюриста и фокусника не разоблачили храбрая Элли и ее верный Тотошка. Я вышла из аэропорта в Адлере и поискала глазами маршрутку, явно недооценив абхазское гостеприимство. Министр культуры Эльвира Арсали прислала за мной черную машину, лучшую, какая была в Республике. Учитывая волнующую близость моря, я бы назвала ее «Чайкой». Часа через полтора – с ветерком и комфортом (нас разве что не сопровождал почетный эскорт мотоциклистов!) я оказалась на пороге музея в объятиях Цизы.
Всё было ровно так, как мы задумывали: видавший виды письменный стол, машинка «Эрика», на столе несколько страниц «Золотого колеса», лист в каретке с первыми абзацами и с эпиграфом на абхазском: «Господи, припадаю к Твоей Золотой Стопе!», начертанном от руки, чернильница для антуража, кресло, этажерка, абажур, плащ на вешалке. Так и вижу Даура, шагающего в нем по Баден-Бадену, ветер с моря заполаскивает полы плаща. (Есть ли в Баден-Бадене море? Неважно! Горы и море он мог увидеть всюду, это единственное, что ему принадлежало.)
Вместо фотографии бабушки с дедушкой – мы с Лёней улыбаемся приветливо со стены. (Тишкова тоже звали в Сухум, но он ни в какую: «В качестве кого я туда поеду? В качестве мужа лучшего друга их национального героя?») Черноголовые птицы с красными клювами тревожно выглядывали из травы…
А в эпицентре мы с Дауром в обнимку на фоне винтажного комода Лии Орловой, вид у меня легкомысленный и счастливый. Недаром Лия ревновала его ко мне.
– Что я вижу? – она удивлялась. – Откуда в твоем романе эти любовные телефонные разговоры Даура? Ведь он все это мне говорил – на полном серьезе!
– Главное не слова, – успокаивал ее Лёня, – а то, что он в них вкладывал!
Тем временем Циза рапортовала о моем прибытии какому-то важному господину.
– Так долго еха-ала? – тот отвечал по громкой связи. – Пешком можно было за это время несколько раз прийти!
В музей заглянула журналистка из «Вечернего Сухума».
– Встретимся завтра на мероприятии! – гордо сказала Циза. – Марина Москвина расскажет нам о Дауре то, о чем мы не знали!
– …Но догадывались! – та ловко подхватила.
Позвонил Рауф, приятель Даура.
– Приехала? – это он Цизе. – Ну давай, рассказывай!
– Что ты хочешь, чтобы я тебе рассказала?!!
– Какие параметры?.. – интересовался Рауф.
– Это у тебя параметры, – парировала Циза, показав красноречивый жест, которым она велит Рауфу закрыть рот, когда тот во время экскурсий по музею Даура отпускает язвительные реплики.
Всё было расставлено по местам. Не хватало двух-трех предметов: моей кофеварки – я и Даур владели ею по очереди, – охотничьего ножа, подаренного Татьяной Бек:
Я тебе подарила однажды охотничий нож:
Ты на каждую вещь реагировал как на зацепку
Бытия… И как символ зеленый носил макинтош
и на кудри седые прилаживал кепку…
и зеленого пальто фабрики «Сокол», в котором, Даур подозревал, его уже никто не принимал за молодого азербайджанца, но все – за старого еврея…
Он притягивал к себе поэтов, художников и, как выяснилось, готовился быть воспетым резцом скульптора Архипа Лабахуа.
– Сейчас я вам покажу эскиз мемориальной экспозиции, – объявила Циза. – Мы в восторге от этой идеи! – И с этими словами раскинула передо мной большой лист ватмана с изображением Даура на балконе в каком-то барском халате с кистями.
В точности такой балкон и халат имел его приятель Кура по прозвищу Барчук, Даур ему страшно завидовал.
– Выйдет на свой балкон в халате! – он говорил раздраженно.
Друзья подсмеивались над Курой, что у его халата лоснящиеся бока и поредевшие кисти… Даур тоже хотел такой балкон и халат, чтобы в этом халате выходить на балкон и, покуривая, общаться с друзьями и знакомыми… Но у него не было ни того, ни другого.
– Ты провинциал, – говорил Рауф, приехавший в Сухум из Гагры, Дауру – из Тамыша.
– Нет, это ты про-вин-ци-ал, – отвечал Даур. – А я простой деревенский парень!
В один прекрасный день Даур купил-таки себе халат. Как раз он получил квартиру, балкона там не было, и халат у него быстро потерял вид. Но халат он имел, истинная правда. Так что молодой скульптор Лабахуа по прозвищу Сипа, автор культовой бронзовой фигуры пингвина с блокнотом напротив морского порта, по заданию Цизы вылепил полуметровую пластилиновую модель Даура в обломовском халате, вышедшего на балкон и взирающего на этот мир как бы с вершины Эрцаху.
В целом у комиссии по увековечиванию памяти Даура композиция не вызывала возражений. Но тут Барчук, известный в Сухуме телеведущий, заметил, что Сипа, как ни старался следовать исторической правде, ее нарушил, ибо халат у Даура был не до пола, как у самого Барчука, а всего лишь до середины икры, и многие могут подтвердить, что из-под халата у него торчали волосатые ноги.
Тогда Сипа отказался от идеи с халатом и слепил этакого благообразного старца при параде – с умиротворенной улыбкой классика национальной абхазской литературы. Осталось это великолепие отлить в бронзу и привинтить к стенке блочной пятиэтажки, – где, пока суд да дело, красовался фотографический портрет Даура – с неразлучной сигаретой в руке, до того натуральный, что один простой человек принес и поставил ему бутылку шампанского со словами:
– Возьми, Даур, дорогой, я знаю, ты любил это дело.
Однако снова вмешался злой рок в виде вездесущего Рауфа.
– Голова Даура, торс мой! – сказал он.
Пришлось бедному Сипе засучить рукава и уплотнять фигуру, поскольку, в отличие от долговязого Рауфа, Даур Зантария был мужчиной крепкого телосложения, но невысокого роста. То он заявлял: «Я легкоатлет, просто не могу быстро бегать». То возмущался: «Почему ты смотришь на мой нос, я боксер, у меня сломан нос, смотри мне в глаза!»
Он был корпулентный и одновременно хрупкий. Например, мы никак не могли ему выбрать рубашку в универмаге: у него объем шеи не соответствовал общему размеру и длине рукавов.
– Не смотрите, что у меня толстая шея, – сказал он продавщице. – Меня очень легко задушить.
Кстати, Даур воспринял бы на ура любой вариант, особенно где он аксакал с седою бородой, высокий, стройный, благостно взирающий на благодарных земляков. Но, как говорил Бернард Шоу, цивилизация – отличная идея, только надо, чтобы кто-то ее осуществил!
Сипа не знал Даура по молодости лет, а весь Сухум знал. Он был для них живой, взрывоопасный, счастливчик и страдалец, братуха, гений, ничего особенного, что с ним все носятся? Свой в доску и непостижимый.
Судя по пингвину на набережной, Сипа исповедовал обтекаемый стиль, а Даур – тот еще тип, с лица необщим выраженьем. Крутолобый, с массивной головой, на лбу три глубокие морщины мыслителя, над переносицей – морщина гордеца, сумрачные брови, взгляд из-подо лба, глаза сверкают, будто отражают костер, видимый ему одному. Всклокоченная шевелюра. В парикмахерскую не ходил, ждал, когда я освобожусь – его постригу.
– Я оброс, – жаловался Даур, – и теперь похож на Бетховена в абхазском исполнении. Что мне делать? Идти в парикмахерскую по сравнению с твоей стрижкой – все равно что отправиться в публичный дом вместо родного дома. Я понимаю, ты очень занята. Это я только и делаю, что ращу себе волосы.
Потом звонил:
– Ну вот, теперь совсем другое дело. Шагаю по улице – все смотрят на меня, говорят: «Сам так себе, но прическа – пиздец!»
К черту подробности, пусть непохожий носом и губами (хотя неплохо бы!), но дух, но характерный жест… Как зафиксировать его изменчивый облик?
Сипа учел все пожелания, исправил недочеты, ему не терпелось уже побыстрей разделаться с Дауром. А тут Адгур явился в мастерскую посмотреть, как продвигается скульптура.
– Знаешь, – сказал он задумчиво. – Живота не хватает. Живот надо сделать покруглее.
– Аааааааааааааааа… – застонал Сипа.
Так важная комиссия по увековечиванию вконец потеряла почву под ногами.
Все ждали меня, чтобы я вынесла свой вердикт.
Я выступила в телепередаче Куры и шагала в приподнятом настроении. С набережной доносились музыка, шум прибоя, запах турецкого кофе. Люди узнавали меня, улыбались, окликали:
– Вот ты говорила о Дауре, а я знал его, интерррр-ресный был мужик, но СВОЕОБРРАЗНЫЙ…
Лукавые и простодушные, цыганистые, отрешенные, исполненные зловещего обаяния – навстречу мне шествовали герои «Золотого колеса». В тени раскидистой шелковицы за густой цитрусовой изгородью держали совет умудренные старец Батал и полу-старец Платон, имевший в молодости пагубное пристрастие к конокрадству. Стремительно промчался мимо на велосипеде неутомимый миротворец мосье Крачковски, за ним в клубах дорожной пыли бежала говорящая дворняга Мазакуаль.
Номенклатурные работники, мудрецы, поэты божьей милостью и романтические бандиты останавливали меня на каждом шагу, рассказывая байки о Дауре, накрывали столы, наливали чачу…
– Ты нам показала Даура с какой-то другой стороны, – говорили мне, – мы ведь не знали! Он свой, наш, и вдруг оказывается, он у нас великий писатель…
Пятками наперед под кронами расцветающих магнолий ступала Владычица Рек и Вод.
– Все эти годы – война и все остальное, – бормотала она, – мы совсем не говорили о любви… Ты нам напомнила о ней!
И в гуле греческого хора послышался знакомый хрипловатый голос корифея:
– …Мне показалось, ты меня стала забывать Мариночка, моя золотая, хотелось как-то напомнить о себе н е н а в я з ч и в о…
«…Райские птицы летали косяками над небом Абхазии».
«А Истина, – так говорил Даур, – заключается в том… в чем она заключается!»
Рина Зеленая
ХХ век
Десять лет спустя…
Двадцать лет спустя…
Тридцать лет спустя…
…дитя.
Александр Иванов. «Рине Зеленой»

Я ищу осколки, обрывки, клочки, все, что заключает в себе хотя бы крупицу драгоценного металла – что может воскресить душу и тело. Во мне живут тысячи людей. Некоторых давно уж нет на свете. А во мне они продолжают разговаривать неповторимыми голосами, читать стихи, петь, смеяться, играть на гитаре, праздновать Новый год, танцевать на столе чарльстон – в общем, жить полнокровной жизнью, временами даже счастливой.
Меня интересуют чудеса этой жизни – в зримом и незримом. Таинственные человеческие существа, которые становятся источником мощных потоков иррационального.
Такой была актриса Джульетта Мазина, такими были ее Джельсомина и Кабирия у Федерико Феллини. В межцарствии между мирами – враждебном и до потерянности нежном – жила рядом со мной гениальная артистка Рина Васильевна Зеленая.
Ее боготворили все – от академика до распоследнего забулдыги. Как я осмелилась ей позвонить? Восьмидесятилетней актрисе! И зазывать не на заглавную роль в художественный фильм, чего она всегда ждала. А в какую-то детскую телепередачу!
– Здравствуйте, Рина Васильевна, – радостно сказала я. – Как ваше здоровье, как ваше настроение, не согласились бы вы принять участие…
– Здоровья у меня никогда не было, настроение плохое и лучше не будет, – ворчливо отозвалась она. – …А что я должна делать?
– Ну, что-нибудь расскажете веселое и споете, – говорю, наступая прямо на хвост тигру.
– Никогда и ничего такого веселого в моей жизни не было! – сказала она возмущенно. – И до каких, интересно, пор мне самой себе все выдумывать? Сколько ни танцую, пою, говорю – все придумываю сама себе! Я Геннадия Гладкова с 1902 года прошу, чтобы мне песню написал. Ему в одно ухо влетает, в другое вылетает. Кто еще будет в передаче?
– Юрий Энтин.
– Энтот Энтин Очень Энтиллигентен, – продекламировала Рина.
И быстро добавила:
– Это не мое. Можете ему передать, но не ссылайтесь на меня. Скажите энтому Энтину, чтобы сочинил для Рины песню. Или, может, у него уже есть какая-нибудь – завалящая? Чтобы ее назавтра пели все…
Рина Зеленая знала, у кого спрашивать песен. Мало кому удавалось покрыть себя столь неувядаемой славой, как Энтину и Гладкову с их «Бременскими музыкантами», где Олег Анофриев распевал на все голоса недетским тембром: «А кто увидит нас – тот сразу ахнет! И для кого-то жареным запахнет. А кое-что за пазухой мы держим… К нам не подходи-и, к нам не подходи-и-и – а то зарежем!!!»
Я позвонила Энтину, уверенная, что Юрий Сергеевич будет в восторге от моего предложения. Естественно, мы не были знакомы, но мне рассказывали, как Энтин сочинял песню Маркиза для фильма «Достояние республики». Незабываемый эпизод, когда Андрей Миронов в зените своей артистической славы фехтует с пареньком, напевая: «Шпаги звон, как звон бокалов, с детства мне ласкает слух…» В апофеозе там такие слова:
Эх, народец нынче хилый, драться с этими людьми…
Мне померяться бы силой с ЧЁРТОМ, чёрт меня возьми!..
Но Миронову чего-то не хватало. – Вы, наверное, не дочитали сценарий до конца, – сказал он поэту. – Мой герой кончает жизнь трагически…
Ни слова не говоря, гласит легенда, Энтин удалился на кухню и сочинил последнюю строфу:
На опасных поворотах
трудно нам, как на войне,
и, быть может, скоро кто-то
пропоет и обо мне:
«Вжик-вжик-вжик, уноси готовенького…»
Миронов молча обнял его. Так же, я думала, Энтин кинется со всех ног выполнять просьбу Рины Зеленой.
– Для Рины? Ни за что! – вскричал он неожиданно.
Старые счеты. В «Золотом ключике» Рина сыграла трехсотлетнюю черепаху Тортилу. Она должна была восседать якобы на огромном листе кувшинки, а на самом деле на резиновой камере от колеса МАЗа. Вода – пять градусов, колесо крутится, качается, кресло с берега подтягивают на веревке, вокруг лягушки…
– И вы хотите, чтобы я туда попёрлась? – возмущалась Рина.
Глядь, она уже плывет по болоту на колесе и поет песню на слова Энтина, которую каждый из нас слышал сто тысяч раз и знает наизусть:
Затянуло бурой тиной
Гладь старинного пруда…
Ах, была, как Буратино,
Я когда-то молода.
Был беспечен и наивен
Черепахи юный взгляд.
Все вокруг казалось дивным
Триста лет тому назад…
– Когда по радио на полном серьезе диктор объявляет: «Романс Тортилы. Исполняет Рина Зеленая», я себя чувствую тенором Большого театра, – говорила Рина Васильевна.
Оказывается, жаловался Энтин, в арии Тортилы, имелся пятый куплет.
Слова были такие:
Старость все-таки не радость,
Люди правду говорят.
Как мне счастье улыбалось
Триста лет тому назад…
Шедевр. Огласить эти слова Рина Зеленая категорически отказалась.
Не знаю почему, но уже тогда, в 1982-м, я ее поняла. Но и безутешный Энтин достоин был сострадания. «Романс Черепахи» слышался из каждого окна. Его без конца крутили по радио, показывали по телевизору. И всюду без этого пронзительного четверостишия.
– Я ей человеческим языком объяснял, – бушевал Энтин, – это ж не вы, это че-ре-па-ха! Она и слышать ничего не хочет. Спела без куплета. Теперь его никуда не вставить – и фильм, и пластинка вышли без него.
Что мне было делать? Звоню Рине.
– Песни нет? Энтина нет? И никого, кто написал бы для меня хоть когда-нибудь что-нибудь хорошее, хронически нет? На всем белом свете? Я так и знала…
Все у меня внутри оборвалось от этих ее слов. Будь я не Москвиной, а Бородицкой, сама написала бы для нее песню. Стала бы мыть посуду после обеда и сочинила. Ладно, думаю, скажу хотя бы на прощание что-нибудь хорошее. Как раз мне дали почитать ее «Разрозненные страницы». Кстати, она там пишет:
«…К моим выступлениям на телевидении я до сих пор отношусь с чувством ненормального беспокойства и тревоги. Я совсем не сплю за две недели до и одну неделю после выступления. …Поэтому, когда кому-то придет в голову желание обязательно включить в передачу Рину Зеленую и очень ласковый, обычно женский, голос по телефону просит меня выступить по телевидению, я в первое мгновение трусливо отвечаю: „Нет!“ Потом совесть побеждает страх и заставляет спросить, что именно мне предлагают сделать. И слышу ответ:
– Сделайте что-нибудь…»
Ну я и сказала:
– Прочитала вашу книгу – с наслаждением.
– Да? – недоверчиво спросила Рина Васильевна. – И что же в ней такого? Все как с ума посходили. …Вы заметили, что она грустная?
– Конечно. Смешная и грустная, настоящая.
– Мне звонил министр культуры, – она немного смягчилась. – И мне даже не пришло в голову его о чем-нибудь попросить.
– Та же история с Горьким? – в книжке Рина приходит в гости к Максиму Горькому. И он ее спрашивает, как сказочная золотая рыбка: «Чего тебе надобно, Рина?» А у нее – ни кола, ни двора, ни постоянной работы. В питерском «Балаганчике» вместо денег протягивают ведомость: «Распишитесь, товарищ! С вас рубль семьдесят пять копеек. У театра крыша протекает».
В Москве она пела и танцевала в ресторане и в ночных кабаре. В подвале нашего дома в Большом Гнездниковском переулке было первое в России кабаре «Летучая мышь». Рина изображала там ресторанную певицу с пышными формами, причем сама придумала и раздобыла себе надувной бюст. Перед выходом на сцену она его надувала, прицепляла и пела:
– В царство свобо-оды доро-огу
Грудью… Ах!.. Грудью проложим себе…
Потом выпускала из него воздух, сворачивала, прятала в сумку и бежала в кабаре «Нерыдай». То же и в кино. Всю жизнь ждала роль, а режиссеры предлагали только эпизоды. Пожалуйся она тогда Горькому:
«Эх, Алексей Максимыч, все у меня шиворот-навыворот. Кино я обожаю. Но это любовь без взаимности, моя боль. Мне ужасно не везет. То, что я сыграла в кино, только в лупу можно разглядеть. Ни моя секретарша в „Светлом пути“, ни моя гримерша в „Весне“ даже в титры не попали! Смилуйтесь, Алексей Максимыч, похлопочите…» – и судьба сложилась бы по-другому.
Но она ответила:
– Что вы, у меня всё есть, ну просто всё, о чем можно только мечтать…
И судьба сложилась так, как сложилась.
У меня в сценарии ведущий задавал вопросы. Кто лучше ответит, получит приз: лично от живого бурого медведя Амура – билет в Театр зверей Дурова. С вопросами тянулась ужасная канитель. Режиссер требовал комплект из яркого неожиданного вопроса и остроумного, блистательного ответа. Любые мои придумки он с лету забраковывал. Пришлось умолять Лёню Тишкова, тогда уже всемирно известного карикатуриста, хотя он работал простым врачом-терапевтом в седьмой городской больнице, помочь мне хоть как-то соответствовать столь высоко поднятой планке.
– А бывают такие слоны, что их можно в коробочку посадить? – звонил он мне с работы. – …Бывают, – сам же и отвечал, – если они сделаны из мухи!
– Какой любимый праздник у пауков? – он спрашивал ни с того ни с сего. – Не знаешь? Первое мая.
– Почему? – я искренне удивлялась.
– К первому мая все мухи просыпаются.
– Ну-у, брат, не очень, не очень…
– Ладно, – он делал второй заход. – Какой любимый праздник у пауков? …Новый год. Наверно, ты спросишь – почему? Можно повисеть на елке, как игрушка.
– О, уже лучше…
– Ладно, какой у пауков любимый музыкальный инструмент? Не догадываешься? Гитара.
– Почему?
– В ней есть специальная дырка для паутины!
Единственное, что мне самой удалось придумать, – вопрос для Рины Зеленой: можно ли утихомирить ребенка, если все испробовано и ничего не помогает?
Я живо представила, как она ответит: «Да. Очень просто», усядется в кресло, дети соберутся вокруг нее, как лягушата вокруг Тортилы. И она, особо не заморачиваясь, перескажет главу из своей книги, где они с племянником Никитой сочиняют стихи.
– Прелестный эпизод, – согласилась Рина. – Но он не для детей: детские стихи, автор – ребенок, это история для взрослых. А главное, – добавила она грустно, – я стала не любить свое лицо. Я никогда не боялась телевидения. А теперь просто не хочу себя видеть на экране.
– У вас любимое лицо, – сказала я.
– Ладно, – вздохнула Рина. – Когда вы мне позвоните, чтобы я вам отказала? Звоните и сразу говорите, что вы с телевидения, чтобы мне о вас уже не думать.
– Забудьте обо мне.
– Э, нет, я уважаю чужой труд. Пока, девочка. И спасибо вам за любовь.
Теперь мне встреча с ней кажется чудесным сном.
Лишь надпись на конверте гибкой грампластинки – крупным почерком зеленым фломастером – не дает моей истории о Рине превратиться в сказку. Иногда я завожу ее, просто услышать, как черепаха Тортила произносит своим неподражаемым голосом: «Если люди думают, что счастье – это деньги, а деньги – это счастье, они никогда не получат от меня Золотого Ключика…»
Видит бог, я старалась раздобыть ей песню. Я пыталась дотянуться рукой до звезд – в прямом и в переносном смысле. Чтобы затеять разговор с композитором Владимиром Шаинским, специально написала для него сценарий телепередачи «Утренняя почта».
За день до съемок явилась на рекогносцировку: дом вверх дном, мячи, гантели, спортивные снаряды… Рояль Petroff завален нотами, пластинками, книгами о спорте, пчеловодстве. А сам Шаинский на фоне большой фотографии, где он со вскинутыми над головой руками приветствует ликующую толпу, понуро сидел в кресле, уставившись на телефон. Композитор переезжал, дом рушили, отопление и воду отключили, связь с миром оборвана, короче, Армагеддон.
Мы давай думать, как он встретит телеведущего Игоря Николаева.
– Можно я буду в узбекском халате и тюбетейке? – встрепенулся Шаинский. Все это напялил на себя – узбек! С шипастой и сушеной рыбой-шар в руках.
– Я бы хотел, – сказал он озабоченно, – пользуясь случаем, показать по телевизору мои подводные трофеи, которые я наловил у берегов Кубы со своим подводным ружьем. Вы знаете, что я лицом к лицу встретил барракуду? Она так лениво подплыла ко мне, я испугался и удрал. Я и мурену видел, – похвастался Шаинский. – Ей, правда, было не до меня. Она проглотила морского окуня, а тот выпустил плавниковые шипы. Ни выплюнуть, ни проглотить. Так и погибли оба на моих глазах…
– Рыбу-шар мы покажем так, – говорю, чтобы отвлечь его от мрачных воспоминаний. – Вы скажете Николаеву, указывая на кресло: присаживайтесь, Игорь. Он сядет и сразу вскочит. Вы: «Осторожно! Это же рыба-шар, мой подводный трофей!»
– Здорово, – радовался Шаинский. – А как мы покажем моего кота Дюдю?
– Так же!
За стеной мальчик Йося, видимо, из-под палки, разучивал «Волынку» Баха.
– Йоська, с душой! – крикнул Шаинский. – Не хочет заниматься, стервец. Играть по часу в день, – крикнул он, – все равно что не играть вообще! Не меньше четырех часов сидеть!
В десять вечера мы вышли на улицу. Шаинский на ночь глядя ехал записываться на радио – без пальто.
– Зима… – я напомнила ему.
– А! – отмахнулся он. – Иначе совсем обалдею.
Во дворе со скрипом раскачивался единственный жестяной фонарь, и наши огромные тени заметались по стенам. Он крутил руль и напевал что-то бравурное.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!