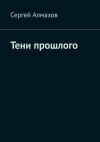Читать книгу "Сергей Прокофьев. Солнечный гений"
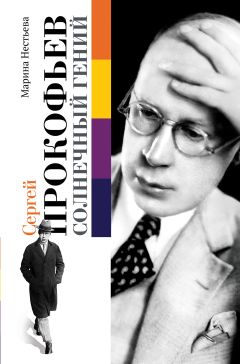
Автор книги: Марина Нестьева
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
Провидение оберегало композитора. Мария Григорьевна, которая лечилась на Кавказских Минеральных Водах, обеспокоенная ситуацией, вызвала сына к себе, где он застрял, отрезанный мятежом на Дону, на целых девять месяцев. По правде сказать, странно читать благодушные строки в письмах оттуда в атмосфере всеобщего хаоса и разрушений: «Ессентуки – благодатный край, куда не докатываются волнения и голодовки, где жаркое солнце и яркие звезды, где спокойно можно инструментовать симфонию…» (7; 168). Главное – последняя реплика о возможности спокойно работать. Этот аргумент всегда побеждает. Однако вынужденный «рай» начинает в конце концов тяготить активную натуру композитора, и он счастлив вырваться из пленения.
Ориентироваться в новых условиях Прокофьеву неимоверно сложно. Не только потому, что он никогда не был близок к социальным проблемам. Сейчас предстояло сделать выбор; Сергей Сергеевич опасался, что ни он сам, ни его искусство не впишутся в эти новые условия, то есть просто не будут востребованы, что для него равносильно смерти. Помог случай, его познакомили с самим председателем Наркомпроса Анатолием Луначарским, которому молодой композитор и заявил о своем желании выехать за границу. Сначала нарком был шокирован: покинуть Россию в такой исторический момент! Но Прокофьев не растерялся: «Я много работал и теперь хотел бы вдохнуть свежего воздуха… физического воздуха морей и океанов», – лукаво уточнил молодой композитор. Все-таки в этом диалоге морально победил Луначарский: «Вы революционер в музыке, а мы в жизни, – нам надо работать вместе»(7; с. 176). Но выехать за рубеж разрешил. Прокофьев получил заграничный паспорт и командировку «по делам искусства и для поправления здоровья». Уезжая, Сергей Сергеевич рассчитывал не задерживаться в дальних краях. В отличие от многих своих соотечественников, он не собирался покидать Россию насовсем.
Для Прокофьева начался новый этап – странствия. Человек очень динамичный, композитор обладал, несомненно, чувством риска и еще не известно было, что более авантюрно – оставаться в России в нынешние времена или окунуться в совершенно незнакомый чужой мир. Исполненный надежд, он верил в свою звезду, считал, что способен покорить планету. Это настроение своеобразно отражает альбом, который Прокофьев несколько позже завел для своих знакомых и где они должны были ответить на вопрос: «Что Вы думаете о солнце?» Вновь в нем заговорили «сонцовские гены».
В этом альбоме мы найдем автографы поэта Маяковского, певца Шаляпина, пианиста Артура Рубинштейна и даже шахматиста Хосе Рауля Капабланки. Вот два образца оттуда:
«Солнце – это жизнь, мы счастливы, когда видим его; когда же оно остается скрытым в облаках, уныние поселяется в моем сердце» (Капабланка).
«Лучше всего я постигаю Солнце благодаря нескольким гениальным личностям, с которыми имею счастье быть знакомым. Король-Солнце сказал: “Государство – это я!”. Вы, мой дорогой Прокофьев, могли бы сказать: “Солнце – это я!”». (Артур Рубинштейн). (23; с. 110).
Оба отзыва были получены композитором уже в Нью-Йорке.
В момент отъезда Прокофьев – уже сложившаяся исполнительская индивидуальность. Поэтому, прежде чем устремиться вслед за ним в дальние странствия, попытаемся дать выдающемуся пианисту современности характеристику в этом качестве. Тем более что на первых порах он функционировал на Западе главным образом как пианист.
Глава третья
Прокофьев-пианист
История знает немало композиторов, прославившихся при жизни и в качестве исполнителей. Таковы великие пианисты Моцарт и Бетховен, Шопен и Лист, Скрябин и Рахманинов. Таковы выдающиеся дирижеры – Вагнер и Рихард Штраус, Берлиоз, Малер, тот же Рахманинов. Таков и наш гениальный соотечественник Сергей Прокофьев.
Как уживаются в одной личности художника жажда творчества с искусством интерпретации – такие разные сферы деятельности? Уживаются, как показывает практика, трудно. Всю жизнь, говорят нам свидетельства самих художников и их современников, они раздваиваются между двумя призваниями и в конце концов выбирают одно истинное – приходит свой час, и сочетать творчество и исполнительство не позволяют ни время, ни желание целиком углубиться в любимую работу, ни просто силы – физические и духовные.
Порой раздвоение неумолимо преследует весь творческий путь. Вспомним двух крупных композиторов – Листа и Малера. Первый, гениальный пианист, считавший недостаточным свой композиторский талант – во всяком случае, рядом с таким гигантом, как его друг Шопен. Второй в роли незаурядного дирижера открыл много великой музыки слушателям-современникам, но свои развернутые симфонии был вынужден писать во время летнего отдыха; кстати, будучи крупнейшим интерпретатором оперных произведений, он так и не написал ни одной собственной оперы.
Думаю, не ошибусь, если путь Прокофьева назову гармоничным по части соотношения творческого и исполнительского труда. До определенной поры, во всяком случае. Он навсегда сохранил верность фортепианному жанру. Пока позволяло здоровье, любил играть свои произведения сам. Прокофьев-пианист, выступая интерпретатором собственной музыки, открыл всему миру Прокофьева-композитора.
В детстве и ранней юности, как известно, через его сознание прошло огромное количество разной музыки, большую часть которой он «воспринимал пальцами». В том числе, конечно. При гостях охотно импровизировал. Причем безудержная фантазия не давала ему закончить пьесу. И только вмешательство отца или матери освобождало присутствующих от «долгоиграющего» артиста. Однако до консерватории он играл неряшливо, порой грязно, постановка рук была неправильной, рутинная работа над техникой его тогда не интересовала. Только в консерватории сначала скучный Винклер, потом блестящая артистичная Есипова способствовали расцвету пианистического дарования молодого Прокофьева. Ему, конечно, нужен был настоящий наставник, несмотря на то, что пианизм Прокофьева – дар Божий. В таком случае даже не требуются многочасовые занятия. Пальцы как бы сами помнят все.
Он уже знал себе цену как пианиста, когда задумал победить на конкурсе и получить премию имени Рубинштейна, заканчивая консерваторию. Примечательно, что выбрал молодой человек для своей программы – не проверенные произведения, которые, казалось бы, могли показать его с лучшей стороны. Вместо традиционных фуг из «Хорошо темперированного клавира» Баха – труднейшую фугу из его же «Искусства фуги», которую не только было сложно выучить, но и внятно донести до пристрастных слушателей. Вместо классического концерта, дерзкий юноша предложил свой собственный Первый концерт, бросив вызов почтенной комиссии. И наконец, программу завершала фантазия на темы из «Тангейзера» Вагнера – Листа, где Прокофьев продемонстрировал головокружительную, феноменальную виртуозность. Уже говорилось – он победил на этом конкурсе.
Стремление победить публику, однако, не всегда встречало благожелательную реакцию. «Говору и толков – масса! – комментировал одно из выступлений его друг Борис Асафьев,– кто «за», кто «против», но все чувствуют, что идет сила и талант, а кому не любо – убирайся. Педанты… вопят изрядно и упорно не желают взять на себя труда просто внимательно, без предвзятости послушать, а только ругаются»(7; с. 114).
Славу молодой Прокофьев прежде всего завоевал пьесами для фортепиано в своем собственном исполнении. Облюбовав этот инструмент с детства, он всю жизнь использовал фортепиано для утверждения новаторских творческих идей.
Уверенно, даже демонстративно отказываясь от изысканно-утонченной манеры предшественников – таких как Скрябин и Дебюсси, – Прокофьев нередко использовал фортепиано для словно трибунных, «ораторских» выступлений. Недаром недоброжелатели юного музыканта обвиняли его в «маяковничаньи» – эта ссылка на Маяковского-поэта объединяет эпатирующие тенденции в его пианизме с сенсационными выступлениями русских «кубо-футуристов».
Мнения о Прокофьеве резко разделяются и когда он выезжает за рубеж. Более всего желая играть собственную музыку, молодой пианист вынужден будет, по настоянию менеджеров, включать в программу давно известные и привычные вкусу публики «чужие» произведения. И все-таки рецензенты либо нещадно шельмуют его искусство, либо преподносят юного ниспровергателя основ до небес. Характерны заголовки статей: «Пианист – титан», «Русский хаос в музыке», «Вулканическое извержение за клавиатурой», «Карнавал какофонии», «Беззаботная Россия», «Большевизм в искусстве».
Прокофьевскую игру будут характеризовать как «атаку на мамонтов на азиатском плато», о его пианизме пишут как о механической игре, лишенной оттенков: «Стальные пальцы, стальные запястья, стальные бицепсы, стальные трицепсы… Это звуковой стальной трест» (7; с. 185). После такой аттестации негр-лифтер в отеле предупредительно потрогает мускулы пианиста, приняв его за знаменитого силача.
Сейчас очевидно, что такая трактовка игры молодого пианиста и слишком поверхностная, и слишком односторонняя – большой музыкант заявлял о себе в его игре всегда и повсюду.
Послушаем проницательного Асафьева, который наблюдал за Прокофьевым в течение многих лет: «За арсеналом пик, дротиков, самострелов и прочих “орудий иронии” для меня стал выявляться “уединенный вертоград” лирики с источником чистой ключевой воды, холодной и кристальной, вне чувственности и всякого рода “измов”…» (19; с. 46). Это сказано более всего о музыке великого мастера. Это может быть сказано, судя по сохранившимся редким записям, и о Прокофьеве-пианисте.
А вообще – был ли он склонен к механическому звукоизвлечению, стальным железным ударам? Или это легенда, созданная недальновидными, узколобыми и самоуверенными слушателями? Слишком уж он был чуток к ведению фразы, к построению цельного художественного образа для репутации самодовлеющего разрушителя. Так, может быть, скорее прав в суждениях об исполнительских особенностях Сергея Сергеевича его французский друг Серж Море, который считал, что Прокофьев «был прирожденным пианистом, и все, кто помнит мощное звучание его нервных выступлений, подкреплявшееся безошибочно-уверенной техникой, могут понять, почему его называли “Паганини рояля”» (18; с. 374).
Французский же композитор Франсис Пуленк обращал внимание на мощную и гибкую руку Прокофьева-пианиста, лишь незначительным касанием клавиш способного добиваться звучности необычайной силы и интенсивности. Не об этом ли вспоминал наш Эмиль Гилельс, отмечая особую, неповторимую манеру игры «наотмашь», свойственную только Прокофьеву?
Скорее всего, его исполнительская манера с годами менялась, как бы следуя за зигзагами творческого пути. Это и естественно, имея в виду, что обе линии – творчество и исполнительство – не просто уживались в личности музыканта, но обогащали друг друга, взаимно дополняли. Вот каковы непосредственные и наглядные в своей точности и красноречивости впечатления Асафьева от выступлений Прокофьева на триумфальных гастролях его в России, первых после отъезда за рубеж: «Его игра не может не волновать, потому что она лежит вне обычной эстрадной манеры. При безусловной отделке, она никогда не перестает быть явлением творческого порядка с сопутствующими ему качествами: импровизацией и стихийно-властной убедительностью каждого движения… Облик Прокофьева-пианиста – характерно мужественный. Сдержанность и спокойствие, колоссальное самообладание и непреодолимая сила воли сказываются во всем: и в поступи, и в манере сидеть за инструментом, и в игре… Каждая линия глубоко рельефна, каждая фраза выкована, а вся пьеса – будь ли то большая соната или хрупкая миниатюра, – предстает пред слушателем как стройная закономерно развернутая композиция. Богатство оттенков светотени соперничает с четкостью и тонкостью звукоплетений и с отделкой орнаментов. Прокофьевские характерные росчерки и зигзаги запечатлеваются в памяти, как линии рисунка великих мастеров» (27; с. 326). Интересно, что нам, современникам не только Прокофьева, но и заставшим великого пианиста, Святослава Рихтера, эта характеристика кажется необыкновенно подходящей к его творческому облику. И это естественно, так как именно Рихтера справедливо считают непосредственным преемником Прокофьева-пианиста.
Другой отзыв об игре Сергея Сергеевича – композитора Дмитрия Кабалевского относится к более позднему времени: «Все, что он играл, было проникнуто полнокровием, физическим и душевным здоровьем; все было красочно, оригинально, но нигде, ни в чем никакого преувеличения, никакой резкости, тем более грубости, никакого “скифства”. И главное – все было овеяно искренним, поэтическим чувством, живой человечностью…» (13; с. 57). Кабалевский судил уже о зрелом Прокофьеве, в котором улеглись юношеские чрезмерности. И все же… вряд ли разница между молодым и зрелым пианистом была столь велика, как можно судить по откликам слушающим его в разные годы.
Это подтверждают, в частности, воспоминания, относящиеся к 1915 году, художника Юрия Анненкова, имеющего не только меткий глаз, но и очень чуткое ухо, к тому же способного заметить и оценить, как человеческие свойства личности влияют на творческий облик: «Изобретательный остряк и шутник Прокофьев, высокий, худой, с рыжими и плоскими волосами, с галстуком-бабочкой, забрасывал нас анекдотами и каламбурами, вызывающими гомерический смех. Порой, когда Прокофьев садился у рояля, эти остроты превращались в музыкальное балагурство: способность Прокофьева придавать звукам комический характер, была исключительной и, может быть, единственной в своем роде. Его пальцы виртуоза извлекали из клавиатуры акценты настолько красноречивые и парадоксальные, что у нас создавалось чудодейственное впечатление, что мы слушаем человеческий разговор, а не музыку» (2; с. 206).
Сейчас, когда слушаешь пластинки с драгоценными записями Прокофьева-пианиста, впечатления Кабалевского, Асафьева и Анненкова оказываются очень созвучными. Что бы ни играл Сергей Сергеевич – свою ли музыку или Скрябина, Рахманинова, Мусоргского, – его исполнение отличали звуковая бережность, но не расплывчатость; одухотворенность лирики, но без слащавой чувствительности; идеальное чувство ритма, при весьма свободных и пикантных рубато, изящная дансантность, острая характерность, но ни грана выколачивания; широкая динамическая шкала, но без преувеличений; склонность к непринужденной смене темпо-ритмов – художник театра! – однако без разбивки пьесы на мельчащие ее куски, наоборот, дыхание протяженное и не только в кантиленных местах.
И еще. Прокофьев-пианист прекрасно живописал на фортепиано разными красками, волшебно превращая тот или иной регистр инструмента в специфическую оркестровую звучность. В его игре слышна, осмысленна каждая нота, линия – это тоже выдавало слух композитора, который мыслил многоголосием симфонической партитуры.
Да, «Паганини фортепиано». И все же он, видимо, всегда предпочитал творчество исполнительству. И каждое столкновение с прекрасной «чужой» музыкой почти неизменно давало толчок к созданию собственного сочинения. Напомню о том хотя бы, когда в период влюбленности в музыку Шумана, он, исполняя с удовольствием его Токкату, написал свою собственную, не менее яркую.
Как убедительно свидетельствовала в своих воспоминаниях первая жена композитора, Лина Ивановна Льюбера-Прокофьева, в начале карьеры его пианистическая деятельность оказалась необходимой, причем не только по материальным соображениям: он получил возможность наилучшим образом пропагандировать свою музыку. Постепенно его сочинения, однако, начнут исполнять другие известные артисты, и тогда он станет сокращать свои выступления как пианист, доведя их до минимума, а потом прекратит вовсе.
Желание освоить его музыку Сергей Сергеевич встречал очень охотно и доброжелательно, объясняя, как ее надо исполнять. Интересный пример – советы музыканту-любителю, большому другу композитора и его партнеру по шахматам, Василию Моролеву, «запутавшемуся» в опусе 3: «Шутку надо играть безумно легко, шаловливо, и пикантно; вся пьеса должна пропорхнуть моментально. Тогда она хороша. Марш надо играть с ритмом и блеском. …Призрак исполняется быстро, мрачно и туманно. Это – какие-то неясные контуры фигур в темноте, только в середине какой-то ослепительный луч пронзает темноту, но затем все исчезает также быстро и тревожно, как и появилось» (18; с. 304). После таких ярко образных «назиданий», кажется, всякому захочется попробовать и получится…
Другой пример посерьезнее. Зрелый Прокофьев, у которого не вышел контакт с публикой при исполнении Пятого фортепианного концерта, обращается с доверием и надеждой к авторитету другого пианиста – Святослава Рихтера, тогда еще только восходящего к вершинам славы: «Может быть, молодой музыкант сыграет мой Пятый концерт, который провалился и не имеет нигде успеха?! Так, может быть, он сыграет и концерт понравится?!» (27; с. 462). Сколько здесь трезвой самокритичности и благородного пиетета перед возможным исполнителем – конкурентом! И это при том, что испокон веку авторское исполнение считалось лучшим, единственным и неповторимым, высшим критерием.
Когда мы захотим определить место исполнительства в сложном синтезе прокофьевской личности, стоит обратиться за этим к суждениям известного отечественного пианиста и педагога профессора Генриха Густавовича Нейгауза: «Когда большой композитор творит свои произведения, он одновременно с музыкой создает ее исполнение. Реальное звучание музыки с ее закономерностями, то, что можно назвать ее исполнительским оформлением, совершенно неотделимо от самой музыки… Особенности Прокофьева-пианиста настолько обусловлены особенностями Прокофьева-композитора, что почти невозможно говорить о них вне связи с его фортепианным творчеством. Игру его характеризуют… мужественность, уверенность, несокрушимая воля, железный ритм, огромная сила звука… особенная “эпичность”, тщательно избегающая всего слишком утонченного или интимного… но при этом удивительное умение полностью донести до слушателя лирику… грусть, раздумье, какую-то особенную человеческую теплоту, чувство природы – все то, чем так богаты его произведения, наряду с совершенно другими проявлениями человеческого духа… главное, что так покоряло в исполнении Прокофьева, – это, я бы сказал, наглядность композиторского мышления, воплощенная в исполнительском процессе» (27; с. 440, 443).
Ярко образная манера игры, умение доносить свой замысел до слушателей вызывали у аудитории подчас ответный энтузиазм. А если слушатель был художником, то он мог откликнуться и своим творчеством. Так, фотограф и художник Александр Родченко оставил серию рисунков к циклу из двадцати фортепианных пьес «Мимолетности». Глядя на них, мы словно превращаемся одновременно в слушателей и исполнителей этих мгновенных фиксаций минутных настроений, исполненных переливающейся оттенками капризной фантазии.
А поэт Константин Бальмонт, вдохновленный Третьим концертом Прокофьева в авторском исполнении, написал стихотворение того же названия. Бальмонтовский сонет, отмеченный символистскими изысками, небезынтересен как попытка пересказать средствами поэзии услышанную музыку:
Ликующий пожар багряного цветка,
Клавиатуру слов играет огоньками,
Чтоб огненными вдруг запрыгать языками.
Расплавленной руды взметенная река.
…
Прокофьев! Музыка и молодость в расцвете,
В тебе востосковал оркестр о звонком лете
И в бубен солнца бьет непобедимый скиф.
Музыка Прокофьева, фортепианная в частности, продолжает свое триумфальное шествие по миру. Наследуются и приумножаются его пианистические традиции. Можно даже сказать, что он приобрел, в России во всяком случае, своего рода «детей» и «внуков», словно взявших у него из рук исполнительскую эстафету. Прославились как исполнители произведений Прокофьева Святослав Рихтер и Эмиль Гилельс, Николай Петров, Михаил Плетнев и Евгений Кисин. Называю только некоторых. Первый из них – и по количеству сыгранного, и по качеству исполняемого, конечно, Святослав Рихтер – как бы законный «сын» Прокофьева, продолжавший еще при жизни мастера и на протяжении всего своего собственного пути пропагандировать фортепианное творчество великого соотечественника.
Рихтер сыграл почти все произведения композитора для фортепиано. Он действительно так исполнил провалившийся при авторском исполнении Пятый концерт, что тот имел большой успех. Расчет Прокофьева оказался верным. А когда пианист играл Первый концерт, присутствующий на репетиции композитор, вдохновленный яркой образностью игры Рихтера, даже признался: «А вы знаете, какое я явление наблюдал, удивительное… Когда начались заключительные октавы, знаете, стулья пустые вокруг меня задвигались в том же ритме… Подумайте, и они тоже… Как интересно!..» (27; с. 465).
Рихтер был одним из лучших интерпретаторов фортепианных сонат Прокофьева, он был первым исполнителем многих из них, а Девятая ему впрямую посвящена. Седьмую сонату, увлекшись, выучил вообще за четыре дня и передавал в этой музыке почувствованную им тревожную обстановку потерявшего равновесие мира, где царит беспорядок и неизвестность, где человек наблюдает разгул смертоносных сил (год создания – военный, 1942. – Прим. авт.). Но пианист слышал и воплощал здесь и полноту светлых будоражащих чувств, обращенных ко всем: «Стремительный наступательный бег, полный воли к победе, сметает все на своем пути. Он крепнет в борьбе, разрастаясь в гигантскую силу, утверждающую жизнь…» (27; с. 465). Таков, по Рихтеру, финал этой сонаты.
Сложную внутреннюю жизнь Восьмой сонаты пианист раскрывал перед слушателем во всем ее богатстве. Он сравнивал эту музыку с деревом, прогибаемом от драгоценных плодов. Девятую же любил за другое – за светлую простоту. И играл ее как интимную сонату-доместику.
Рихтер, по его собственному признанию, стеснялся сближаться с Прокофьевым-человеком. Встречи с ним – были встречи с его музыкой. Именно Рихтер вместе с Анатолием Ведерниковым сыграют в четыре руки только что законченную оперу «Война и мир», чтобы познакомить с ней музыкальную общественность.
К творчеству Прокофьева пианист возвращался снова и снова…
Мы же последуем, вслед за молодым Прокофьевым, в разные страны – начинается новый, важнейший период его творческого роста.